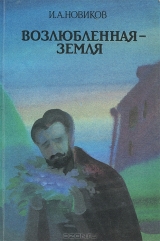
Текст книги "Возлюбленная земля"
Автор книги: Иван Новиков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Кажется, это береза. Я стою и касаюсь руками гладкой коры. И мне чудится – соки и под моею корой также возносят ветвистый фонтан, и я ощущаю сонмом ветвей упругое озеро воздуха, и это плывучее счастье крепит мои ветви… Да, мои ветви невидимые – чувства мои и бреды мои, живую мою благодать. Это уже не созерцание – это огонь это – я сам.
Вдруг что-то упало мне на голову, схватил рукою: прохладная кисть. Не береза – рябина. Я поднял глаза и отскочил, первое, что мне показалось: змея. Но тотчас же я сообразил, что это коса. На верхушке рябины увидел я девушку. Она, наклонясь, глядела на меня и смеялась, черная коса, свисая, покачивалась между ветвей. Смеялась она так же беззвучно, как и сидела там, затаясь, пока я, с собою наедине, предавался своей тишине и безумию. Но рот ее был влажно открыт, два полукруга розовых зубов незатаенно блистали, и от них все лицо было залито смехом. Черные волосы спутались, гроздья рябины алели в их черноте. Солнце ей било в лицо и в жарком потоке алело лицо, губы же спорили с ягодами.
– Ай, испугался? – сказала она, наконец, – я уронила.
Голос был мягкий, грудной; слова, что она уронила, так же были, как кисть, что я все еще не отпускал из горсти, – свежи и круглы.
– Да, испугался, – ответил я и не узнал своего голоса: тоном и ладом своим он был ей под стать. – Я думал, белка или змея.
– Похоже! – протянула она и опять засмеялась. – Здоровый мужик, а как дите.
– Да чья же ты будешь?
– А Королевых.
– Ольга?
– Ну да. Ты отойди, я буду слезать.
Так вот она, Ольга. Как не похожа она на тихую мою кружевницу, которую я представлял, как не похожа она и на ту, которою грезил… Я обернулся. Нет, и похожа. Похожи глаза – голубые! – движения, руки, но красота ее крепче, загаристей, ярче. Шумно встряхнула она короткую юбку и подняла загорелые руки поправить платок, он сбился на шею. Это движение… я помнил его. Так странно явилась мне Ольга. И вот уже несколько дней, как вошла она в душу и не уходит. И вошла она так, как если бы раньше была и – воротилась. Не знаю, какими словами мне это назвать… Да и не хочу называть.
– А ты почем же узнал?
– Я догадался.
– А ты разве тут… Ты из господ?
Так она сразу вскрыла инкогнито. Я промолчал.
– Вижу, что из господ. Ушки какие… Наши-то в поле?
Она подняла узелок, и мы скоро расстались. За книгами, как я и думал, никто не пришел. Я воротился домой, как со свидания. Я разговаривал с сердцем; оно отвечало.
Вдруг показалось мне: дым; потом я прислушался: крики. Глянул в окно: желтоватое, дымное облако тянет над садом. Вышел и услыхал, как трещит. Быстро направился я на деревню. Пламя тонуло на солнце, бледными полосами едва оно прорезало густые, тяжелые клубы мутного дыма. Горело на дальнем конце. Когда я туда прибежал, кровля вилась, как если бы ветер рождался в избе. Это соседи, а рядом изба Королевых. Дети визжали, метались, отчасти и любовались. Старики разбирали баграми ветхую стену, звякали ведра, но в пламени вода испарялась мгновенно. Ольга таскала домашний свой скарб, я кинулся ей помогать.
Но вот на митуту говор затих и потом возгорелся с новою силой. Я обернулся, девочка, плача, что-то показывала прямо в огонь. Я различил только:
– Ленька… на заднем дворе…
Ольга тотчас на полудороге кинула узел и побежала туда, к горевшим соседям. Я крикнул ей вслед, в эту минуту как раз на избу Королевых, плавно, как коршун, села горящая слойка соломы. На зов мой Ольга на миг обернулась, взглянула на крышу, но только еще быстрей побежала туда, где был Ленька. Королёвская крыша тотчас занялась. Я не знал, что предпринять. Кинулся было тушить, ничего одному не поделать. Подхватил и оттащил брошенный Ольгою узел. Потом опять стал кричать, звать. Меня не слыхали. Народ стоял полукругом, Ольги там не было. Я подбежал и тоже забыл про избу. Непостижимо, как она туда кинулась.
– Ох, горячая девка!
– Ох, пропадет!..
– Да как же ты так его там покинула? Девочка плакала:
– Я испугалась… Я позабыла. Леньке, я понял, было два года. Он спал на соломе на заднем.
Тушите ту избу! – крикнул я старикам и побежал, огибая огонь.
Здесь уже выйти нельзя. Может быть – там… ей помогу. У меня замирало в груди. Этот огромный костер и эта девушка там… со страшною силой манило кинуться в самое пламя. Но только что я добежал до плетня, рухнула та полукрыша, под которой обыкновенно был скот. Горячее облако дыма меня обожгло. И в ту же минуту метнулись, как бы из огня, две легких касатки; их быстрый полет я ощутил над своей головой. «Ольга и мальчик погибли, это они»… суеверный огонь пронизал меня. Но еще послышался треск… и новое облако; в нем как бы темнело ядро. Не помня себя, я устремился навстречу. Руки мои натолкнулись на что-то горячее, я быстро рванулся, схватил за плечи девушку…
Мальчик лежал на траве. Скинутый Ольгою тканый половичок, которым она обернулась, дотлевал в стороне. Я быстро на ней обтушил полуобгоревшее платье. Она улыбнулась в полубеспамятстве, губы ее нервно подергивались. Вдруг она зашаталась и одною рукой, ища опереться, закинув ее высоко, обняла мою шею; я осторожно принял ее на себя.
И Королевы сгорели. Старый мой дом приютил погорельцев. Кроме меня, теперь две семьи. Ленька здоров, ожоги у Ольги прошли, у меня кое-что оказалось, и за обоими я фельдшерил. По-прежнему – я в угловой. По-прежнему – ночь, но как теперь все по-иному и какой я – иной.
Дни мои нынче стали полны и ночи жестоки…
Дни мои стали полны – Ольгой, конечно, и ночи жестоки – ею же, Ольгой, самое имя я повторяю неустанно и трепетно. Что же, старик? Да ничего, с собою наедине – не хитри! Разве старик? Я дошел до того, что часто гляжусь теперь в зеркало. Седые виски, но голова не седа. Морщины у глаз, но немного. Я загорел, молодые глаза; губы легли иронически. Но это затем, что я гляжу на себя и разглядываю. Стыдно ли мне? Даже не стыдно. Мне или радостно, или сурово-жестоко.
Есть уголок возле пруда. Там тишина, мирная заводь, и ветки рябины, развесистый куст, Но раз налетел туда ветер, короткий, стремительный, и как он забил и закружил алые гроздья! И было еще; это как сон. Дикая степь, и в дикой степи раскинут костер, и одно только знаю, что Русь, древняя степь, и седая полынь, ровный огонь. И опять налетает скакун, и как всколыхнется, взметнет и затрещит в черную ночь алое пламя! И полосы ночи между огня – как темные косы, как змеи…
И все это – Ольга. Я ее вижу и за работой, и иногда (урвется минутка) за книгой, и как она ловко сидит, болтая ногами, на лошади, и как, сторожа в свою очередь сад, подойдет и положит мне руки на подоконник, и как на подоконнике очутится горка маленьких розовых яблок. Они еще не поспели, но у ранних сортов падалица уже хороша. Она и сама стоит со мной, ест. Лампа ее освещает. Ночь, и из ночи это лицо. Височки мокры от росы, и слышу, как тяжелит ее голову густая коса. Мы оба едим эти яблоки, я ем и гляжу, как у нее сияют глаза и как блестят ее влажные зубы, она – ест и смеется, ей нравятся тоже эти ночные свидания. Разговоры наши несложны. Ее интригует, что я из господ, и она иногда любит поддразнивать. Я помню, тогда – на рябине: «здоровый мужик, а как дитё». Могла бы сказать: «старый мужик», но так не сказала. И больше всего я для нее – «как дитё». Это так и осталось.
Боже мой, сколько я плел и плету всяческих хитросплетений, как потом мучаюсь, как сам себя презираю! А между тем, надо сказать со всей прямотой: я Ольгу люблю. Как это сталось? Я – как вершина, как дуб… Я, у которого все отгорело и пепел рассеяло по ветру… Какие слова, и не только слова! – и вот – я же как мальчик, не только что все позабывший, но как бы еще ничего и не знавший. У меня были дети, жена, над головою прошла революция. Я уже раз закопал, вырыл у дуба ямку и закопал прошлую жизнь. Но я не знал и не думал, что на могиле той зацветут молодые цветы.
Так поступает со мной родная земля, которая шлет мне – очарование. По-человечески это – нехорошо, предосудительно: знаю, казнюсь. Но по-иному… в дыханьи космическом, да, в нем я уже прав. И даже не «прав», там это слово не к месту. И теперь голова моя – горяча, я не боюсь говорить себе многое, раньше того не сказал бы.
Вот мои ночи. Я долго хожу и терзаюсь – я, человек, интеллигент, даже немного… христианин. Это «немного» выдает меня с головой. Нельзя быть немного христианином. Но эта стихия сильна, и от нее не отрекаюсь. Но… но я бунтую – на старости лет. Терзаться? – зачем? Ночь ли терзается? Сад мой, терзаешься ты? И не есть ли в терзаниях – мое отпадение, гордыня моя?
Я говорю: хорошо, что облетела моя мишура, что нищета мне открыла – меня. Но я не морализирую. Кажется, я только теперь приобретаю и еще одну позднюю мудрость: мораль – человека не покрывает, и все мироздание задумано шире, чем в этой диаде: зло и добро. Первый зеленый росток и последний, позднею осенью на холодный покров канувший лист; эта эпоха от прозябания и до уснения, эпоха цветов и любви, зачатия и созревания, – что она знает о зле и добре? И что о добре знают и светят добрые звезды, или о зле, – что повествует нам злой ураган, это с краткою жизнью божественно-дивное чудище, мироголосое?
Так. Но человек?
Сначала спокойно и методически, потом закусив удила: таков мой ночной разговор с собою самим. Разве не знаем, как часто добро развращает и сеет порок, и напротив того, как упорно ко благу ведут на железной цепи и подгоняют ременным кнутом? И самая нравственность? Вспомнишь знакомых людей, самых приличных, и как не сказать: вот человек, который так подло возвысился до… даже не нравственности, а только порядочности и как добродетельно, как самодовольно – ею он сыт!
Да, чего только стоит добро, добытое к старости, после постыдного, а часто и прямо разбойного прошлого, когда уже чаша верхом полна непотребства! Достойной ценой на земле покупается святость… и не есть ли часто она – окаянная святость?
Таков мой покой и так догорает на кроне моей вечернее солнце… Но разве искал я покоя? Земля не покойна и небо в движении. И самое солнце: вечернее – оно же и утреннее.
Нет, я не морализировал о богатстве и прочем. Не то меня радовало, что я его отдал, недорогою ценою купив душевный покой, а радовало – как человека, который скинул обузу, его тяготившую – освобождение радовало. И оттого не хотел новых обуз: здесь, на родимой земле легче быть нищим и вольным… а свобода моя – не непременно покой: может быть, муки, может быть, радость, а может быть, скорая смерть. И вот эти муки пришли, и радость пришла, значит, со мной моя жизнь. Смерть же… Я вспомнил Павлушу, то, что ему не сказал: умереть хорошо – достойною смертью; твердо, спокойно. Так меня учит земля; так меня учит любовь; и так меня учит – Ольга – моя.
Я хотел еще здесь записать о касатках, тех самых, что из огня пролетели над головой. Федор Степаныч, Ольгин отец, сказал мне раздумчиво: – Я этого ждал – пожара, несчастия. Эти касатки к нам прилетали каждой весной. И выводили детей. А в этом году прилететь прилетели, ну а семейства не завели, остереглись. Так я и думал: будет беда.
Не знаю, конечно, но на каком-то мы переломе. Мир наш стал шире, и мы овладеваем пространством, а то, что называем пространство (как посмотреть и как ощутить), не есть ли и время? И вот, я не вижу тут суеверия: касатки, наверное, видели то, чего мы не видим. И где-то, наверное, есть уже то, что придет, и, ступая во времени, мы совершаем свой путь – вернее сказать: по времени; да.
Помню я вечер; недавний. Я был в полях, не у реки. Дикое поле (кажется, что незасеянный пар) лежало таинственное. Низко над ним стояла луна, медлительный щит. Частая сеть частых, как травы, теней серела и поколыхивалась между пустынною зарослью. Это было как степь, давняя, дикая. Жесткие травы: полынь, кустики дикой рябины, желтой ромашки, ржавых под месяцем. Наверное тут были бои, шла татарва и натыкалась на русские копья. И я шел под луной, и времени не было. Было славянское имя, живое и древнее. И я думал об Ольге, и была она так же вот, в крайней избе, и ждала у окна. Может быть, пряла, но и ждала. Степь и бои – недавние, давние: сеча; все это было одно. Но по степи я шел одиноко, была только ночь, сердце – костер, и эта земля; она же и Ольга. Тогда я со всей полнотою впервые почувствовал это: Ольга, она же земля. Оттого-то и никуда мне не уйти.
Так видел я прошлое, и было оно настоящим. История здесь. И когда заглянул я вперед, то увидел… все то же: степь и полынь, и над полынною степью медленный щит, возносимый над темной землей. И впереди – смутно темнел старый мой дуб. А там, на вершине, не вижу, но знаю: гигант – седой и суровый татарник. Не там ли мне лечь?
А мы – не касатки? Ольга и я? Также и мы, не вьем мы гнезда, мы только любимся. Я написал это слово, как если б и Ольга любила меня. Безумие? Нет! Что же мне делать, если и это – я чувствую? Трудно писать. Ты не обманешь меня? Ты меня не обманешь, земля?
Земля не обманывает. Сердцем, душою, всем существом я тебе предан, земля. Такую ли верность – обманывают? Нынешний день – знаменательный день. Степь и курган, битвы, татары… Чего же еще не хватало, – разве что клада? Так все и вышло; только в России живы еще чудеса и необычайности. В поле вязали. Завтра Илья, грозный, громовый пророк. И не только пророк, между святых он как бог, древних отцов древний Перун, доселе живущий и в христианстве нашем, проблематическом. Надобно чтить богов своих предков, завтра никто и не выглянет в поле. Нынче же спешка, дом мой с утра начисто пуст, даже белоголового Леньку мать унесла.
Я не пошел, мне захотелось остаться, подумать; вернее: додумать. Пишу для себя, а потому ничего не скрываю. Библия, старцы и жены их молодые… Разве земля уже стала не та? Да и я – что я за старец? Мне пятьдесят четыре; полвека; но когда говорю: сорок два, мне еще верят; стало быть, сорок; а когда я люблю, мне и не сорок, а двадцать. Так говорит веселая моя арифметика, а вместе с ней такова и веселая правда моя.
Мне еще не было и двадцати, и только тогда я любил, как нынче люблю. Ольга из Мокрого… Все же, что было потом: и заграница, и голубые воды Италии, и вкус и изящество, вся моя умная жизнь, и умная любовь моя, ее освещавшая, как освещает гостиную умная вещь электричество, все это было не то. Отныне живу я под солнцем и только тут, наконец и опять, я в родимой стране: Перун в вышине, земля под ногами и человек – как он есть. Вот почему пришел я – домой. И кто эту землю может отнять у меня? О, никогда сразу не знаешь, зачем и куда ты идешь…
Да, хорошо. А что скажет Ольга? А Ольгин отец? А Ольгин жених? Жизнь на земле все же не такова, чтобы поднять и унести на крылах… Вдруг я откинул романтику (странно, как настоящую правду зовут у нас вымыслом)… Прежде всего, этот пожар…
Да, но однако: как ни на минуту не скажешь, что подвиг. Сгорела изба, сгорело приданое, а Ленька соседский спасен. Где я найду такую еще простоту, которой не надобно этих венчающих слов? А все же – пожар, и богатый жених, и… нищий сапожник.
Самая трудная вещь – это додумывать. Где же исход? Но голова не всегда – первая вещь, и иногда голова – устает. Я дал себе отдых и машинально начал переставлять книги в шкафу. Это занятие немного меня успокоило, и я стал наводить полный порядок. Вдруг в одной книге нашел я письмо. Конверт был из серой бумаги, и запечатано оно сургучом. Я перевернул и увидел свое полное имя; адреса не было.
Все это было столь неожиданно, что я не сразу его распечатал. Я оглядел самую книгу. Это была «Цветная Триодь», старая, бывшая в сильном употреблении (теперь же ее никто ни разу не взял, иначе бы увидали письмо). На синей, с разводами, внутренней стороне переплета было рукою отца написано по-старинному «с хвостиками»: «Ивану Егоровичу Поликарпову в ознаменование его двадцатилетней беспорочной службы».
Я вспомнил тотчас и самого Ивана Егоровича, бывшего у нас вроде старосты, и тогда уже немолодого и бессемейного, действительно, преданного нашей семье – на редкость; и встал пред глазами путаный почерк его длиннейших реляций, которые он нам присылал, сначала отцу, а позже и мне. Я еще поглядел и убедился: имя мое на конверте написано им.
Я распечатал письмо; там старческою дрожащей рукою было изображено:
«Милостивый мой государь, не знаю, куда вам адресоваться. Слышно, в Москве, но не ведаю, где именно, в смутное время наше дознаться не мог. Народ очерствел, и самое имя господское лишь с неохотою могут выслушивать. Я вам доношу на случай иных, благоприятных времен, и уповая, что строки сии так или иначе достигнут. Берег от разбойников ваше добро, насколько то было возможно рукам человеческим, а самое главное – как-то фамильные драгоценности наши (то есть вашего батюшки и вашего дедушки), кои до сей поры в доме у нас пребывали, а также и свой пожизненный капитал, от вашего и вашего батюшки старания приобретенный, в количестве 139 (ста тридцати девяти) золотых десятирублевого достоинства монет, коими прошу и завещаю распорядиться, надежно я запечатал в кованый, с медными скрепами, ваших отеческих предков ларец (изволите вспомнить, как вам оный по осени для накопления спелых орешков предоставляли) и темною ночью по тайности отнес и закопал на кургане под дубом, на восхождение солнца пять шагов и налево два с половиной, там малая ямка и зарастает бурьяном, невозможно заметить».
Каюсь, я дальше сразу не дочитал. Земля для меня хранила подарок, под дубом был клад! Тысячи мыслей и предположений зароились в моей голове, все теперь странно счастливо переменялось. Я быстро, как мальчик, несколько раз перевернулся на одной ноге и выбежал из дому.
День снова был жарок; парило, к ночи могла быть гроза. О, как мне было радостно, бодро, как скоро я зашагал. И об Иване Егоровиче мало я думал, а это письмо было ко мне как бы из гроба; и раньше я знал уже, что умер старик в запрошлом году, в нищете, одиноко. Молодость думает только о будущем, а мне было молодо и передо мною жизнь убегала вперед, как эта веселая лента веселой дороги… Издали я кивнул головой старому дубу, я знал теперь тайну, которую он сохранил для меня.
В поле таскали снопы. Павлуша, увидев меня, издали мне замахал, как ветряк, худенькой темною ручкой… Ольга, как старшая, клала крестцы. Я подошел прямо к ней.
Я ей хотел сразу сказать и выложить все свое счастье, но ничего не сказал, только сердце мое задрожало, шумя золотой моей радостью, как этот в руках ее сноп, зыбко-текучий, тяжелый. Радость была золота не от тех золотых, что таила земля, а от золота счастья. Оно прилило, пришумело и веселою пеной залило грудь.
– А ты не умеешь, – сказала мне Ольга. – Ну-ка, клади.
Я не умел, но все же уверенно клал сноп за снопом; Ольга спокойно меня поправляла. Так оба мы строили, крестец за крестцом, общий наш дом. Мы выстроим избу и будем там всеете. Я в эти минуты забыл и жениха, и себя; было такое полное счастье – строить свой дом, и мы никуда из него не уйдем, и никогда не разлучимся.
Снопов было много натаскано, и Павлуша теперь доносил только самые дальние. И он, маленький мой и родной, включался сюда же; мы уже были – семья. Еще издали нам сверкали его темные глазки и издали он кричал отрывочками (трудно ему со снопом):
– Цапля! Я видел… тяжелая… ух ты! От самой низины… над Красными Горками!..
В другой раз он мне прихватил с края поляны, забегающей в поле, голубой пучок вероники; веточки сбоку перегоняли верхушку.
– Вот и недаром, знать, про нее говорят: враг головку откусил, бог отросточки пустил. И отчего это так, и уж, наверно, лекарственная…
Этот цветок – он и сейчас передо мной. Копны росли. Новый крестец сложен был вполовину, Павлуша далеко. Мы одновременно с разных концов каждый склонили свой сноп. Они пересеклись, острою гривкой встали колосья. Опять и опять этот ее, обнимающий жест: Ольга закинула руку поправить… Ловко она свой приподняла и прикрыла мой сноп. Потом перегнулась ко мне, и из-за ржи я видел лицо ее, руки и стан; смотрела она как через окошко. И так помолчала, глядя мне прямо в глаза.
– Одно хорошо, вчера отказали, больше не сватают. Очень бедна!
Эти слова проговорила она с такою серьезностью, как никогда, но мгновенно потом такою же, как никогда, полною радостью через снопы переплеснули глаза, дрогнули губы, и она засмеялась, негромко, счастливо.
Я схватил ее руки и крепко их сжал. Она и не отняла, и не удивилась.
– Ольга…
Я только и мог назвать ее имя.
– Ну, знаю, – сказала она почти что сурово, – клади теперь накрест.
Крест-накрест. И неразрывно. Как неотрывна земля; родная земля. Как хорошо, что ничего не сказал. Ее не купить. Какое великое счастье! Трогаю губы, на них все еще кровь. Гляжу и улыбаюсь. Это я шел и вылущивал рожь; остью немного оцарапал язык. Но ничего, это мое земное причастье…
Завтра пойдем. Мы поглядим вместе с Павликом. Под дубом лежит и его медицина; под дубом зарыта – изба. Наша изба. Я не верю себе, как я спокойно все записал. Но на душе – тишина – тишина… до самого дна. Завтра, быть может, Перун загремит. Тучи бесшумно плывут на вышине. Ольга за стенкою спит. О, темная ночь, славянская! О тишина, о земля моя – возлюбленная!.. Как нежны, земля, объятия рук твоих, как неотрывны! Я подлинно в них как ребенок, дитя…
Перун загремел и отгремел. Лежу и не знаю, смогу ли и записать, дописать. Голова тяжела, жарко во рту, колотится сердце. Каленою этой стрелою Перун – меня поразил, или вернее, я сам принял ее. Зачем я пишу?.. – Но и зачем я живу?
Пока я живу, ничто не бесцельно, что в жизни. И так: снова, еще – переживаю. Рука пока действует. Буду писать. Но кратко. Теперь у меня – краткие сроки. Небо безоблачно. Тучи развеялись за ночь, Илья не гремел. Деревня по-праздничному, после обедни – высыпала «но орехи». Орехи не зрелы еще, но уж так повелось, и по верхам, по кустам – веселье и смех. Я вышел с Павлушей; маленький заступ мой сильно его интриговал. Но прежде чем отыскать заветное место, я его отослал, мне захотелось – удостовериться.
Ямку я скоро нашел и огляделся. Павлуша прилег на вершине и верно оттуда следил за моими таинственными приготовлениями. Я стал подниматься к нему. Помню, подумал: вот здесь, на вершине, построить наш дом, и вся эта ширь – наша, моя. Мне еще раз захотелось окинуть ее. Вдруг услышал я крик. Павлуша вскочил как ужаленный. Странно, зигзагами, кидался он передо мною. Потом отскочил и отломил ветку татарника, стал ею хлестать но земле, все также подскакивая…
Когда я к нему подбежал, я только увидел скользнувшую торопливую спинку, мгновенно она, как стрела, исчезла в земле.
– Она укусила тебя?
Павлуша ко мне обернулся. Я никогда и ни у кого не видал таких глаз: это не столько тот ужас, что мы называем смертельным, сколько сама она. Это она скользнула туда и глядела, как из гнезда. Мгновенно я поднял и быстро его оглядел, укус был на сгибе коленки, с тыловой стороны, капелька крови дрожала, как небольшая рябинная ягода. Я не раздумывал, да и Павлуша не сопротивлялся. Мы оба легли, и напрягаясь, чтобы высосать дочиста, я стал втягивать в рот и выплевывать кровь…
Бог знает, что в эти минуты думалось мне. Я и теперь ничего не мог бы сказать. Первобытное что-то, дремучее, детское, как если б припал к роднику, к этой ложбинке; вода и свежа, и железиста, солнце печет, и греет земля, а в голове – как облако. Так это было. И если еще в целом обнять, именно было как если б объятие: мать – обняла.
И вообще, уже позже, теперь – все чаще я слышу дыхание матери. Домой и к себе позвал меня голос отца, встретила – мать. И помню еще: когда я прилег, как опять сузился мир. Если прищурить глаза, а я закрывал, то как пласты, бесшумные, легкие, подобные водам – тебя покрывают… И я хотел бы – лечь там. Я уже и распорядился. Недаром со мною был заступ… Там и изба. До докторов скачи, не доскачешь, Павлуша не доктор еще… Слава богу, мой мальчик здоров.
Ольга… она почти не отходит. Но и Ольга – как мать. Как это сразу я не узнал? Вечная мать и она же возлюбленная. Так для меня, для человека – неразделима отныне она. Пахнет загаром и летом: она. Она молчалива, положит мне руку на лоб и слушает жар, и я как дитя. И открываю глаза – вероника, голубые глаза; земля и цветет, и родит, и принимает. И еще я смотрю на цветок: это отросточки сбоку…
– Почему тебя назвали Ольгой?
– Мать захотела; у ней мать была Ольга.
– А откуда была она?
– Кто?
– Мать твоей матери?
– Ольга? Из Мокрого.
Дальше я не расспрашиваю, но что-то струится во мне, что и Павлуша, и Ольга – веточки сбоку… Тогда я тебя понимаю, Перун. Есть у земли своя мудрость, которую, может быть, приугадать дано человеку только в последние дни…
О кладе, деньгах, и кто я – я рассказал Королю. Он ничему не удивился, только сказал:
– Надо брать ночью. Никак иначе нельзя.
Да, я хочу там лежать, под диким татарником. Мне говорят, что я не умру, но глаза, когда смотрят, мне говорят о другом. Да… Это там, по весне, соки мои – зеленым глазком окинут владения мои, неотрывные… Там мой отец прикупил мне земельки… Устал, тяжело. Слышу шаги… Ольга войдет. Это объятие рук. Баюкай меня, дорогая… родная моя… родная земля! Не слава и не богатство, и… не любовь, и даже не жизнь, а эта вот… верность; эта вот… неотрывность.
20 августа 1922 г. Красные Горки.







