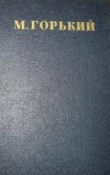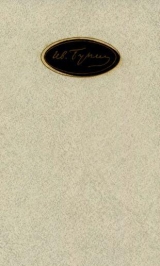
Текст книги "Том 3. Произведения 1907–1914"
Автор книги: Иван Бунин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 50 страниц)
Походы Александра «изумили, раздвинули грани земли до сказочного, породили тысячи сказаний, покрыли тысячи свитков рассказами о неведомых прежде богах и странах… Заложив город и гавань в Дельте, в Месопотамии Египта, он как бы снова созвал человечество на равнину Сенаарскую – к построению новой Вавилонской башни. Пусть снова смешаются языки! Даже одна попытка достигнуть неба перерождает мир!»
Александр, «стерший грани почти всех царств земли, совершивший жертвы во всех ее капищах, но поклонявшийся, может быть, только Неведомому богу Сократа и Платона, родился для того, чтоб, соединив царства востока и запада, построить первый международный город и заложить первые основания какого-то нового храма, взамен опустевших храмов Греции, Иудеи и Египта. И на его город выпала беспримерная в истории роль – стать центром всех религий и всех знаний древности, стать предшественником Назарета… а потом и „великим полем битвы за имя Христово“, – полем печальным, впрочем… Разве есть место, которого не могли бы осквернить жрецы и схоласты?» ( Бунин,т. 3, с. 440–441).
Жизнь Египта «текла во тьме и рабстве, стала подобна „палке, изъеденной червями“… А был ли на земле народ более славный? В темные и жестокие времена варварства он первый восстал среди народов в беспримерной цельности и законченности своего облика – и на первобытной земле, каждая пядь которой оплачивалась кровью, сумел сохранить этот облик пять тысячелетий. Он не знал себе равных ни в труде, ни в созидании памятников, ни в знаниях, ни в морали, ни в отваге, уживавшейся рядом с изумительной для того времени кротостью. Он был наставником всего древнего мира: это на основах его культуры, его религии выросли Ассирия, Финикия, Иудея, Греция – и христианство. За четыре тысячелетия до Греции он создал беспримерное по силе резца ваяние, создал беспримерную по тонкости, чистоте, яркости и простоте живопись; создал поэзию гимнов, беспримерную по вдохновению; создал религию – беспримерную уже по одному тому, что она одна не потребовала человеческих жертвоприношений!
Он никогда не знал судр и париев. Никогда на знал рабства женщин. Он всегда был человечен, опрятен, мягок в обращении, благоговейно чтил жизнь во всех ее проявлениях; об этом свидетельствует прежде всего обоготворение животных – обоготворение земных проявлений божественной творческой силы. Он не раз властвовал над всем Востоком, но даже и в эти дни никогда не уподоблялся в свирепости другим народам, обивавшим городские стены кожей пленных.
„Добро ярче изумруда в черной руке невольника“, – начертал он на папирусе, – и добро стало краеугольным камнем и веры его, и всех житейских установлений.
Вера была величественна и грандиозна, как величественны и грандиозны все труды и все искусства Египта. Первобытная, космическая широта мысли сочеталась в Египте с величайшей изощренностью и тонкостью. Вера Египта в основе своей, в первоисточниках признала единого бога и множество светозарных форм его. Она была, по чудесному выражению Шамполиона, пантеистическим единобожием(…) Радость бытия, где смерть лишь ступень к совершенству, радость сыновней близости к Отцу и братской близости ко всему живому, участие в красоте и гармонии светозарного космоса – вот что было основой египетского пантеизма, столь близкого к пантеизму христианства. Но, придя в Мемфис и воздвигнув пирамиды, Египет точно схоронил под ними свою веру. Замкнутый, мистически строгий, он становился все мрачнее и мрачнее. Он уже вступил в те великие битвы народов, что затянулись на тысячелетия и, затопив землю кровью, породили грозные и страшные глаголы еврейских пророков. „И предал его господь в руки властелина жестокого. И стали сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И оскудели реки и каналы египетские. И дух Египта изнемог в нем… И прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых…“» (Бунин,т. 3, с. 442–444).
Свет Зодиака *
Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 3000, 9 июня. В Полн. собр. соч.рассказ частично входил в текст рассказа «Зодиакальный свет».
Каир шумен… – О пребывании в Каире В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Едем по прекрасной аллее, прямой и обсаженной высокими деревьями… Уже в конце аллеи различаем пирамиды. Ян сравнивает их с деревенскими ригами. Издали они не кажутся грандиозными… Наконец, останавливаемся. Идем мимо английского отеля.
– Вот где пожить бы зимой! – роняет он как бы про себя.
Мы с ним быстро идем вперед. Но тут нас обступают проводники, хозяева верблюдов, предлагающие прокатиться вокруг пирамид… Мы всеми правдами и неправдами отбились от всех этих докучливых, развращенных туристами людей.
И вот мы одни у подножья Хеопса, и только тут, подойдя вплотную к пирамиде, я ощущаю ее величину. Но ни взбираться на нее, ни осматривать внутри мы не решаемся – слишком жарко! Мы обходим вокруг все пирамиды, удивляемся высоте каждого уступа и всем существом понимаем, что значит „египетская“ работа… Затем долго стоим перед Сфинксом, очень засыпанным песками… Потом идем дальше по пустыне, по слоистым пескам. Становится жарко, песок начинает нагреваться. Ян опасается солнечного удара, но все же идет и идет вперед. Доходим до какого-то могильника. Ян устремляется в него». «Довольно долго стоим около террариума (в зоологическом саду) с маленькими очень ядовитыми африканскими змейками. Лицо Яна искажается, – у него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями». В старом Каире поднимались «на Цитадель, где находятся колодезь Иосифа, мечеть и дворец вице-короля…
Как во всех восточных городах, жизнь протекает здесь на улице. Тут и бреют, и стряпают, и производят всякие ручные работы. Конечно, масса полуголых, чумазых детей, пристающих с бакшишем… На Цитадель мы поднялись как раз вовремя, за четверть часа до заката. Колодезь Иосифа волнует нас своей древней простотой. В мечеть мы только заглядываем, она в стиле Айя-Софии. Двор ее большой, чистый, выложен мрамором, обнесен высокими стенами, с фонтаном впереди. Цитадель построена Саладином в XII веке, на нее пошли камни с малых пирамид.
Нас тянет западная сторона, откуда открывается вид на весь Каир-, сначала мы видим Старый Каир с лесом минарет, затем Новый, далее пирамиды, пустыню».
О пирамидах Бунин писал: «Я обошел Великую пирамиду и с запада. Я прошел между Хуфу и Хафри по широкой волнистой долине. Хафри был близко-близко… Но показалась вдали кучка людей: три бедуина, два европейца в кремовой фланели и розовое платье под белым зонтиком, блестевшим на солнце. И по тому, как четки, но малы были их фигурки среди песчаных бугров, сразу стало видно, как обманчиво, как громадно пространство между мной и пирамидой, между небом и песками. И долго, долго шел я, спотыкаясь на блестящие черные камни, увязая в шелковистых рассыпчатых наносах.
В глубине долины Хафри скрылся. Стало почти страшно – так светло, так тихо и жарко было в ней. Впереди тянулась гряда скал, заметенная сверху серым золотом, с пробитыми в ней входами в могильники. Я заглянул в один и увидел в душном полусвете звериный помет, похожий на зерна кофе. Одна стена была закопчена дымом, – верно, пастухи ночевали. Но здесь могли быть и гиены… И я поспешил выбраться на солнце. Гиен не оказалось, зато мои руки и вся одежда мгновенно покрылись живой, жгучей сеткой блох… А когда я достиг наконец Великой пирамиды, то увидел жалкую сцену: бедуины проделывали с европейцами комедию езды на верблюде. Верблюд с глухим внутренним ревом и клокотаньем поднимался с колен, и толстая женщина, боком сидевшая на нем, вытаращив глаза и исказив красное, потное лицо ужасом, отчаянно визжала и хваталась за черные руки бедуина.
Голос ее прозвучал в знойном пространстве между небом и пустыней, как писк. В голове моей, одурманенной жарой и усталостью, тяжко отдавался стук сердца. Шлем был мокр, руки горели от укусов» ( Полное собрание сочинений,т. IV, с. 163–164).
Иудея *
Сб. «Друкарь», М., 1910. Эта публикация включает также тексты, позднее выделенные в самостоятельные рассказы «Камень» и «Шеол».
Предлагая H. Д. Телешову свой рассказ, Бунин писал ему 1 августа 1909 года: «Это последний мой рассказ о поездке, и придаю я ему довольно большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю его уже года полтора» ( ЛН,кн. 1, с. 586).
Бунин писал рассказ в Васильевском, Орловской губ., весной и летом 1908 года. В. Н. Муромцева-Бунина, вспоминая о пребывании Бунина в это время в Васильевском, говорит: «Он писал „Иудею“, просматривал „Море богов“, „Зодиакальный свет“».
О пребывании в Иерусалиме Вера Николаевна пишет: мы идем «к Западным Воротам, с грубой средневековой башней. По дороге рассматриваем при дневном свете сарацинскую зубчатую стену, которая скрывает древний город, спускающийся с запада на восток.
Пройдя сквозь темные ворота, мы останавливаемся на крохотной площади и смотрим на Цитадель Давида, окруженную рвами и бойницами. Потом спускаемся по странной узкой улице со сводами, а местами с холщовыми навесами, делающими ее сумрачной. Сразу охватывает трепет: одно название чего стоит – улица Царя Давида!» Затем уехали «фаэтоном» на Елеонскую гору. «Ян указывает мне Иосафатову долину и говорит:
– Это место Страшного Суда. И евреи и мусульмане считают великим счастьем быть похороненными здесь. – И он привел слова пророка Иоиля о Долине Иосафата». Об этом – стихи Бунина «Долина Иосафата». Потом поднялись по склону Елеоиской горы. На горе – православный храм, «он очень не вяжется с угрюмой пустынностью Иудеи; к тому же, словно нарочно, купола его выкрашены в густой синий цвет. Мы поднялись на колокольню… На обратном пути остановились в Гефсиманском саду». Есть стихотворение Бунина «В Гефсиманском саду» (1894).
Мечеть Омара– мечеть, именуемая Куббат ас-Сахра, конец VII в. Омар – арабский халиф, завоеватель Иерусалима. В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Пройдя мимо Судилища Соломона, мы вступаем на ослепительно белый двор. Не буду описывать Мечети Омара, скажу лишь то, что навеки сроднилось с моей душой: сверкающая белизна ее двора с темными кипарисами (напоминавшими мне картины Беклина), массивное великолепие храма, стоящего на мраморном возвышении и отливающего светло-желтым кафелем и голубым фаянсом, а внутри мечети – огромный, черный, шершавый камень под зеленым балдахином, – скала Мориа, – яшмовые и порфировые колонны, сохранившиеся со времен Храма Соломона, мозаики, похожие на парчу, и запах „кипариса с запахом розовой воды…“»
Камень *
Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 2930, 31 марта. В Полн. собр. соч.рассказ «Камень» соответствует главам 4-й и 5-й рассказа «Иудея» (см. также примеч. к рассказу «Иудея»).
Стена Плача. – Вера Николаевна вспоминает: «Пройдя по улице Давида несколько дальше той улочки, которая ведет к Храму Господню, мы свертываем вправо и, спускаясь по уступам, попадаем в узкое замкнутое пространство. Восточная сторона его – высокая каменная стена; это и есть „Стена Плача“, главное святилище евреев; некогда она была частью укреплений, окружавших Храм Соломона, ныне же – часть внешней – стены, идущей вокруг Мечети Омара».
Камень Мориа. – К словам Талмуда: «Камень Мориа, скала» – Бунин сделал примечание, приписав от руки на полях первого тома изд. «Петрополиса»: «Имя Скалы – Эвенгашетия, то есть в переводе: Камень Основы». С Камнем Мориа связаны различные легенды. Бунин цитирует Коран и говорит, каким символом, по Корану, является Камень Мориа для мусульман:
«…Камень Мориа, „непрестанно размахивающийся между небом и землей“, как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным» ( Бунин,т. 9, с. 48).
О Камне Мориа говорится в поэме В. А. Жуковского «Агасфер».
Шеол *
Бунин. Ив. Тень Птицы. Париж, 1931. В Полн. собр. соч.рассказ соответствует главе шестой рассказа «Иудея» (см. также примеч. к рассказу «Иудея»).
Астарта(Истара, Иштар) – богиня древних вавилонян, олицетворение звезды Венеры. Ее культ носил сладострастный характер. О ней – стихотворение Бунина «Истара» (см. т. 1 наст. изд.).
Тир и Сидон– города-государства древних финикиян (соврем. Сур и Сайда).
Пустыня дьявола *
Газ. «Русское слово», М., 1909, № 296, 25 декабря.
Бунин пишет: «В забвении почиет святая земля, возвратившаяся к первобытной нищете и безлюдности. Но незабвенна ее летопись. И великой меланхолии исполнены ее дремотные дали» (Полн. собр. соч.,т. IV, с. 192).
Страна содомская *
Газ. «Русское слово», М., 1911, № 158, 10 июля, под заглавием «Мертвое море».
Храм Cолнца *
Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 12, декабрь.
В. Н. Муромцева-Бунина пишет: из Бейрута к Баальбеку отправились поездом. «Едем мы в третьем классе, – на востоке мы ездили днем всегда в третьем классе, – всегда увидишь что-нибудь интересное… познакомишься с некоторыми нравами… После перевала длинный туннель, – прорезываем насквозь Ливан. За ним много распаханной земли. Далее цепь Антиливака со своим знаменитым Гермоном… Едем по долине, которая слева от нас замыкается Ливаном, а справа Антиливак.
Баальбек – развалины огромного храма, вернее храмов, самых древних и самых огромных из всех, когда-либо созданных рукой человеческой. Как показывает само название, они были посвящены Ваалу, богу Солнца.
За Баальбеком – пустыня, хотя и плодородная. От огромного города, который на своем веку претерпел так много и от людей и от землетрясений, осталось маленькое селение, а от храма – шесть исполинских колонн… Мы долго бродим среди этих циклопических развалин, с каким-то недоумением взираем на колонны, которые вблизи кажутся еще более исполинскими… Мы оставались среди руин до самого заката, то есть до того времени, когда вход в них запирают… Ян, отвоевывая лишние полчаса у нетерпеливо ожидавшего сторожа, ждавшего нашего ухода, взбирается к подножию колонн, и мы долго не можем его дозваться». О Баальбеке см. комментарий к стихотворению «Храм Солнца», написанному во время пребывания Бунина в этом селении – 6 мая 1907 г., – в т. 1 наст. изд.
Во время вечерней прогулки, продолжает Вера Николаевна, «на окраине селения мы остановились. Тут Ян неожиданно стал читать стихи. Он читал (все восточные) как-то особенно, я никогда раньше, да, пожалуй, и потом не слыхала такого его чтения».
Бунин взял с собой в поездку бейрутское издание «History of Baalbek by Michel M. Alouf», 1905.
Геннисарет *
Газ. «Русское слово», М., 1912, № 297, 25 декабря. В Полн. собр. соч.указано, что рассказ написан 9 декабря 1911 года на Капри. В газете «Возрождение» (Париж, 1927, № 691, 24 апреля), где текст напечатан со стилистическими изменениями и сокращениями, начало и окончание работы над рассказом отмечено двойной датой: «1907–1927».
Бунин писал: «Но надо видеть страну Геннисаретскую: теперь она, молчаливая, пустынная, делит участь всей Палестины» (Полн. собр. соч.,т. IV, с. 217).
В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает в своих воспоминаниях о поездке в Вифлеем, город в Палестине (соврем. Бейт-Лахм), где, согласно Библии, родился Иисус Христос: «Это небольшой городок, окруженный возделанными полями, с возвышающимся над ним храмом Рождества Христова, перед которым мы остановились. Церковь двухэтажная, тоже какая-то радостная. На полу в нижнем храме – звезда, место, где находились ясли. Мы долго стояли на белой лестнице храма, под сводчатым каменным навесом… Не помню, о чем шел разговор, но помню, что Ян неожиданно прочел: „Был Авраам в пустыне темной ночью…“» («Авраам»).
Hic de Virgine Maria Jesus Christ us natus est. – Здесь родился от девы Марии Иисус Христос (лат.).
Назарет– город в Палестине; согласно библейскому рассказу, здесь прошло детство Христа.
Тивериада– город Галилеи на берегу Тивериадского (Геннисаретского) озера.
В стране пращуров *
ЛН,кн. 1, с. 76–78. Печатается по этому тексту.
Путешествие, о котором говорится в рассказе, Бунин совершил вместе с женой в 1911 году. В Коломбо они прибыли 2 марта, на Цейлоне жили около полумесяца. Вера Николаевна писала 7/20 марта родным в Москву: «Сейчас мы в Кэнди, в гористой местности Цейлона. Здесь очень красиво. Священное искусственное озеро. Очень интересный Буддийский храм. Сегодня мы уезжаем отсюда в горы(…) Поразило меня буддийское богослужение. Мы вошли первый раз в храм их вечером. В полумраке грохот бубен, бой в барабан, игра на флейтах, много цветов с одуряющим запахом, и бонзы в желтых мантиях (…) Мне очень нравится, что здесь приносятся в жертву цветы» ( «Материалы»,с. 162–163).
8/21 марта. «Нурильо, где мы находимся, горное местечко, здесь прохладно, ночью даже холодно. Немного отдохнули от жары. Ян очень истомлен. Мне кажется, что ему вредно потеть при его худобе. Пища здесь ужасная, почти все с перцем. Но зато так хорошо, красиво, интересно, что редко бывает подобное сочетание: и древности, и чудесная растительность, – здоровый климат. Много увидели нового, например, здешние туземцы мужчины не стригут волос, и делают прически, и все носят гребень, панталон, так же, как в Египте, нет, а все в юбках и босиком. Ездят здесь на людях, как в Японии. Легонький на резиновых шинах двухколесный экипаж везет на себе вместе с толстым англичанином худой черный голый сингалезец, сильно обливающийся петом под отвесными лучами солнца.
Сегодня утром мы поднялись на одну из здешних вершин. Поднимались три часа, спускались полтора часа. Все время шли по хорошей искусственной дорожке, вьющейся среди леса. Растительность здесь какая-то необыкновенная: деревья покрыты мхом, какие-то гелиотроповые цветы. Сухо было поразительно, что-то по временам шуршало в сухих листьях, может быть и змеи. Когда мы взошли на вершины, то увидали целый океан гор, идущих кольцами, а на горизонте серебряная гирлянда облаков, – это было на 8300 футов над уровнем моря. Тянуло свежестью, может быть, с океана. Здесь горы конусообразные, только Адамов пик имеет иную форму».
В тот же день Вера Николаевна сообщала брату:
«Мы теперь в Англии, но не в той, дождливой, со сплином, в которой вы были в прошлом году, а в цветущей, экзотической, где чувствуется нега Азии, с удушающе-сладкими запахами и красной почвой (…)
После восемнадцатидневного перехода по Красному морю и океану, где мы пережили совершенно новые ощущения, видели очаровательные закаты, необыкновенно красивые лунные ночи, обливались потом и практиковались во французском языке, мы, наконец, попали в Коломбо.
И с первого же шага изумление и восхищение попеременно охватывают нас. Прежде всего меня поразила мостовая терракотового цвета, затем рикши – люди-лошади с их элегантными легкими колясочками, потом необычная растительность, тут все есть…
В Коломбо мы прожили два дня, жили за городом в одноэтажном доме-бунгалове, в саду, комнаты без потолка, всю ночь электрический вентилятор производил ветер, – жара была неугасимая. Ездили мы на рикшах за несколько верст к отелю, стоящему на океане за городом. Возвращались при лунном свете, казалось, что едешь по какой-то волшебной стране.
Из Коломбо мы поехали по железной дороге в Кэнди, путь очень интересный, идет среди гор мимо плантации чая… проходит через рощи кокосовых пальм, по временам поезд несется над пропастями…
В Кэнди тоже были два дня. Ездили в лунную ночь в горы, видели летающие огоньки. Бездна, освещенная лунным светом, блестела. Несколько раз были в Буддийском храме. Видели танцы диазола: их танцуют с факелами в руках под бой бубен, грохот барабанов и пение туземцев. Зрелище интересное, но утомительное. Теперь мы поднялись еще выше, в местечко Nuwarn Eliya, выговаривают ее Нурилья.
Едим здесь ананасы, бананы, но виски не пьем, хотя и видим, как пьют их спокойные англичане» (там же, с. 163–164).
«На Цейлоне мы пробыли с полмесяца, – пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина автору данного комментария 15 мая 1957 года, – он там почти заболел. Не мог видеть рикш с окровавленными губами от бетеля. То, что чувствовал его англичанин в „Братьях“, автобиографично. Идти в Японию нам было уже нельзя из-за отсутствия средств, – много стоил Египет, кроме того, он уже не мог лишнего дня оставаться, а парохода в Японию нужно было ждать».
11/24 марта 1911 года Бунин писал Юлию Алексеевичу: «Были на севере острова – в Анарадхапуре, видели поистине чудеса, о которых – при свидании. Теперь сидим в Коломбо. Ждем парохода – он придет из Сингапура 31 марта (нового стиля) и, надеемся, доставит нас в Одессу не позднее 10–15 апреля (старого стиля). Очень изнурила жара» (там же).
А. Бабореко