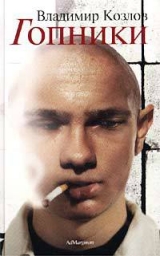
Текст книги "В крымском подполье"
Автор книги: Иван Козлов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Пойдемте, отведу, – сказал Ларчик.
Мы вошли в дом, в маленькую пустую комнату с земляным полом и двумя окошками без стекол, освещенную полосками света через щели закрытых ставней.
Ларчик с ленивым любопытством наблюдал, как мы раскладывали свои немногочисленные пожитки. Уходя на «дежурство», я попросил его помочь Лидии Николаевне.
– А с работы приду, винца выпьем.
Ларчик безнадежно свистнул:
– Вина теперь не достать.
Понизив голос и как бы сомневаясь, стоит ли говорить, я сказал, что работаю по снабжению, достать можно и вино и мануфактуру. Да где спрячешь? Придут немцы, да за твое добро тебя же…
– Еще немцев бояться! – с презрением сказал Ларчик. – Что попадется, все берите. Спрячем. – Он оживился. – Я в курятнике такую яму выкопаю, хоть тысячу бутылок давай!
Видимо уверовав в мои «снабженческие связи», Ларчик спросил: [39]
– А может быть, вы сможете где-нибудь и стекла добыть? У меня двое маленьких пацанов, боюсь простудятся. Да вам и самим стекло понадобится.
Мне понравилось, что Ларчик заботится о стеклах, когда неизвестно, будет ли цел завтра дом. Видно, вывести его из равновесия не так легко!
Когда он ушел, я сказал Лидии Николаевне:
– Получше прощупайте этого Ларчика, познакомьтесь с его женой, посмотрите, как они живут и что за люди. Если парень надежный – используем его. Другого выхода у нас пока нет. Придется пойти на риск, ничего не поделаешь.
– Хорошо, разузнаю все, – ответила та.
– Давайте твердо держаться в соответствии с новым нашим положением. Ты, Клера, должна называть меня только «папа» и на ты. А вы, Лидия Николаевна, называйте меня просто «Петя», а я вас «Лида», и тоже на ты. Смотри, Клера, не сбивайся, не проговаривайся, а то могут получиться большие неприятности.
У Сироты я достал все, что нужно. Уже смеркалось, когда я, потный, усталый, нагруженный стеклом, гвоздями, инструментом и четырьмя бутылочками портвейна, вернулся с «дежурства». У нас сидели «Семен» с «Машей» и рассказывали, как устроились на своей новой квартире.
Хозяева их – в прошлом богатые люди – имели прибыльные огороды, им принадлежал чуть ли не весь квартал, застроенный теперь этими маленькими домиками. Они ждали немцев, надеясь, что к ним вернется земля.
– Уток и кур откармливают, – сказала «Маша». – Готовятся фашистов угощать.
Клера привела Ларчика. Мы познакомили его с «Семеном» и «Машей». Увидя бутылки, Ларчик просиял.
Позвали хозяйку. Но та, видимо, действительно решила до конца войны сидеть в щели. Она даже ночевала там. Это было нам очень кстати: никто не мешал устраиваться.
Пользуясь отсутствием посторонних глаз, мы быстро перенесли все необходимые для подполья вещи к себе на квартиры. Вино Ларчик закопал в курятнике. Часть денег взял «Семен». Триста пятьдесят тысяч рублей мы с Лидией Николаевной уложили в ящик и под видом «мануфактуры» [40] вместе с Ларчиком закопали у него в сенях, в земляном полу. На это место поставили большую бочку с квашеной капустой. Чтобы окончательно уверить Ларчика, что в закопанном ящике содержится мануфактура, я дал его жене несколько метров ткани для ребятишек и сказал: «Если нужно будет, дам еще».
Через Ларчика я познакомился и со вторым нашим соседом – Василием. Боец истребительного батальона, он находился на линии обороны на горе Митридат и должен был эвакуироваться вместе с частями Красной Армии. Василий просил нас позаботиться о его семье, которая оставалась в городе, и мы обещали это сделать.
Немец бомбил Керчь почти непрерывно, но боя еще на было слышно. Только 10 ноября мы явственно услышали отдаленную канонаду и увидели вспышки огня.
Сирота оставался в городе до последнего момента. Я все время держал с ним связь и получал информацию о положении на фронте и в городе.
15 ноября я случайно столкнулся с ним на улице недалеко от горкома. Немцы были уже в Камыш-Буруне и обстреливали город из орудий и минометов. За горой Митридат, совсем близко, шел бой с пехотой противника. Сирота был очень встревожен. Он оглянулся по сторонам и незаметно кивнул мне. Разговор с секретарем горкома на улице – грубейшее нарушение всех правил конспирации, но что было делать! Явочная квартира моя была к тому времени совершенно разрушена, а другой еще не нашлось.
В эту минуту опять начался налет. Раздался хорошо знакомый противный свист падающей бомбы. Я побежал и прыгнул в одну воронку с Сиротой.
– Оставляем город, – торопливо говорил он. – Войска переправляются на Кубань. Горком и штаб переехали в Ени-Кале. Здесь остается только заслон, чтобы обеспечить эвакуацию оставшихся войск и техники. Магазины и склады открываем для населения. Пусть забирают, что осталось. Пролив немец жутко бомбит. Потопил, гад, наш пароход с рабочими. Твое последнее задание выполнил. В деревне Капканы затопили одиннадцать лодок. Рыбацкие сети припрятаны. Пароль твой передал.
Эти лодки я намеревался в случае необходимости использовать для. связи с советским берегом. [41]
Раздался оглушительный взрыв. Нас осыпало землей. Когда я поднял голову, Сирота, пригнувшись, бежал к горкому. Он на мгновение остановился, увидел, что я жив, улыбнулся и побежал дальше.
Я тоже поднялся и, когда самолеты скрылись, стал пробираться к себе.
Наступила ночь. На нашем дворе никто не скал. Мы то и дело выходили за ворота и прислушивались. Над городом и проливом стоял тяжелый грохот разрывов. Полыхали пожары.
К рассвету все затихло.
– Смотрите! – вдруг испуганно вскрикнул Ларчик, указывая на гору Митридат. – Немцы! Ей-богу, они!
Глава третья
– Где, где немцы?
Я изо всех сил напрягал зрение, но над городом стоял дым пожара, и я ничего не видел.
– Вон, смотрите! На самом верху, у часовни. И пешие, и конные. А вон справа цепочкой с горы спускаются.
Скоро я разглядел движущиеся точки; появляясь из-за горы, они спускались к городу, и их становилось все больше и больше…
Немцы на нашей земле! У меня сжалось сердце. Я-то познакомился с немцами еще двадцать семь лет назад и хорошо запомнил это знакомство. Есть вещи, которых забыть нельзя.
Да, я бежал в четырнадцатом году из сибирской ссылки в Германию, полагая понаслышке, что там народ культурный и свободный. Нанялся сезонным рабочим к фермеру и работал честно. Мне хотелось, чтобы меня уважали. Мне нравились немецкая черепица, порядок, аккуратность. Я думал многому научиться.
Три сына фермера имели высшее образование. Я был хорошим работником, они не могли этого не видеть, и все-таки очень скоро я услышал излюбленное немецкое выражение: «Руссише швайн!»
– Вы должны изменить свой ужасный русский вид, – сказал мне как-то старший сын хозяина, указывая [42] на мою сатиновую косоворотку, сапоги и картуз. – А то вы можете напугать нашу скотину.
Помню, первое время за обедом я старался оставлять немножко супа на тарелке: пусть немцы не думают, что мы, русские, обжоры. Но хозяйка обрадовалась и стала каждый день убавлять мне суп на такое количество ложек, какое я оставлял. В конце концов я стал получать меньше половины тарелки.
Выдавая мне два бутерброда по утрам, немка машинкой строгала сыр и ветчину. Эти аккуратно сделанные бутерброды просвечивали, в лунную ночь через них можно было считать звезды.
Порядок в доме действительно был: в такой-то час встать, в такой-то час в кирху, в таком-то ящике такое-то белье, перевязанное такой-то ленточкой. Жили мои хозяева богато. Но за стакан горячей воды для бритья с меня вычитали пфенниг. Я мог надорваться на работе, но все равно был для них только «руссише швайн».
Я сбежал, даже не взяв расчета…
А объявление в Кенигсберге: «Сдается комната, только не русским». Мой квартирный хозяин, кондуктор трамвая, с длинными усами, закрученными кверху, походил на императора Вильгельма, портрет которого висел у него в комнате. На противоположной стене находился небольшой портрет Карла Маркса. Хозяин, заметив мое недоумение, пояснил с усмешкой, что он – социал-демократ и Маркс принадлежит ему, а кайзер – это жене.
– Мы, немцы, любим порядок. У нас всему есть свое место.
У них действительно было место всему, кроме человечности. Этот бездушный, автоматический порядок так замучил меня, что я решил вернуться в Россию: каторга, и та лучше!
…И вот немцы пришли к нам устанавливать свой «новый порядок»! Как победители, как хозяева идут они по нашей земле.
В эту минуту я не на шутку испугался, что у меня нехватит силы жить рядом с ними. Я покосился на Клеру, на Ларчика: они ведь немцев еще не знают.
Мне казалось тогда, что я уже все знаю о немцах.
– Гостей встречаете? – раздался позади нас тихий голос. [43]
Я вздрогнул от неожиданности. Оглянувшись, увидел Василия. Глаза его были воспалены от бессонных ночей. Плотная, коренастая фигура как-то съежилась, согнулась. Серое, землистое лицо, измазанные грязью одежда и вещевой мешок сразу выдавали бойца.
– А ты почему остался? – изумленно спросил Ларчик.
– Не успел эвакуироваться. Всю ночь протолкался на переправе, ничего не вышло.
– Много народа осталось?
– Нет. И я бы уехал, налетел немецкий самолет и начал бомбить. Мы не успели сесть. Катер отчалил.
– Немцы идут! – волновался Ларчик. – Прячься скорей!
– Да куда теперь спрячешься? – Василий растерянно оглянулся. – Найдут, хуже будет.
– Иди во двор, – подтолкнул я Василия, – переоденься скорей и займись чем-нибудь по хозяйству.
– Ступай, ступай, Вася! – Ларчик плотно прикрыл за ним калитку и добавил озлобленно: – Вот, зараза, до чего дожили!
– А ты разве не военнообязанный? – спросил я у Ларчика.
– Нет, освободили. У меня глаза больные и ревматизм замучил.
В одиночку и звеньями пролетали к морю вражеские самолеты. Доносились глухие взрывы. Дымилась догорающая мельница. В городе было совершенно тихо, как на кладбище. И в этой страшной тишине появились первые немцы.
Один за другим они перебегали площадь по направлению к нашей улице.
– Пойдемте и мы во двор, – нерешительно сказал Ларчик.
Мы вошли во двор. Переодетый Василий пилил со своей женой какие-то гнилые доски.
Как долго длились эти последние минуты тишины! Вот за воротами раздался топот кованых сапог. Калитка с шумом распахнулась, и два немецких солдата с автоматами вбежали во двор. За ними – еще пятеро. Один торопливо устанавливал в раскрытой калитке ручной пулемет, другие начали обыскивать огород и двор. [44]
– Зольдат, партизан зинд да? – сердито крикнул немец с нашивками на рукаве.
Я отрицательно потряс головой:
– Нет, нет!
В это время солдат позвал немца с нашивками на огород, к щели. Немец бросился туда и, заглянув в щель, закричал:
– Партизан! Вег, вег!
Клава еле-еле выбралась из убежища.
– Партизан, партизан! – немец направил на нее револьвер.
Клава повалилась на землю и, загораживая лицо дрожащими руками, повторяла хриплым голосом:
– Что вы, что вы! Господь с вами. Я женщина, я бомбы боюсь…
Ударив Клаву носком сапога, немец заставил ее встать. Она вскочила и побежала к нам. Немец выстрелил, промахнулся и погнался за Клавой.
– Она сумасшедшая! – не выдержав, крикнул я по-немецки.
Клава подбежала к нам и упала.
– Она сошла с ума от бомбежки, – повторил я. – Она все время сидит в щели.
Было похоже, что Клава действительно потеряла рассудок. Валяясь по земле, она громко рыдала, повторяя: «Убьют, господи, убьют!»
Немцы засмеялись.
– Молчи! – прикрикнул немец с нашивками, ткнув ее сапогом в бок. – Откуда вы знаете по-немецки? – спросил он меня.
– Я был в Германии.
– Это хорошо. Сделайте нам яичницу.
Я перевел Ларчику. Тот испуганно пожал плечами: – Нет яиц. У меня две курицы, но они не несутся.
Ответ Ларчика обозлил немца. Он потребовал зажарить курицу. Ларчик поймал пеструю хохлатку и, свернув ей голову, передал жене Василия.
Скоро во двор зашел еще один солдат и передал немцу с нашивками приказ немедленно итти дальше. Солдаты захватили с собой недощипанную курицу и ушли.
– Ну вот, мы и познакомились, – сказал я. [45]
– Я думал, Клаву убьют, – отозвался Василий, вытирая с лица пот.
– Больше в щель не ходите, плохо может кончиться, – посоветовал я Клаве.
Она ничего не ответила, с трудом поднялась с земли и, шатаясь, пошла домой.
Убедившись, что советские войска ушли, немцы, как саранча, хлынули в город. Они заняли самые лучшие квартиры. Домовладельцам и жильцам в лучшем случае было разрешено жить в сенях и сараях. В нашем районе разместился полк СС. Начался грабеж. Тащили кур, гусей, часы, одежду – все, что попадалось под руку.
Зашли и к нам два молодых немца в грязных потрепанных куртках. Почесываясь и не обращая на нас никакого внимания, они молча прошли к шкафу и начали вытаскивать оттуда продукты.
– Что вы ищете? – спокойно спросил я их по-немецки.
Солдаты сразу повернулись ко мне и растерянно забормотали:
– Вы немец?
Я взглянул на сахар, который солдат держал в руках, и, сделав вид, что не расслышал их вопроса, продолжал:
– Хотите чай пить? Пожалуйста, садитесь за стол. Хозяйка вас угостит.
Солдаты переглянулись, сунули обратно в шкаф взятые ими продукты, сели за стол, обшаривая комнату глазами. Особенно быстро бегали колкие, злые глаза худощавого небольшого солдата, который потом назвался Максом.
– Лида, – сказал я Лидии Николаевне, – дай нам чаю и чего-нибудь закусить.
– Вы немец? – повторил солдат.
– Нет, я русский, но долго жил в Германии. Это моя жена, – указал я на Лидию Николаевну, – и дочка Клера.
Видимо, немцы не могли понять, кто я такой, и на всякий случай, из предосторожности, вели себя сдержанно. Лидия Николаевна и Клера подали чай, закуску и сели с нами за стол. Увидев патефон, солдат спросил, можно ли сыграть. [46]
– Можно. Клера, заведи что-нибудь веселое.
– У вас хорошо, мы поселим к вам нашего командира, – сказал Макс, поглядывая колкими глазами на Клеру.
У меня мелькнула мысль, что они затевают что-то недоброе по отношению к девушке, и я испугался.
– Ну что вы! Вы же видите, какая у меня маленькая комната, а у меня жена, дочь. Куда же мы денем вашего командира?
– Ничего, для него найдете место, – жестко ответил Макс.
Солдаты ушли, оставив меня в смятении. Я поделился с Лидией Николаевной.
– Вот сволочи! Что же нам делать? – спросила та.
– Нужно как-то выкручиваться.
Вечером Макс привел обер-ефрейтора. Огромный, широкоплечий детина лет тридцати со свирепым лицом и водянистыми глазами сразу напомнил мне кенигсбергского кондуктора. Только у того усы были закручены кверху, под Вильгельма, а у этого – маленькие, рыжие, подстрижены под Гитлера. На рукаве куртки – фашистская свастика, на груди – железный крест. Он был чисто выбрит и даже надушен.
Не здороваясь, он прошел прямо к столу, грузно уселся, приказал солдату тоже сесть и начал меня допрашивать.
Я рассказал, что в прошлом имел столярную мастерскую, потом был раскулачен и выслан в Сибирь. Там работал в артели завхозом и за кражу осужден на три года. В Керчи работал в Рыбакколхозсоюзе. Там узнали, что сидел в тюрьме, уволили, хотели опять судить, но они, немцы, так сильно бомбили Керчь, что большевикам ехало не до меня.
Пасмурное лицо ефрейтора прояснилось.
– Откуда вы знаете немецкий язык?
– Я был в Германии.
– Как туда попали?
– В прошлую войну попал к вам в плен. Я под Тильзитом у фермера работал. Там и вашу культуру и порядки узнал. Ваш кофе и бутерброды мне на всю жизнь запомнились.
Немец самодовольно засмеялся: [47]
– О да! Мы любим кофе.
Лидия Николаевна поставила на стол две бутылки вина, закуску. Клера попросила разрешения завести патефон. Немцы ели с большим аппетитом. Ефрейтору очень понравилось вино, и он тянул рюмку за рюмкой.
– Скажите, пожалуйста, ваши власти могут разрешить мне открыть свою мастерскую? – спросил я.
– Конечно, разрешим, – ответил немец. – У нас никаких большевистских колхозов не будет.
– А война скоро кончится?
– Скоро, – уверенно кивнул он. – Украина уже наша, Москва окружена. До Урала дойдем, и война кончится.
– Но до Урала еще далеко.
Он презрительно махнул рукой.
– Большевикам капут. Красная Армия разбита. Большевики затопили в московском метро полтора миллиона жителей. В Москве образовалось новое правительство. Оно просит фюрера заключить мир, но мы не хотим.
Немец захмелел. Он вздумал потанцевать и, пошатываясь, подошел к Клере. Девочка так побледнела, что я испугался и решил подбодрить ее.
– Что ж ты, глупенькая! Господин офицер хочет научить тебя танцевать как следует. Извините, господин офицер, – улыбнулся я немцу: – девочке еще ни разу не приходилось танцевать с настоящим офицером.
Обер– ефрейтор остался доволен. На прощание он да. же подал нам руку и сказал, что его зовут Отто. Обещал никого к нам не вселять и заходить в гости.
Когда они ушли, Лидия Николаевна, словно после тяжелой работы, устало опустилась на стул и с тревогой посмотрела на дочь, потом на меня. Я понял ее страх и подумал: «Надо, чтобы Клера меньше попадалась на глаза этому немцу».
Что же я мог еще сделать?
Утром Ларчик и Василий держались со мной очень натянуто. Из их осторожного разговора я понял: они подозревают, что я хочу поближе сойтись с немцем. Я постарался рассеять возникшее у них недоверие и обрадовал их сообщением, что, кажется, в наш дом пока никого вселять не будут. [48]
Мы сидели в нашем домике, как осажденные, и напряженно прислушивались к каждому шагу на улице, к каждому скрипу калитки. Через три дня я не выдержал и решил пойти узнать, что делается в городе.
– Может быть, рано? – сказала Лидия Николаевна. – Пусть немножко успокоится.
Наверное, ей было страшновато с непривычки оставаться одной, но у меня уже нехватало терпения. В трудные времена самое ужасное – неизвестность и бездействие. Мне хотелось подыскать помещение для мастерской и скорее начать что-нибудь делать.
На улицах меня поразило почти полное отсутствие наших, советских людей – одни немцы. По мостовой шли легковые и грузовые автомашины с немцами, по тротуарам – немецкие солдаты и офицеры. На углах, в резиновых плащах, в касках, с большими бляхами на шее и дубинками в руках, стояли гестаповцы. Везде слышалась немецкая речь.
Каким чужим и враждебным показался мне город! Последний раз я проходил по этим улицам под непрерывными разрывами бомб, но и тогда мне не было так жутко.
На столбах, на заборах – приказы. Я все их внимательно прочел.
«Приказываю всем жителям города и его окрестностей в трехдневный срок зарегистрироваться в городской управе и в гестапо. За неисполнение приказа – расстрел.
18 ноября 1941 года.
Германская полиция безопасности».
«Приказываю всем рабочим, служащим, иженерно-техническим и другим работникам зарегистрироваться на бирже труда и работать по указанию немецких властей. Неявка на работу будет рассматриваться как саботаж, и виновные в этом будут расстреляны».
«1. Кто с наступлением темноты без письменного разрешения немецкого командования будет обнаружен на улицах города, тот будет расстрелян.
2. Движение в дневное время как по шоссейным, проселочным дорогам, так и вне дорог за городом [49] без разрешения немецкого коменданта не разрешается. Нарушители будут расстреляны…»
А вот и пункт, непосредственно касающийся Пахомова:
«3. Во всех домах и улицах щели и входы в катакомбы должны быть немедленно заделаны прочными каменными стенками.
За неисполнение – расстрел…»
Я задумался: делают это немцы в порядке предупреждения или уже нашелся какой-нибудь предатель и донес о партизанах?
Были приказы об обязательной регистрации скота и птицы, о сдаче теплой одежды и белья для германской армии и другие приказы. И везде расстрел, расстрел… Меньшей меры наказания не было.
Я повернулся, чтобы итти дальше, и остановился: у подъезда дома лежала молодая женщина в изодранном платье, с растрепанными светлыми волосами. В правой руке ее был зажат окровавленный платок. Видно, она лежала уже не первый день.
– Бегите, немцы схватят! – услышал я вдруг испуганный шопот за спиной. – Мужчин ловят! – повторила торопливо проходившая мимо меня незнакомая старушка.
Я оглянулся. Со стороны улицы Карла Либкнехта немцы гнали большую толпу мужчин. Бежать поздно. Перешагнув через труп, я спрятался в подъезде. Толпу прогнали мимо. В ней были и подростки и старики. Солдаты автоматами подталкивали отстающих.
Переждав немного, я вышел на улицу, свернул в первый попавшийся переулок и окольными путями добрался домой.
Я вызвал «Семена», «Машу», «Николая». Конечно, наши не ждали хороших новостей, и все-таки мой рассказ ошеломил всех.
Документы у нас были в порядке, и чтобы не вызывать подозрений, мы решили немедленно пройти регистрацию. На другой день я пошел в городскую управу, зарегистрировался. Немцы остро нуждались в специалистах, [50] поэтому я на бирже труда встал на учет как не имеющий профессии инвалид второй группы.
И в управе и на бирже людей было много. Разговаривали шопотом, оглядываясь. Я потолкался в народе, послушал о новых порядках в городе.
Ворвавшись в город, немцы прежде всего начали уничтожать культурные учреждения. Прекрасный клуб камыш-бурунских рабочих они разграбили и устроили там конюшню. Из городской библиотеки книги выбрасывали во двор и сжигали на костре.
На горе Митридат стояло старинное здание музея, где были собраны богатейшие материалы тысячелетней истории Керчи. Все исторические ценности немцы немедленно уничтожали.
Недалеко от Сенного базара был так называемый Царский курган – раскопки древней гробницы. Там немцы устроили уборную.
– А в городской управе – Токарев, – сказал какой-то старик. – Токарев и Бамбухчиев.
Позднее через Ларчика и Василия мне удалось выяснить, что это за люди.
Шестидесятилетний Токарев был городским головой во время оккупации немцами Керчи еще в восемнадцатом году, и теперь они снова посадили его на эту должность. Бамбухчиев – жулик, аферист, неоднократно судившийся за кражу. В управу вошли и некий Яншин, осужденный по делу промпартии, и петлюровец Данилюк. О других я пока ничего узнать не смог. Городскую полицию немцы набрали из уголовников.
Возвращаясь с биржи, я неожиданно встретил своего квартирного хозяина с улицы Кирова. Пошли вместе.
– Что ж так скоро из деревни вернулись?
Вид у него был очень расстроенный. Он оглянулся и быстро зашептал:
– Вернулся, а жить негде. Немцы в доме конюшню устроили. В квартире лошади. Солдаты где стоят, там и гадят. Свой дом, а на улице живу. Что делать?
Я поглядел на него, многозначительно помолчал и сказал:
– У меня есть знакомые немцы. Я открываю столярную мастерскую. Если вы меня пустите в свой дом, попробую помочь. [51]
Старик обрадовался, но стал прибедняться, торговаться, а попутно клясть своих сыновей, которые не послушали его, ушли с красными. С красных какой теперь толк? А вот невестка-то с ребенком у него на шее.
– Петр Иванович! – спросил он вдруг. – Вы вот с немцами знакомы. Что они там, про Анапу ничего не говорят? Скоро возьмут ее?
– А зачем вам Анапа?
– Как же! У меня там лавка была, большой дом. Большевики отняли. В доме школу устроили. Я потому и переехал сюда.
– Хорошо еще, что школу, не конюшню, – не без ехидства заметил я. – Дом, наверное, в порядке.
– В порядке, в порядке. Как думаете, ведь отдадут?
Мы дошли до сквера Ленина. Старик вдруг остановился и испуганно схватил меня за локоть:
– Господи! Никак люди висят!
На деревьях возле разрушенного памятника Ленину висели три человека. Одеты они были в потрепанные ватники, на ногах – ботинки с обмотками. У каждого была приколота на груди бумага. Написано по-русски: «По. вешен как партизан». На окровавленные, обезображенные лица страшно было смотреть. Очевидно, их повесили недавно, а перед казнью пытали.
Около повешенных молча толпились женщины и дети. Они с ужасом смотрели то на трупы, то друг на друга. Немцы же, проходившие мимо, с удовольствием посматривали на толпу.
Постепенно народ стал расходиться. Мы с хозяином тоже вышли из сквера. Я обещал зайти к нему, и мы расстались.
Вид казненных произвел на меня очень тяжелое впечатление. Я решил проверить, живы ли мои подпольщики, и зашел к Поле Говардовской. Она была сильно встревожена и очень обрадовалась моему приходу.
– Знаете, со мной получается скверная история. Сначала шло все хорошо. И на новую работу при помощи Сироты устроилась – продавщицей в магазине, и на эту квартиру переселилась. Никто и не подозревал, что я еврейка. Но с эвакуацией родных ничего не вышло. Мать узнала, что немцы потопили пароход с рабочими, и наотрез отказалась ехать. Как назло, накануне прихода немцев [52] бомба разбила в деревне наш дом, и мать с сестрой приехали в город. Меня в это время дома не было. Мать сказала соседям, что я ее дочь, и все узнали, что я еврейка. А тут – вы слышали? – приказ немцев о регистрации евреев в гестапо. Мне пришлось пойти вместе с матерью и сестрой.
Теперь и я встревожился.
– Очень скверно, что так вышло. О чем же с вами говорили в гестапо?
– Ни о чем. Записали только фамилию, имя, адрес и приказали носить белую звезду на груди.
Девушку необходимо было спасти. Я предложил ей оставить мать и сестру в этой квартире, устроить фиктивный брак с «Николаем», переменить фамилию и переселиться в другое место.
Поля отказалась:
– Мать не согласится; а если я уйду потихоньку, она будет меня разыскивать и может погубить не только меня, но и вас.
Я просил ее постараться убедить старуху. Она обещала. Дал ей пароль и адрес, по которому она могла меня найти.
Ушел я от Поли очень подавленный. Меня мучило, что я согласился оставить ее в Керчи.
Домой я вернулся в тяжелом настроении. Повешенные не выходили из головы.
Меня, все время тревожила мысль: неужели немцы знают о партизанах и поэтому издали приказ замуровать входы в каменоломнях?
Я ничего не говорил товарищам, но как-то раз «Семен» сам сказал мне:
– Что-то нет связного от Пахомова. Как они там?
Не помню точно, но, кажется, на другой день после этого разговора мы услышали глухие взрывы. Вернувшись из города, Ларчик объяснил:
– Аджи-мушкайские каменоломни рвут. Партизан боятся, что ли… Говорят, и пулеметы и прожекторы туда тащат.
Я был твердо уверен, что Пахомову удастся сохранить запасные потайные выходы, тем не менее каждый взрыв больно отдавался в сердце. Нехватало сил больше оставаться [53] в неизвестности. Я собрал заседание партийного комитета.
Внешне наши заседания выглядели очень безобидно: сидят семейные пары за столом, пьют чай, вот и все. Только вечером, когда хождение по городу кончается, я беру маленький листок и несколькими шифрованными словами записываю протокол.
Мы решили послать «Семена» в Аджи-Мушкай на явочную квартиру, указанную Пахомовым. Но как это сделать? Необходимо достать пропуск на выход из города.
Я вспомнил, что Василий работал раньше в гужтранспортной конторе. Пошел к нему. Василий был дома и чинил ботинок своего сынишки.
– Слушай, Василий, – сказал я, усаживаясь: – не знаю, как у тебя, а у нас кушать нечего. Как бы это достать барашка?
От Лидии Николаевны я узнал, что у него с едой совсем плохо.
– На деньги сейчас ничего не купишь, – вздохнул Василий.
– У меня есть кое-что для обмена. Костенко согласен поехать в деревню. Надо бы лошадь достать и съездить. Достанешь – тебе половину.
– Куда вы хотите ехать? – Василий отложил ботинок.
– В ближайшее село, ну, хоть в Аджи-Мушкай. Есть там знакомые?
– Там живет наш дрогаль, старик. Барашка у него самого нет, но он всех в селе знает и скажет, у, кого есть.
– А подвода?
– Через два двора от нас живет еще дрогаль…
Василий тут же привел этого дрогаля. Договорились мы быстро. Дрогалю разрешалось выезжать за город. «Семен» поехал на правах его помощника, грузчика, и повез для обмена немного мануфактуры, несколько пачек спичек, чаю и две бутылки вина.
…Вот и вечер, а их все нет. «Маша» пришла к нам, Клера то и дело выбегала за ворота. Мы очень волновались: немцы установили строгую слежку за ходившими [54] по городу в неположенное время. Несколько человек уже было расстреляно.
«Семен» вернулся, когда до комендантского часа оставалось всего несколько минут. Мы уж места себе не находили. Погода была сырая, телега увязла в грязи и долго не могла выбраться.
По виду «Семена» я сразу понял, что съездил он хоть и благополучно, но безрезультатно.
Оказывается, немцы точно знали о партизанах Пахомова в каменоломнях. 20 ноября они попробовали туда сунуться, но партизаны дрались с немцами двое суток и заставили их отступить. Немцы понесли большие потери и пока лезть в каменоломни не осмеливались.
«Семен» рассказал, что вся деревня занята немцами. К каменоломням и подойти нельзя: кругом охрана. Цементируют и минируют все выходы. Из деревни Аджи-Мушкай взяли двадцать заложников и пригрозили расстрелять, если партизаны нападут на немцев.
По адресу, указанному Пахомовым, «Семен» никого не нашел. В доме оказались немцы. От женщины, живущей по соседству, «Семен» узнал, что нужный нам человек выехал, но должен скоро вернуться.
Немцы грабят крестьян так же, как и городских. Все описали, вплоть до курицы и кролика. Никто не имеет права ничего продавать. Но старик все же обещал «Семену» достать барашка к следующему воскресенью.
Мы надеялись, что к тому времени связной Пахомова вернется в Аджи-Мушкай.
В условленное воскресенье «Семен» поехал в Аджи-Мушкай и вернулся оттуда потрясенный. Связной Пахомова оказался предателем. На глазах у всей деревни он водил немцев в каменоломни. Когда партизаны отбились и прогнали немцев, предатель выехал в Ени-Кале, где был назначен старостой.
Глава четвертая
Итак, человек, оставленный на подпольную работу и, надо думать, проверенный, оказался предателем.
Конечно, все мы понимали, что как только придут немцы, появятся и предатели, но все-таки в том «черном [55] списке» предателей, о котором мы узнали, некоторые фамилии оказались тяжелой неожиданностью.
Даже беззаботный Ларчик однажды пришел домой совершенно подавленный. Долго слышалось только излюбленное его словечко: «Зараза! Вот зараза!»
– Что с тобой? Расскажи толком, – спросил я.
– У меня на заводе Войкова брат-машинист. Завод-то разрушен, но немцы хотят восстановить водопровод и электростанцию, – мрачно сказал Ларчик.
– А рабочие как?
– Рабочие-то не хотят! Немцы насилу собрали несколько человек по домам. Тянут, извиняюсь, кота за хвост. Но вы подумайте, Петр Иванович! Директором завода и старостой поселка назначен Пискарев. Мастер томасовского цеха Пискарев. Ну, не зараза ли? Он сказал, что отправит в Германию всех, кто не будет работать. Брат у меня там… Что делать?
Соседи считали меня стариком бывалым и рассудительным, который и с немцем поговорить сумеет и русских не продаст. Я выспросил все, что можно, о Пискареве и вздохнул:
– А брат что думает?
– Что ж брат! Конечно, не хочет на немцев работать. Да. что поделаешь, когда его за шиворот притащили.





