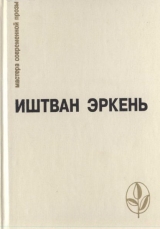
Текст книги "«Выставка роз»"
Автор книги: Иштван Эркень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Я не новичок в этом деле, как-нибудь разберусь. Смонтируйте то, что уже отснято, и давайте прокрутим.
В просмотровом зале сидели трое: Уларик, Арон и оператор. Все пленки были прокручены. В зале вспыхнул свет, и наступило тягостное молчание. Арон чувствовал нервный озноб. Должно быть, такая тишина бывает во время казни. Уларик закурил, молча переваривая впечатления. С незапамятных времен никто на студии не слышал от него одобрительных слов. На сей раз, однако, после долгой паузы он буркнул:
– Могло быть хуже.
Арон отказывался верить своим ушам. Опять настало томительное ожидание.
– Я предполагал увидеть кое-что пострашнее.
Затем, минуту погодя:
– И что еще осталось доснять?
– Всю часть, связанную с Я. Надем.
– Там тоже в финале будут похороны?
– Ничего не поделаешь! Ведь фильм – о смерти.
– И от чего он у вас должен умереть?
– Судя по всему, от инфаркта.
– Вот это вы зря, такая штука не для экрана.
– Не согласен. Тяжелый сердечный приступ будет смотреться еще эффектнее, чем агония ракового больного.
– Извини меня, старик, но здесь ты – лопух. Разве можно наперед узнать, как именно будет протекать сердечный приступ? Конечно, если тебе повезет, то Я. Надь вздохнет разок-другой и благополучно отдаст концы. А вот отца моего четыре недели держали на искусственном сердце, прежде чем он отмучился. Если и с Я. Надем получится что-то в этом роде, то фильм все равно нельзя будет пускать на экран. Сразу посыплются письма и жалобы от телезрителей, неприятностей не оберешься.
– О чем разговор! Нам осталось отснять две-три сцены, не больше.
– Что до меня, то я согласен и подождать, но ты крупно рискуешь: фильм может так и остаться в коробке до скончания века.
– Я готов пойти на риск. В конечном счете, смысл творчества заключается в самом творческом процессе.
– Когда такие слова произносит Феллини, я молчу и преклоняюсь, но тебе, старик, советую не забывать, что ты – всего-навсего начинающий режиссер.
– Любой гений когда-то был начинающим.
– Мне импонирует твоя уверенность в себе, но, согласись, ты не можешь требовать от Я. Надя, чтобы он планировал свой сердечный приступ по режиссерскому замыслу.
– Я. Надь знает, что делает.
– Все так, но смерти и он не указчик.
– Стоит человеку очень захотеть, и он всегда своего добьется.
– Ну, тогда желаю тебе удачи.
* * *
По вечерам, когда больничная суета затихала, Я. Надь доставал из футляра хитроумно замаскированный телефонный аппарат, звонил приятелю и отводил душу. Я. Надь давал режиссеру подробный отчет о своем самочувствии, о событиях больничной жизни за день. Кором, в свою очередь, столь же подробно информировал писателя о житье-бытье его многочисленных приятельниц, передавая пикантные сплетни о них, докладывал обо всем, что творится на студии. Рассказал он и о просмотре фильма, и о последнем своем разговоре с Улариком. Впрочем, тут же добавил:
– Только не расценивай это так, будто на тебя пытаются нажать. Не стоит принимать всерьез все, что говорит Уларик.
– За исключением тех случаев, когда он прав.
– Уларик прав? Интересно, в чем же?
– Боюсь, что, выхлопотав эту реанимационную установку, я забил гол в собственные ворота.
– Извини, Я. Надь, ведь это была твоя идея.
– Все верно, старина. Но если бы ты видел, в каких условиях мне теперь приходится лежать, ты бы иначе отнесся к тому, что Уларик говорил о своем отце.
– Как хоть она выглядит, эта реанимационная палата?
– Это надо видеть, старик. Загляни ко мне завтра, и все станет ясно. Тем более что ты нужен мне по делу: чувствую я себя паршиво.
– Ты серьезно? Что-нибудь с сердцем?
– В груди давит. Симптомы те же самые, что и шесть лет назад перед инфарктом.
– Не пугай меня, Я. Надь.
– Чепуха, не бери в голову! Кому другому, но только не тебе пугаться таких вестей, дружище!
– Кончай балаганить, Я. Надь, ведь были случаи убедиться, что я тебе действительно друг. Вот я и тревожусь за тебя.
– Сейчас мы оба служим высокой цели, Арон, а тут уж всякая дружба побоку.
– Одно другого не исключает.
– В нашем случае исключает. У нас был выбор: прожигать жизнь за бутылкой вина или наконец-то создать хоть один стоящий фильм. Мы выбрали фильм. Так что приходи завтра и посмотришь, как выглядят декорации к съемкам.
* * *
Войдя к Я. Надю, Арон не мог понять, где он очутился. Даже у больничной палаты есть свой стиль и определенное настроение: безукоризненный порядок, белизна и покой скорее внушают надежду на выздоровление человека, нежели вызывают мысль о его страданиях. От этой иллюзии не осталось и следа. Четырехместная палата превратилась в двухместную, сплошь заставленную какими-то измерительными приборами, вычислительными аппаратами, счетными устройствами, и больше всего напоминала распределительный зал электростанции. Кислородный баллон в углу затаился угрожающе, как бомба.
– Осторожно, ребята, не споткнитесь о провода! – предостерег телевизионщиков Я. Надь.
Выглядел он действительно неважно. Не поспешил гостям навстречу, как обычно. Даже не встал с постели, только приподнялся и сел. Режиссер и оператор выставили прихваченные с собой бутылки вина и содовой. Но и от выпивки Я. Надь отказался. У него есть лимонад, сказал он. Впервые за все время приятели увидели его небритым.
– Сейчас должна прийти Сильвия. Когда она наклонится ко мне со стетоскопом, загляни к ней в вырез халата. Не пожалеешь.
– Спасибо, Я. Надь.
– Правда, она в колючем настроении, потому что обнаружила телефонный аппарат и конфисковала его. Так что ты уж попроси у нее прощения.
Вошла Сильвия. Холодно кивнув посетителям, она приладила стетоскоп и наклонилась над пациентом. У Арона была возможность довольно долгое время созерцать ее прелести. Затем, скроив мину кающегося грешника, режиссер попросил прощения за трюк с телефонным аппаратом.
– Если я и прощу вас, то только в благодарность за эту палату. Мы вечно мучились с нехваткой мест в реанимационном отделении.
– Спасибо, доктор, вы очень добры. Не могли бы вы уделить нам несколько минут?
– Моя доброта здесь ни при чем, просто мне разрешено участвовать в съемках. Что я должна делать – сесть, встать?
– Лучше всего бы лечь, – посоветовал Я. Надь, за что и схлопотал шутливую пощечину.
Тумбочка у постели – в знак того, что поклонницы никак не желали отречься от писателя, – была сплошь уставлена цветами. Арон усадил Сильвию так, чтобы цветы служили ей фоном.
– Можно начинать? – спросил Я. Надь. – Итак, дорогие телезрители, разрешите представить вам доктора Сильвию Фройнд. Она сидит у моей койки, так что вы имеете возможность одновременно видеть двух главных действующих лиц нашего фильма. Один из них больной – это ваш покорный слуга, моя партнерша Сильвия Фройнд – врач. Распределение ролей предельно простое и четко ограничивает круг наших обязанностей. Мой долг – достойным образом довести до конца начатое мною дело, ее миссия – стойко и самоотверженно бороться за мою жизнь. Как и было условлено заранее, мы постараемся не нагонять на вас, дорогие телезрители, ни страх, ни скуку.
– Простите, – вмешалась Сильвия. – Я – врач, и для меня не существует никаких других соображений, помимо одного: стремления вылечить больного. Надеюсь, что эти мои попытки в самое ближайшее время увенчаются успехом.
– Я тоже надеюсь. Но если этого не произойдет, то вам придется следовать нашему неписаному сценарию.
– О каком сценарии может идти речь? Не забывайте, что мы находимся не на телестудии, а в больничной палате.
– Поверьте, Сильвия, в этих тонкостях я разбираюсь лучше вас. Предсмертная драма тоже разыгрывается по законам драматургии. Я нахожу излишним все это множество аппаратуры, мне не хотелось бы, чтобы в наш драматический диалог вмешивалась техника. Представьте себя на месте телезрителей, которых интересует не совершенство медицинского оборудования, но судьба двух людей, которые вступили в рукопашную схватку с невидимым врагом.
– Отказавшись от достижений современной медицины, я причинила бы вред в первую очередь вам.
– Вы оказали бы мне только пользу, Сильвия, оставив меня один на один со смертью.
– Если я вынуждена буду сложить оружие, вы так или иначе останетесь с нею один на один. Но какой смысл сейчас говорить об этом?
– Видите ли, до меня дошел рассказ об одном больном, которому в течение четырех недель искусственно продлевали жизнь. Хочу заранее заявить, что мне такой услуги не требуется.
– Мы называем это реанимацией. В определенных случаях такая мера вызывается необходимостью.
– Да поймите же, Сильвия, тогда весь наш долгий, кропотливый труд пойдет насмарку. Фильм не выпустят на экраны, если зрителей от него будет бросать в дрожь.
– Выходит, я должна из-за вас лишиться диплома?
– Знаете этот бородатый анекдот: миллионер обращается в полицию с жалобой, что ему не разрешают побираться на улице?
– Знаю.
– Тогда почему вы не разрешаете мне умереть, Сильвия?
– Не острите попусту, Я. Надь. Лучше скажите, что вам от меня нужно.
– Человек существует, покуда он мыслит. Давайте договоримся, что, если я потеряю сознание, вы оставите меня в покое. Не подвергнете меня реанимации, не станете подключать ко мне все эти аппараты и приборы, словом, позволите мне до конца сыграть роль своими силами, без посторонней помощи.
– Этого я не могу вам обещать.
– И как вы собираетесь со мной поступить?
– Точно так же, как и с любым другим больным.
– Даже если зрелище будет ужасающим?
– Да, если мое вмешательство окажется необходимым.
– По-вашему, лучше уж пусть наш фильм так и останется законсервированным?
– Да.
Сильвию вызвали из палаты, спор был прерван.
– А ты говорил – будет как шелковая! – не удержался от подковырки Арон, когда приятели остались одни.
Однако Я. Надя нелегко было сбить с толку.
– Но волнуйся, дружище, – ухмыльнулся он. – Последнее слово всегда остается за умирающим.
Я. Надь не успел пояснить, каким будет его последнее слово, поскольку в эту минуту вернулась Сильвия. Она настежь распахнула двери палаты. Вошли двое санитаров с носилками. Опустили носилки и переложили на постель вновь поступившего больного. Сильвия принялась считать у него пульс и решительным жестом выставила телевизионщиков из палаты.
– Приходите завтра ровно в половине одиннадцатого, – крикнул им вслед Я. Надь.
Сильвия со стетоскопом в руке наклонилась к больному. Телевизионщики, выходя, бросили прощальный взгляд на прекраснейшую грудь в мире.
* * *
Я. Надь умер на следующий день к вечеру, умер в точном соответствии со своим замыслом: эффектно, как и подобает киногерою, избежав и долгой агонии, и какого бы то ни было врачебного вмешательства. Последнее слово осталось за ним.
Момент наступления смерти можно было установить лишь весьма предположительно, поскольку при этом возле Я. Надя никого не оказалось. Доктор Сильвия хоть и была в палате, но занималась другим больным, а телевизионщики уже отбыли на студию. Ни у кого не возникло сомнения в том, что писатель спит сном праведника.
Арон узнал о случившемся лишь вечером, когда ему позвонила доктор Фройнд; голос ее прерывался от злости и отчаяния:
– Только не вздумайте утверждать, будто вы ничего не заметили!
– А что, по-вашему, мы должны были заметить?
– Передо мной можете не притворяться, я вас раскусила! Форменный убийца – вот вы кто!
И с этими словами она бросила трубку.
Несмотря на поздний час, Арон помчался на студию. Он был до такой степени взволнован, что не решился сесть за руль; поймав такси, он добрался до телестудии. Попросил у вахтера ключ от лаборатории, разыскал нужную пленку и – бегом в монтажную. Дважды прокрутил он отснятую утром ленту, а потом долго сидел, уставившись на погасший проектор. Теперь, конечно, все утренние события предстали перед ним в ином свете, но, сколько ни искал, он так и не мог обнаружить кадра, который навел бы его на подозрение. Нигде, ну ни малейшего намека на то, что шестьдесят таблеток снотворного начали оказывать свое роковое действие.
Правда, писатель, когда они явились к нему в половине одиннадцатого, выглядел невыспавшимся. Впрочем, он и сам пожаловался, что целую ночь не сомкнул глаз. Да и раньше известно было, что Я. Надь страдает бессонницей, так что состояние его никого не удивило. И кроме того, прежде чем приступить к съемкам, режиссер и оператор спросили разрешения у доктора Сильвии, которая неотлучно находилась при новом больном.
– На сей раз вы кстати, – сказала Сильвия, на секунду оторвавшись от дела. – Отвлеките Я. Надя, а то у него какой-то нездоровый интерес к процессу реанимации.
Тогда Кором и оператор, ничего не подозревая, с чистой совестью взяли Я. Надя в оборот. Хотя нет! Прежде они предложили писателю перенести съемку на следующий день: дело, мол, терпит, а Я. Надю не худо бы выспаться.
– Останьтесь, – распорядился Я. Надь. – И установите камеру так, чтобы ширма тоже попала в кадр.
Нет, никак невозможно было предположить, что этот разговор закончится смертью человека.
– Внимание, мотор! – скомандовал Арон, и съемка началась.
* * *
Койку писателя от соседней отделяла уже упомянутая ширма. Самого больного на соседней койке почти нельзя было разглядеть: не человек, а промежуточное звено в замысловатой системе всевозможных проводов, трубок, датчиков и измерительных приборов. Он лежал без сознания, все жизненные процессы регистрировались вспыхивающими на экранах приборов точками и светящимися полосками. Голову больного облегало некое подобие шлема, переходящего в маску, по двум резиновым трубочкам в ноздри поступал кислород, к обеим рукам были прикреплены капельницы, предплечье, пониже локтя, обхватывал манжет тонометра, к запястьям и щиколоткам подведены электроды. Возле койки больного постоянно дежурила сестра, а доктор Сильвия следила за показаниями приборов. В палате стояла тишина, нарушаемая лишь тяжелым, прерывистым дыханием больного.
– Из-за него, что ли, ты не спал? – Арон кивнул на ширму.
– Тут, брат, было не до сна, он всю больницу перебаламутил. Доставили его без сознания, но им несколько раз удавалось привести его в чувство. Однажды, придя в себя, он принялся молить, чтобы ему дали умереть спокойно, да разве тут милосердия допросишься! Я тоже переживал за него: лучше бы уж он поскорее отмучился, потому что смотреть на это невмоготу, точно будущее свое видишь.
– Кто он?
– Какая-то неизвестная личность. «Скорая помощь» подобрала его на улице, без денег, без документов, мертвецки пьяного. Едва только он приходил в себя, его начинало выворачивать. Вонища стояла, как в дешевой пивной на углу.
– Может, хватит на сегодня, Я. Надь? Отдохни-ка ты лучше.
– Нет, давай по-быстрому. Единственное, о чем я попрошу: не будите меня, если я вдруг усну.
– Скажешь тоже – будить! Я вообще не понимаю, зачем ты себя принуждаешь говорить через силу. Или произошло нечто такое, что может пригодиться нам для фильма?
– Произошло всего лишь то, что я струсил впервые с тех пор, как взялся за эту роль. Я всегда легко относился к жизни и надеялся, что легко сумею – как с надоевшей любовницей – и расстаться с ней. Но теперь я понял, что может случиться иначе.
– Этот безымянный сосед, что ли, нагнал на тебя страху?
– Да, он. Хочешь смейся надо мной, хочешь – нет, но твой приятель оказался слабаком. Ширму поставили только на рассвете, а до той минуты я все видел собственными глазами. Правда, я не переставая уговаривал себя: «Что тебе до него, ведь это посторонний человек», – но все напрасно. Нет и не может быть посторонних людей, когда судьба общая. Разницы между нами почти что никакой, расстояние между койками – вот и все, что нас разделяет. Протяни руку, и даже этого разделения не останется. С таким же успехом и у меня могла бы наступить клиническая смерть.
– Но ведь его вернули к жизни. Неужели это тебя не успокоило?
– Ничуть. Я перечитал по этой теме всю литературу, какую удалось достать, но читать и видеть воочию – вовсе не одно и то же. Этому человеку вскрыли вену. Ввели внутрь крохотный приборчик на тонкой, как волосок, проволоке, протолкнули вдоль вены вверх по руке, пока он не прошел дальше, в полость сердца. Там он, этот приборчик, и остался и заставляет сердце работать с помощью электрических импульсов. Я прямо диву давался, глядя на Сильвию, как ловко запускает она этот моторчик в сердце, которое практически уже остановилось. «Послушай-ка, ты, прекраснейший из палачей! – не удержался я. – Надо мной ты тоже намерена проделать все эти манипуляции?» На что она мне: «Чем фамильярничать со мной, лучше бы поспали», – и велела поставить ширму. Что она сейчас делает?
– Ничего не делает, просто сидит.
– Сидит и только того и ждет, чтобы испортить наш фильм. Пусть дожидается, со мной этот номер не пройдет!
– Не изводи себя попусту, Я. Надь.
– Столько труда вложено, и все пустить псу под хвост! Ты только представь на минуту, что ширма стоит не там, а у моей койки, и Сильвия отхаживает не его, а меня, – что бы ты как режиссер стал со мною делать? Зрителю не интересно видеть беспомощное тело, ему подавай активного участника событий, способного чувствовать и мыслить, человека, который смотрит прямо в объектив – вот как я сейчас – и говорит внятно и вразумительно.
– Надеюсь, что в нашем случае так оно и будет.
– К чертям собачьим весь твой розовый оптимизм! Нужно уметь предвосхищать события. Иными словами, нам сейчас до зарезу нужна хорошая режиссерская идея.
– Я не волен распоряжаться ни жизнью, ни смертью, Я. Надь.
– Признайся лучше, что не можешь изобрести ничего путного.
– Чего ты ко мне привязался? Ты добровольно улегся в больницу, ты начал ухлестывать за этой Мэрилин Монро, для тебя, по твоей же просьбе, оборудовали реанимационную палату. Сам заварил эту кашу, сам и расхлебывай, а если ничего умнее придумать не можешь, то по крайней мере, выспись как следует.
– Ошибаешься, я-то как раз придумал кое-что поумнее. Под утро, когда я совсем скис, мне пришло в голову единственно правильное решение.
– Выкладывай, не тяни.
– Правда, это двойная работа, зато впоследствии она окупится. Слушай меня внимательно, дружище: я решил умереть не один раз, а дважды. Ну, что ты на меня уставился? Проще простого: сейчас я разыграю тебе такую агонию, от которой сам Уларик будет на седьмом небе. А затем, когда подойдет срок, ты сможешь заснять и подлинную. У тебя будут две смерти на выбор, и ты вмонтируешь в фильм ту из них, которая получится удачней.
– Это нечестно, Я. Надь. Ведь мы снимаем документальный фильм.
– Хочешь, чтобы он так и остался в коробке? Жаль труда!
– Ты сам сказал однажды, чтобы я не гонялся за дешевыми эффектами, а снимал так, как оно есть на деле.
– Спорим, что первый дубль получится удачнее моей взаправдашней смерти.
– Ну что ж, попытка – не пытка, тем более что дополнительной сметы на это не требуется. Жаль только, что ты писатель; для первого дубля нужнее классный актер.
– Положись на меня, дружище, все будет исполнено в самом натуральном виде. Ты знаешь, что притворяться я не умею. Если я не уверен в своих словах, то у меня и язык не повернется сказать. Но, к счастью, я до того вжился в свою роль, что смерть для меня сейчас так близка, как ты, сидящий рядом.
– Болит у тебя что-нибудь?
– Сейчас как раз ничего не болит.
– Тогда без притворства не обойдешься, потому что, если не считать твоего сонного вида, ты в полном порядке.
– Хватит и этого. Примем сонливость за отправной пункт, только назовем ее угрозой смерти – хотя бы на том основании, что я всю жизнь страдал бессонницей.
– Да, знаю.
– Ну, так чего же еще тебе надо? Давай условимся, что я отравился.
– Не понимаю! Ты принял какой-то яд?
– К чему такие сложности? Я наглотался снотворного. Возможность сама так и напрашивалась. У меня бессонница; сестра каждый вечер оставляет мне на тумбочке по две таблетки снотворного. Допустим, что ради нашего фильма я сумел отказаться от сна и за месяц у меня накопилось шестьдесят таблеток, а это – смертельная доза. Допустим дальше, что я принял все эти шестьдесят таблеток разом. И наконец, допустим, что все это случилось совсем недавно, скажем, за четверть часа до твоего прихода, так что смотри на меня как на человека, которому осталось жить еще максимум четверть часа. Но эти четверть часа – наши, никто нам не помешает. Сильвии не до нас, она этого безвестного пьянчужку откачивает. Кстати, взгляни, что там творится?
– Докторшу вижу и еще каких-то двух мужчин в белых халатах.
– Чудесно! Это консилиум, значит, у врачей положение пиковое. Ну, поехали. «Писатель отдает концы, дубль первый».
– И что я должен делать?
– Спрашивай.
– О чем?
– Безразлично! О чем бы мы сейчас ни говорили, все это прозвучит с экрана после траурного сообщения. Главное успеть прокрутить сцену, пока идет консилиум.
– Ладно, уговорил. Итак, «Смерть Я. Надя. Дубль первый». Мотор!
* * *
– От имени наших телезрителей приветствую тебя, Я. Надь. Сегодняшнюю нашу передачу мы ведем из больничной палаты, в стенах которой ты находишься уже с давних пор. Поэтому первый свой вопрос к тебе я бы сформулировал следующим образом: как ты себя чувствуешь?
– Не сказать, чтобы хорошо, но и не так уж плохо. Результаты анализов свидетельствуют об ухудшении сердечной деятельности.
– Каково при этом твое общее самочувствие?
– Я в здравом уме и трезвой памяти, вот только в сон клонит, руки-ноги будто свинцовые и язык заплетается.
– Сварить тебе кофе?
– Нет, времени у нас в обрез, не станем тратить его попусту.
– Согласен. Кстати, о времени: мы, люди, в большинстве своем привыкли думать о жизни в масштабах лет и десятилетий. Интересно было бы узнать, что испытывает человек, которому осталось жить считанные минуты?
– Ничего страшного. Видишь ли, можно удачно использовать и десять минут, а можно потратить впустую, скажем, тридцать пять лет. По сравнению с вами у меня есть то преимущество, что я по крайней мере уже лишен возможности даром загубить собственную жизнь.
– Ну что ж, воздадим должное твоему писательскому остроумию, однако зрителей, которым предстоит впоследствии увидеть этот фильм, твой юмор не интересует.
– Если это и юмор, то юмор висельника.
– Все равно. А теперь – шутки в сторону. Расскажи нам, как бы ты хотел провести оставшееся у тебя время.
– Перво-наперво я бы хлебнул глоток, а то от снотворного сухость во рту.
Я. Надь отпил глоток лимонада.
– Уф, здорово! – аппетитно причмокнул он. – Ну, что бы я еще сделал? Если бы я был курящий, я бы выкурил последнюю сигарету. Будь я маститым писателем, я бы обратился с воззванием к человечеству. Ну, а если бы я еще оставался мужчиной и мог побыть с Сильвией наедине, я затащил бы ее к себе в постель, в надежде на то, что сумею пошевелить членами.
Оператор прыснул. Из-за ширмы на них зашикали. Арон взорвался от злости.
– Нас ты подгоняешь, а сам несешь такую ахинею, которую Уларик все равно велит вырезать из фильма.
– И очень напрасно. До сих пор в литературе не отмечено, импотентами или настоящими мужчинами подходим мы к краю могилы. Подумай сам, старик, какая интересная проблема!
– Сейчас нам все равно ее не решить, так что давай говорить о другом, а главное – в другом тоне. Какое у тебя в жизни самое светлое воспоминание, Я. Надь?
– Женщины.
– А самое неприятное?
– Тоже женщины.
– Может, хватит острить? Если у нас и дальше пойдет в таком ключе, то твою предсмертную агонию придется демонстрировать в программе новогоднего кабаре.
– Каков вопрос, таков и ответ. Придумай что-нибудь получше.
– Тогда скажи по совести: испытывал бы ты страх, если бы тебе предстояло умереть через несколько минут? И очень прошу тебя, не переводи вопрос в шутку.
– Я тоже прошу тебя, брось ты все эти «если бы да кабы», иначе я выйду из роли. Прими за факт, что снотворное принято мною и уже начало действовать.
– Как тебе угодно. Итак, я ставлю вопрос – и на этот раз не в сослагательном наклонении: хочешь ли ты, чтобы тебе сделали промывание желудка?
– Нет.
– Это надо понимать так, что ты не боишься смерти?
– Не боюсь.
– Ты не мог бы ответить поподробнее? Эта тема одинаково интересует как меня лично, так и телезрителей, поскольку всем людям свойственно бояться смерти.
– За то время, что я готовился к съемкам, у меня была возможность обдумать этот вопрос. Смерть, бесспорно, противник более сильный. Каждая минута нашей жизни принадлежит ей, каждый наш час, каждый день – ее собственность. Единственное, чего нам не дано знать, – которую из многих отпущенных нам минут ей заблагорассудится выбрать. Именно поэтому все люди, и в том числе наши телезрители, и боятся смерти. Я же перехитрил ее. Сейчас я усну точно так же, как обычно, когда по вечерам откладываю в сторону книгу, гашу свет и закрываю глаза. Через несколько минут я воспроизведу этот каждодневный, будничный процесс – погружусь в сон и тем самым ускользну у смерти из рук. Впервые в жизни я по-настоящему свободен.
– Ну, слава Богу, наконец хоть какое-то подобие философии! Жаль только, что голос у тебя стал тише.
– Я устал говорить так долго. Поднеси микрофон поближе.
– Следующий вопрос: скажи, Я. Надь, стоит ли этот краткий миг свободы ужасного сознания, что больше ты не проснешься?
– Что же тут ужасного? Больше никогда не увидеть больничные стены, больного на соседней койке, Уларика, Аранку, Ирену – подумаешь, велика потеря! И мир лишится второразрядного писателя да научно-популярного фильма о загрязнении атмосферы. Зато взамен он получит этот фильм, в котором вдумчивый художник впервые с момента существования человечества вырвет у смерти ее сокровенные тайны. Согласись, что такой исход – к обоюдной пользе. Ты спрашивал, боюсь ли я. Боится лишь тот, кому есть что терять.
– Ты тоже кое-что теряешь, Я. Надь. Ты лишаешься разницы, между быть и не быть.
– Это верно.
– Конкретнее, прошу тебя. Телезрителей интересует все в том мире, который перестанет существовать вместе с тобой.
– Ты еще не забыл азы математики? Я. Надь минус Я. Надь равняется нулю. О том, чего нет, и сказать нечего.
– Постыдился бы переливать из пустого в порожнее, когда каждая минута на вес золота! Я допытываюсь у тебя не о том, чего нет, а о гибели того, что существует. Говорят, животные и те чуют смерть и скрываются от посторонних глаз. Мой вопрос заключается в следующем: что происходит в тебе сейчас, за несколько минут до твоего ухода в небытие? Прислушайся к себе и передай нам свои впечатления.
– Мои впечатления? Вот голос твой доходит глухо, как через стену.
– Говори о себе, при чем тут мой голос.
– И в себе я что-то не замечаю ничего особенного.
– Не дури, Я. Надь, соберись с мыслями. Наш фильм подходит к концу, настал твой звездный час. Сконцентрируй все свое внимание.
– На каком рожне прикажешь мне его концентрировать?
– На моем вопросе: в этот критический момент не ощущаешь ли ты разлада с самим собой?
– Нет.
– Каково твое душевное состояние – гармоничное или драматическое? Угнетенное или приподнятое? Отвечай?
– Если ты имеешь в виду душевное напряжение, которое я, по-твоему, должен испытывать, то ошибаешься. Уйти из жизни для меня – все равно что переступить порог.
– Ты рассуждаешь так, будто собираешься на прогулку в лес.
– Хорошо, что напомнил: было бы совсем недурно напоследок прогуляться по лесу.
– Стыдись, Я. Надь! Неужели это все, что ты можешь выжать из себя в кульминационный момент своей драмы? Учти, что я буду вынужден вырезать этот кусок.
– Почему же, скажи на милость? Мне кажется, я очень красиво умираю.
– Не знаю, как насчет красоты, но скучно до чертиков! Зритель волнуется и переживает, когда на глазах у него гибнет нечто ценное. Уж хотя бы ты боролся за жизнь! Даже муха и та бьется, прежде чем сдохнуть. Ну, быстренько, Я. Надь, выдай мне какую-нибудь конфликтную концовку.
– Уже выдал все, что мог.
– Пустой номер! Ты меня разочаровал, старик. Если уж ты весь выложился, по крайней мере распрощайся как следует.
– С кем?
– Как это – с кем? С миром.
– Мне ужасно хочется спать, Арон.
– А мне плевать! Спать ему, видите ли, захотелось! Ты пойми: какой же фильм без концовки? Когда человек умирает, зритель, затаив дыхание, ждет, что он скажет под занавес.
– У меня пустота в голове, Арон.
– Пересиль себя.
– Глаза слипаются.
– Поднатужься!
– Поднатужишься, так что-нибудь другое вылетит. Кстати, это мне всегда удавалось лучше, чем бумагу марать.
– Опять тебя понесло! Если ничего оригинальнее придумать не можешь, давай на этом и кончим. Зрителям такие подробности знать неинтересно.
– Ладно, разрешаю вырезать этот кусок. Так на чем мы остановились?
– Нашим уважаемым телезрителям хотелось бы услышать прощальные слова писателя, погибающего в единоборстве со смертью.
– Знаешь, я что-то плохо соображаю.
– Быть не может, Я. Надь! Вот уже несколько недель ты живешь одной мыслью: о смерти.
– Видишь ли, ценность мысли весьма и весьма относительна. То, что когда-то представлялось мне значительным, сейчас кажется мыльным пузырем.
– Так и не припомнишь ни единой полновесной мысли?
– Все прежние ценности сейчас для меня прошли девальвацию.
– Тогда попробуй выдать что-нибудь экспромтом.
– Лучше всего нам попросту распрощаться с тобой. Будь здоров, Арон, желаю тебе еще много удачных фильмов.
– Меня тебе не разжалобить! Ты сам сказал однажды, что мы – профессионалы.
– Профессионалу тоже может хотеться спать.
– Никаких отговорок, изволь работать! Должны же мы предоставить зрителю какую-то духовную пищу.
– Я всю жизнь только тем и занимался, что из-под палки заставлял свою голову работать. Дайте мне хотя бы умереть спокойно.
– Спокойная смерть – удел бакалейщиков, но к ним не гоняют съемочные группы с телевидения. Ты – писатель, любимый и почитаемый зрителями, поэтому они вправе ждать от тебя достойных, не банальных прощальных слов.
– Где мне их взять, эти слова? Из пальца, что ли, высосать? Или соврать что-нибудь? Так ведь пороху не хватит.
– Говори что угодно, лишь бы звучало красиво. Красота – искусство, а искусство не может быть обманом.
– Всякое искусство – обман, Арон.
– Пусть обман, зато в него можно верить.
– Извечная сделка с совестью. Во что тут верить?
– Ну-ка, бери свои слова обратно!
– Не дождешься.
– Тогда на этом фильму конец.
– Мне безразлично, Арон, я свое дело кончил. Теперь поспать бы.
– Ты меня режешь без ножа! Прошу тебя, соберись с духом и говори более внятно. Писатели не умирают так бездарно.
– Как видишь, умирают.
– Похоже, с недосыпу у тебя память отшибло, но не беда, я тебе напомню: ты не только сам, добровольно, согласился взять на себя эту роль, но и долгие недели готовился к ней. Так что же теперь, в последнюю минуту, ты перестал верить в то, что делаешь?
– Нет, в это я верю. Наш фильм – первая в моей жизни работа, когда не нужно кривить душой.








