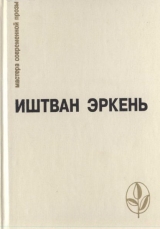
Текст книги "«Выставка роз»"
Автор книги: Иштван Эркень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
– Как бишь называется ваше предприятие?
– Цветоводческое хозяйство «Первоцвет», в Будафоке. Мы, однако же, поставляем цветы не только к свадьбам или похоронам, наш товар и на экспорт тоже идет.
– Теперешняя ваша работа, она полегче, не правда ли?
– Оно, конечно, сама работа вроде бы легче. Но зачастую попадаешь в вечернюю смену, к утру, до отправки самолета, надо успеть связать в пучки две, а то и три тысячи роз. А к середине дня наши розы по витринам в Вене или в Стокгольме красуются.
– Ваш муж проживает за границей?
– Не скажу точно, в каком городе, а знаю, что где-то в Америке. Двадцать лет уж ни слуху от него, ни духу.
– Дети у вас есть?
– Детей нету.
– Стало быть, ваши заботы – содержать матушку, у нее, если не ошибаюсь, катаракта.
– В точности так, доктор. Мама едва видит, только что на стенки не натыкается, словом, без меня ей никак не обойтись. Скажите, пожалуйста, а когда меня выпишут на работу?
– Я затем и пришел сюда, чтобы обсудить это вместе с вами. Вы позволите называть вас Маришкой?
– Конечно, буду только рада. А в чем дело? Что-нибудь неладно, доктор?
– Не хочу пугать вас, Маришка…
– Мне-то чего пугаться, я не за себя, за Маму беспокоюсь. Я к тому, что не может она обойтись без меня. Когда я работаю, то Мама хорошо если суп себе подогреет.
– Ну вот, извольте, – сорвался с места профессор Тисаи. – Из головы вон, как там было дальше!
– А дальше вы читали какие-то стихи, – напомнила Мико.
– Да, верно. Чертовщина какая-то с памятью! Теперь что, начинать все сначала?
Режиссер успокоил его: можно продолжить съемку, пусть доктор читает стихотворение. Лишние кадры вырежут при монтаже фильма. Профессор Тисаи, чуть успокоившись, опять сел рядом с больной.
– Я знаю одну поэтессу, которая волею судеб к тому же врач. Ее зовут Ида Урр. У нее есть такие строки:
Приходит ночь, без сна лежу в постели
И в белый потолок смотрю.
И там ищу ответа,
Надеяться ли, ждать ли мне…
О, пусть надежда
Страдальца душу не покинет,
Пусть радуги цветами расцветит потолок
И скрасит ночь мою.
– Складно-то как, Господи, красивей и не скажешь! – вздохнула Мико.
– Согласен, милая Маришка, и все-таки я не ради красоты поэзии привел здесь эти строки. Поймите меня, я как врач не хочу лишать вас надежды, но и обнадеживать попусту тоже не вправе, памятуя именно о вашей матушке. Надо подумать, кто станет о ней заботиться, потому что у вас, к сожалению, рак.
– Рак? – переспросила Мико. – А это что, неизлечимо?
– Во многих случаях излечимо. В вашем же случае прогноз иной. Прошу вас, мужайтесь. Хотите, я могу дать вам успокоительное.
– Чего уж там, доктор, я и без лекарства спокойна.
– Тогда мой вам совет: поспите.
– Как раз спать-то и нельзя. Мне теперь надо хорошенько продумать, как-то сложится жизнь у Мамы.
– Вы – редкой души человек, Маришка, я преклоняюсь перед вашим мужеством. Я знаю больных, обычно люди в таких случаях впадают в истерику, даже в отчаяние, едва удается привести их в чувство.
– Чего уж там, доктор, дело житейское. Маме пить-есть надо, а где денег взять, когда она одна останется? Вот мне и приходится ломать голову.
– Чем я могу вам помочь?
– Скажите правду, удастся мне еще немного подработать? Потому как сами понимаете, доктор, если я этак долго еще проваляюсь, то на пособие по больничному нам не свести концы с концами, двое ведь кормимся.
Постепенно и профессору Тисаи передалось спокойствие больной женщины. Он перестал нервно вертеться и не косился затравленно на кинокамеру, – попросту забыл о том, что играет роль. Теперь перед камерой был только лечащий врач, для которого в данный момент существовала лишь его пациентка, и ей он терпеливо объяснял, что отныне работать ей запрещается, она должна всячески беречь себя. Конечно, можно выполнять по дому посильную работу, и тогда у нее будет уйма времени, чтобы позаботиться о матери, скажем, пристроить ее в дом для престарелых.
– Туда ее не возьмут, Мама почти слепая.
– Ну, тогда есть дома для слепых.
– Пустые хлопоты, там тоже толку не добьешься, потому как Мама все-таки зрячая. А какой же человек согласится терпеть, чтобы с ним обходились, как со слепым?
– Вы благородная и мужественная женщина, Маришка, в тяжелую минуту все ваши помыслы не о себе, а о близких, – прочувствованно сказал доктор Тисаи и поднялся: насколько ему помнилось, на этом их разговор и окончился.
Однако Мико удержала его за руку и снова усадила на место. Она очень просит доктора, пусть разрешит ей поработать хотя бы месяц, сейчас у них проводится очень важное мероприятие, состоится первый общевенгерский конкурс на лучшую вязальщицу, а розы у «Первоцвета» самые что ни на есть лучшие. Месяц работы ей нужен прямо позарез и не только из-за денег, дело в том, что ее кандидатуру выдвинули на конкурс и даже план ее утвердили. Сказать по правде, намаялась она с этими розами, и не сосчитать, сколько пучков перевязала, и не по справедливости это, чтобы в последний момент ей лишиться и славы, и денежной премии.
– Какой вы работник, Маришка! Забудьте об этом, смиритесь, иного пути я не вижу.
– Нет так нет. Я все поняла, доктор.
– Что конкурсы, что розы эти ваши знаменитые уже не для вас.
– Нельзя так нельзя.
– И мой вам совет, не паникуйте и не отчаивайтесь, Маришка, могу вас заверить, что никаких болей вы не испытаете.
– Боль у меня одна только: за Маму душа болит.
– Съемка окончена, – вмешался Кором. – Спасибо за работу.
Режиссер поблагодарил профессора, похвалил его и Мико за то, что свои трудные роли они сыграли правдиво и глубоко. Ни за что не скажешь, что это был дубль.
Мико, гордая собой, улыбнулась. Едва съемочная группа упаковала аппаратуру, как за больной пришли санитары со «скорой помощи».
* * *
Осложнения начались с того, что Мама невзлюбила Корома. Прежде всего, ей казалась нищенски малой сумма, которую режиссер посулил им – как она выражалась – за их «выступление». Ничто не способно было поколебать ее уверенность, что, попадись им другой режиссер, более известный и маститый, он заплатил бы гораздо больше. Если хотя бы ей самой предоставили вести переговоры со студией! А дочка человек непрактичный, не попыталась даже поторговаться.
Еще труднее оказалось старухе перенести всю эту суматоху перед началом съемок. Первая же прикидка на месте показала, что в квартире не развернешься, почти нет возможности передвигать камеру. Семейство Мико ютилось в тесной квартире, двадцать пять лет назад перегороженной на две комнатушки и столько же лет не знавшей ремонта; старый дом казарменного типа являл собою малоприглядную картину. Окно меньшей комнаты смотрело во внутренний двор; по галерее, опоясывающей дом, поминутно сновали жильцы с этажа. Другая комната была больше по площади, но длинная и узкая, как коридор. Посередине ее перегораживала широкая двуспальная кровать, на которой лежала больная. Самым просторным помещением в квартире была кухня; в кухню выходила дверь ванной, которая так и простояла все годы недостроенной, только из стены одиноко торчала розетка душа.
Телевизионщикам не оставалось ничего другого, кроме как сделать перестановку в комнате-пенале: кровать передвинули к окну, платяной шкаф вынесли на кухню, в потолке укрепили патрон для юпитера. Маму раздражала не только вся эта возня и суета, но и новая расстановка в квартире; старуха могла ориентироваться лишь в привычных условиях.
К тому же она подметила, что явно мешает съемочной группе. Старуха редко выходила на улицу, да и по дому двигалась не много; единственной радостью, старческой страстью ее была еда. Мама расплылась до такой степени, что, как ни поворачивали камеру в тесной комнате, старуха попросту не вмещалась в кадр. Если ее усаживали на кровать, она закрывала своей тушей дочь; под конец кое-как удалось ее пристроить около стены на двух сдвинутых кухонных табуретках.
В старухе постепенно копилась, искала выхода злоба, больше других ее раздражал Кором – и чем бы, вы думали? Да своим искренним стремлением подладиться под нее.
– Мамаша, вы не обращайте на нас внимания, – повторял он. – Будто нас тут и нет вовсе.
Это была грубая ошибка, психологический промах со стороны режиссера. Тем самым Кором только подлил масла в огонь. Поведи он себя по-другому, как человек, который платит деньги и потому вправе требовать, возможно, и Мама была бы уступчивее. Но тут ее взорвало. Как это «не обращать внимания», если все в квартире перевернуто вверх дном, там стучат молотками, тут зачем-то дырявят стены, сбивают штукатурку! А главное – людей перебаламутили, народ с ума посходил, оттого что к Мико приехали с телевидения! Раньше они со своими соседями жили душа в душу, то один забежит – не помочь ли чего, то другой наведается, а теперь куда там, и не жди, надулись, готовы лопнуть от зависти.
И в самом деле дом гудел, как потревоженный улей. Жильцы праздно околачивались на внутренней дворовой галерее, обсуждая каждую деталь событий. В первый же день съемок, когда скандал, поднятый Мамой, был в самом разгаре, в квартиру неожиданно ворвалась цыганка, соседка сверху; цыганка требовала, чтобы и ее тоже сняли в фильме, потому как она – человек не посторонний, именно она раздевала старуху и укладывала спать, когда Маришка работала в ночную смену.
Кором не стал с ней пререкаться. Он поставил цыганку перед камерой.
– Прошу вас, дорогуша. Текст по вашему выбору, любой.
Простоволосая цыганка тряхнула растрепанной гривой, входя в раж, тело ее напряглось, щеки пылали. Она сверкнула глазами на режиссера, прижала руку к сердцу и воскликнула:
– Да здравствует Венгрия!
На том запал ее иссяк, и цыганка, довольная собой и окружающими, ушла восвояси. Оператор запер дверь на ключ. Настроение у всех было препакостное. Сварливая старуха затаилась. Маришка отмалчивалась. Телевизионщики остановили камеру, забились в угол, стушевались, не решаясь переброситься словом. Так прошел весь этот день до вечера и весь следующий день. Временами телевизионщики для отвода глаз запускали камеру, чтобы хозяева квартиры постепенно свыклись с новой обстановкой. Им удалось достигнуть цели. На третий день Мама, которая едва различала силуэты людей, забыла о посторонних, примирилась с их присутствием. И начала разговор о том, что в данный момент для нее было важнее всего.
* * *
– Ты когда-нибудь думала о том, как мне жить без тебя, Маришка?
– Только об этом и думаю день-деньской.
– Взять, к примеру, кому отойдет наша квартира, когда тебя не станет?
– Квартира останется тебе, Мама.
– А что, если меня отсюда выставят? Квартира на зависть, мало ли кто позарится; охотники до чужого добра всегда тут как тут, а там и права для них сыщутся.
– Ты, Мама, здесь прописана, и за здорово живешь тебя никто не вправе выставить за порог.
– Откуда тебе знать? Оно, конечно, для тебя спокойнее давать один ответ, что все, мол, будет в полном порядке.
– Я специально узнавала.
– У кого это, интересно? Не у этих ли прощелыг с телевидения?
– Нет. Я звонила старому Франё. Из больницы еще, когда меня туда возили сниматься в палате. Я рассказала Франё, как у меня со здоровьем, и все у него выспросила. Ответственный квартиросъемщик – ты, Мама, квартира записана на тебя.
– Много они понимают в квартирных делах, твои цветочники!
– Старый Франё во всем разбирается. Он обещал поговорить с кем надо, чтобы правление помогло тебе.
– От них дождешься помощи, держи карман шире. Сама посуди, зачем тебя перевели в другую бригаду, поставили вязальщицей?
– Здоровье не то, сдала я очень.
– Ну и чтобы пенсия за тебя была меньше.
– Об этом я тоже спрашивала Франё. Пенсию выведут из среднего заработка за три года, а не только за последние шесть недель, пока я работала вязальщицей. Все до мелочи подсчитают и скажут, сколько тебе будет положено в месяц.
– В таком деле не мешает все разузнать заранее. Когда они обещали сказать?
Мама не успела докончить фразу, как у входной двери раздался звонок.
Чистая случайность иной раз лучше подгоняет события одно к одному, чем это удалось бы сделать профессиональному сценаристу.
Кинооператор открыл дверь. На пороге стояли – будто ждали маминой реплики – четверо с Маришкиной работы. Старый Франё держался чуть впереди, должно быть, он занимал какую-то начальственную должность в цветоводческом хозяйстве «Первоцвет», а за ним стояли трое: Шандор Нуофер, его жена и сын. Гости застыли в дверях, вдвойне смущенные первой встречей с больной и нацеленной на них кинокамерой. Арон Кором пригласил их войти. Гости сложили принесенные с собой свертки с гостинцами, они с телевизионщиками представились друг другу и обменялись любезностями. Снова вмешался режиссер, он деловито и решительно попросил гостей рассаживаться поудобнее, на правах друзей дома они примут участие в фильме. Немного поколебавшись, вновь прибывшие согласились войти в число действующих лиц.
– Только мы сперва распакуем свертки, – сказала жена Нуофера.
Гостинцы раскрыли в кухне. Больной прислали двух жареных кур, крем «птичье молоко», домашнюю ветчину, печенье, песочные пирожные и не один десяток яиц. Жареных кур, порциями разложив по тарелкам, жена Нуофера внесла в комнату. Как и положено, каждый взял по кусочку отведать.
Дошел черед до самого трудного: надо было как-то рассадить гостей в тесной комнате, рядом с больной, что никак не удавалось режиссеру. Положение спасла Маришка.
– Пока что мне разрешают вставать, – сказала она. – Если убрать постельное белье, то на кровати могут усесться хоть четверо.
Маришке помогли надеть халат, убрали простыни и одеяло, и гости уселись на кровати. После скупых режиссерских указаний старый Франё начал:
– Как я понимаю, сперва нам следовало бы сказать, кто мы такие. Моя фамилия Франё, а это семья Нуоферов, они тоже работают в «Первоцвете». Мы решили навестить Маришку, как только узнали, какой она удостоилась чести, узнали, что Маришку снимают для телевидения, ну а что сказал врач насчет ее здоровья, это мы слышали от нее самой. В «Первоцвете» все очень убиты словами доктора и Маришку жалеют. Наши женщины постарались настряпать для вас чего повкуснее, чтобы вам было хлопот поменьше. Как видите, в этих свертках всякая всячина.
Маришка поблагодарила.
– Каждый раз, когда кто-нибудь от нас соберется проведать Маришку, мы станем присылать гостинцы. А кроме того, правление «Первоцвета» выделило вам единовременное пособие в размере 880 форинтов.
Франё положил деньги на стол. Мама пересчитала их и желчно заметила:
– Да уж, теперь мы с дочерью для вас отрезанный ломоть.
– Помолчи, Мама, – перебила ее Маришка. – И за денежное пособие мы вам тоже премного благодарны.
– А можно узнать, какая мне будет пенсия за дочку причитаться?
– Мы там все подсчитали. Вам положат за Маришку тысячу восемьсот в месяц.
Настала пауза. Каждый прикидывал в уме, велика ли сумма.
Мама хотела было сказать что-то резкое, но больная ее остановила.
– Я рассчитывала, что будет больше, – тихо вздохнула она.
– Как же так, Маришка! Все считано-пересчитано, ровно столько вам причитается. Мы и сами прекрасно понимаем, что для больного человека, который не может обходиться без посторонней помощи, этого мало на все про все. Скажите, вам удалось отложить хоть что-нибудь на черный день?
– Никаких сбережений у нас нет, только то, что платят с телевидения.
– И сколько это?
– Пять тысяч нам уже выдали на руки, и еще десять получит Мама после моей смерти.
– Все аккурат и уйдет на похороны, – не вытерпела Мама.
– Ну что вы, рано еще говорить о похоронах. А впрочем, признаться, мы так и предполагали, что с деньгами у вас туговато, по этому вопросу мы специально созывали правление. И потому именно я пришел не один, а с семьей Нуоферов. Ты ведь их знаешь, Маришка.
– Ну, конечно, знаю.
– Тебе известно, что люди они хорошие. Мальчик у них тихий, неизбалованный. Сам Шандор не пьет и не курит. Они вдвоем с женой работают, и на сберкнижке у них отложено двадцать две тысячи форинтов.
– Они что, собираются подарить нам свои капиталы?
– Помолчи, Мама, дай другим досказать.
– Сейчас станет ясно, к чему я клоню. Ну-ка, Шандор, выкладывай, зачем мы пришли.
– Жена складнее скажет, она у меня гимназию кончала.
Жена Нуофера начала рассказ.
– Наша семья ютится в подвале. От дождя штукатурка в потеках, все лето сырость неимоверная, а у нас ребенок, ему это вредно. Мы рассказали о нашей беде дяде Франё. По его словам, мы пришли в самое время, потому что в другой семье сложилось такое положение, что в двухкомнатной квартире скоро останется одна старушка. Можно бы съехаться и подписать договор о содержании и полной опеке над престарелым человеком. Кроме того, мы отдаем свои сбережения. Я обещаю, что от нас тетушка увидит только добро и ни в чем ей не будет никакой нужды.
Мама долго и пристально, в упор разглядывала Нуоферов. Наконец перешла к расспросам.
– Что, муж у вас родом не из цыган будет?
– Он и правда с лица смугловат, но не цыган.
– Хоть бы и не цыган, а пенсию у меня, старухи, свободно может прибрать к рукам.
– Нам до вашей пенсии никакого касательства нет.
– На словах одно, а как потом придется платить из своих кровных за квартиру, за свет да за газ все, что нагорит…
– С вас только четвертую часть. Остальное – наша забота.
– А пить-есть мне на что, из каких капиталов?
– Пожелаете, то внесете какой-то пай за харчи, не захотите – и так обойдемся. Где трое едят, там и четвертый голодным не останется.
– Как послушаешь, складно у вас все выходит, будто добрее вас человека нет. А только я так понимаю, что теперешняя доброта ваша вполне может обернуться другой стороной, когда придется плясать под вашу дудку.
– Да спросите хотя бы Маришку, – вмешался старый Франё.
– Родной-то дочери можно верить. Маришка подтвердит, что Нуоферы – люди надежные, не соврут, не обманут.
– Дочка в таких делах мало чего смыслит, – пренебрежительно отмахнулась Мама, испытующе меряя взглядом всех троих Нуоферов. – Готовите вы как, на жиру или на постном масле?
– Для себя на масле. Но для вас я согласна отдельно готовить на жиру.
– Да, мне надо, чтобы на жиру, к маслу я не привычная. А еще скажу, до сладкого я страсть какая охотница.
– Песочные пирожные, что мы принесли, я сама пекла. Вот, извольте отведать.
Мама выбрала пирожное, медленно, по кусочку съела. Взяла еще одно. И еще. После третьего пирожного она закрыла глаза: так человек прислушивается к отдаленной мелодии. Потом утвердительно кивнула головой.
– Ничего, есть можно. Но дела это еще не решает. Признаться, я терпеть не могу, когда дети шумят.
– Мальчик у нас очень тихий, – заверила ее жена Нуофера.
– В том-то и беда, что не по годам тихий, – добавил Шандор.
Однако им не удалось успокоить Маму.
– Тихих я тоже не люблю. А если мы не уживемся, можно будет расторгнуть договор?
– Можно, – подтвердил старый Франё. – Если Нуоферы не выполнят договорных условий, тогда можно будет расторгнуть.
– Когда вы собираетесь переселиться?
– Хотелось бы прямо сейчас, пока погода хорошая, – сказал Нуофер. – Боюсь, как бы сын чахотку не схватил.
– А мы с дочерью не позволим себя подгонять, не с руки нам горячку пороть.
– Но и выхода другого у нас тоже нет, – сказала Маришка и, сжимая обеими руками живот, встала. – Несите ваши сбережения, подписывайте договор и переселяйтесь, пока погода хорошая. А на сегодня довольно, ступайте домой. Устала я, надо мне полежать.
* * *
– Вот на этом и надо бы поставить точку! – воскликнул Уларик, просмотрев пленку. – Помощь и поддержка коллектива облегчают смерть. Концовка как по заказу для начальства.
– Только не для меня, – сказал Кором.
– Какого беса тебе еще не хватает?
– Сам не знаю. Одно бесспорно, что для этого фильма ни я и никто другой не сочинял сценария. Пока что мы договорились с Мико, что она в любом случае даст мне знать, как бы ни разворачивались события.
– Что ты имеешь в виду?
– Все, что угодно! Может быть, свершится чудо, и Маришка выздоровеет. Если чуда не произойдет, она умрет. Тем и хорошо, что тут возможны оба варианта. И твоя жизнь тоже, между прочим, интересна тем, что ты не знаешь, какая участь тебя ждет.
– Опомнись! У тебя в руках готовый фильм, материал большого воспитательного значения. К чему подвергать его риску?
– Какой фильм, какой фильм, старик? Ты забыл, что у нас есть еще один умирающий, а к съемкам я и не приступал.
– И кто этот умирающий?
– Я. Надь.
– Писатель, что ли? Да ты в своем уме? Я. Надь в отличной форме!
– Но инфаркт у него был.
– Шесть лет назад. Насколько я знаю Я. Надя, он испустит дух в постели у какой-нибудь очередной красотки.
– Не беспокойся, будет у него еще инфаркт.
– Весь вопрос – когда!
– Не знаю, но я дождусь и сниму.
– Если он согласится.
– У нас все договорено, он сам предложил. А слову Я. Надя можно верить.
– Тут ты прав.
– Тогда к чему этот треп: «согласится», «не согласится»?
* * *
Кором немного погрешил против истины. Если уж говорить по правде, то пресловутое согласие было дано писателем в саду небольшого ресторанчика в Буде и не вполне на трезвую голову.
Работа Корома на телестудии началась с того, что он состоял ассистентом при Я. Наде, когда тот подготавливал серию репортажей. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они сдружились, возможно, потому, что оба были неисправимыми мечтателями.
Я. Надь всю войну прошел репортером. Впоследствии он изложил на бумаге свои военные впечатления («Заметки военного корреспондента»). Затем выпустил роман и сборник рассказов, но эти опусы бесследно потонули в бурном потоке макулатуры. Тогда он попробовал свои силы на радио, где стал одним из лучших репортеров. Телевидение же – как он считал – изобрели специально для него. Я. Надь оставил беллетристику и выдавал один за другим сценарии, которые, впрочем, редко доходили до экрана. С годами он понял, что здравых мыслей у него больше, нежели творческой фантазии, и он может ступать уверенно, лишь покуда под ногами у него твердая почва фактов. И тогда он окончательно переключился на репортажи и документальные фильмы. Здесь Я. Надь мог бы блеснуть талантом, но его упорно отодвигали на второй план. Писатель растолстел. Друзья советовали ему перейти на диету, однако Я. Надь слишком любил вкусно поесть, и ему не удавалось сбавить ни грамма. Он сделал десяток репортажей – актерские портреты, – что оказалось благодарной темой. Окрыленный удачей, принялся за новую серию – «Виднейшие ученые нашей страны», где он, остроумный интервьюер, затмил главных действующих лиц. На том его творческая жилка как будто иссякла.
Вместе с Ароном они откопали этот маленьком ресторанчик в Буде, здесь сухую колбасу предлагали запивать сухим вином. Приятели зачастили в ресторанчик, промочить горло и отвести душу. Дружно костерили на чем свет стоит Уларика, который резал на корню их лучшие сценарии, и сообща строили планы один другого радужнее.
– Я тоже мечтаю отснять один документальный фильм, – обмолвился как-то раз Кором.
– На тему?
– О том, как мы умираем.
– С актерами или с подлинными участниками?
– Какой же документальный фильм с актерами?
– Грандиозная идея, валяй, старик!
– Это больше чем идея, Я. Надь, тут целый конгломерат: это и наука, и философия, и поэзия, а к тому же тема захватывающе увлекательна и доступна общему пониманию.
– Если, конечно, найдешь подходящую модель, то есть такого человека, который согласится умирать на глазах у миллионов людей.
– Ну вот ты, к примеру, согласился бы?
– Видишь ли, у меня другие творческие планы, – отшутился Я. Надь. – В частности, хотелось бы пожить подольше.
– Но у тебя уже был один инфаркт.
– Тогда заметано, – согласился Я. Надь с великодушием крепко подвыпившего человека. – Следующий свой инфаркт дарю тебе.
– Очень мило с твоей стороны.
Так в действительности обстояло дело с обещанием. Договор был заключен за ресторанным столиком, после того как приятели успели пропустить не один стаканчик вина, да и сам фильм тогда существовал лишь в заоблачных высях фантазии.
Я. Надя вероятнее всего можно было отыскать в буфете телестудии. Как и обычно, он восседал в компании смазливеньких женщин, которые млели от удовольствия, что знаки внимания – не всегда платонические – им расточает не кто-нибудь, а известный писатель, и громко смеялись над его остротами. Всякий раз, когда метко пущенное словцо разило слушательниц наповал, Я. Надь с довольным видом откидывался на спинку стула и уголки его губ вздрагивали в усмешке.
Режиссер отозвал приятеля в вестибюль и тут напомнил ему о старом обещании.
– А без меня ты никак не обойдешься? – деловито спросил Я. Надь.
– Без тебя не получится.
– Разреши мне подумать до вечера.
* * *
Вечером они встретились все в том же ресторанчике за своим излюбленным столиком.
– Выслушай мои сомнения, – начал Я. Надь. – Помнится, ты говорил, что по замыслу твой фильм – это поэзия, наука и философия, вместе взятые. Ну так болтовня все это, дружище! Во-первых, потому, что смерть человека – это экспромт, притом отвратительный, поэзия же – это строгая композиция и сама красота. Во-вторых: из единичного заурядного случая еще не выведешь философии, в нем лишь потенциальная возможность обобщения. Стало быть, и тут выходит накладочка. Ну, а с научной достоверностью и того хуже. Современная физика доказала на опыте, что, когда наблюдают отдельное, частное явление, чутко реагирующее на внешнюю среду, то само присутствие приборов наблюдения искажает ход процесса. Иными словами, перед камерой я буду умирать иначе, чем, скажем, на глазах одной Аранки. Значит, и научная ценность твоего фильма – не более чем фикция.
– Короче говоря, ты решил уйти в кусты?
– Просто не хочу, чтобы ты парил в эмпиреях. Пошли ты к черту все эти разглагольствования о синтезе искусства и науки, снимай то, что видишь, сделай добротный полноценный документальный фильм. Берись за него так, как если бы тебе предстояло показать работу водолазов, скажем, при строительстве моста. С той только разницей, что под занавес у тебя водолазы тонут.
– Что ж, это мысль.
– Если взяться за дело с душой, то, я уверен, ты сделаешь такой фильм, какого еще и не было на свете.
– Ну, а на таких условиях ты был бы не против?..
– Конечно, почему же нет, когда придет мой срок! Новизна меня всегда привлекала. А кроме того, последние года полтора я практически сижу без дела. Уларик, правда, пытается подбить меня на документальный фильм о засорении атмосферы, но, по мне, уж смерть перед телекамерой и то лучше. Стареющего эксгибициониста вроде меня хлебом не корми, дай только покрасоваться перед публикой.
– Я знал, что ты согласишься.
– Договорились, с этой минуты ты – мой режиссер. Что я должен делать?
– Ничего особенного. Для начала сходи к врачу.
– Чего это ради? Я себя чувствую превосходно.
– Да, но твое сердце…
– Никаких жалоб. Работает как мотор.
– Ну и прекрасно. И все-таки прошу тебя начиная с сегодняшнего дня еженедельно делать электрокардиограмму. Если обнаружится хоть малейшее отклонение от нормы, сразу дай мне знать.
– Этого, старик, ты не скоро дождешься.
– А мне не к спеху.
– Ну, тогда будь здоров!
– Будь здоров!
* * *
Прошла неделя. Как-то у режиссера выдался незанятый вечер, и ему захотелось распить с приятелем стаканчик-другой. Он спустился в буфет телестудии, но Я. Надя там не застал, зато за одним из столиков увидел Аранку Ючик, бывшую жену писателя, с которой они были в официальном разводе.
– Ждешь своего благоверного? – поинтересовался Арон.
Это было ясно без слов. Все приятели Я. Надя знали, что разведенные супруги собираются вновь вступить в брак. (И если это произойдет, то Я. Надь женится в пятый раз.)
– Представь себе, битый час торчу тут, – пожаловалась Аранка. – А распростились мы на том, что он на минуту заскочит в клинику. Скажи, это твоих рук дело? Что происходит с Я. Надем?
Писателя все называли по фамилии, как законные жены, так и героини его коротких любовных интрижек, случайные подруги, которые часто сменяли друг друга, но оставались неизменно преданы Я. Надю. По его собственному признанию, даже в минуты близости он слышит прерывистый шепот: «Я вся твоя, Я. Надь!»
– Опасаясь за его здоровье, я на правах друга посоветовал ему раз в неделю делать кардиограмму.
– И стронул лавину! Во что ты намереваешься его втравить?
– Я не заслужил таких обвинений! Вот и сейчас я ищу его только затем, чтобы распить по стаканчику вина с ним за компанию.
Режиссер постарался поскорее сбежать от Аранки, чтобы не пришлось выслушивать ее сетования. Дело в том, что Я. Надь – и это ни для кого не было секретом – тянул со свадьбой. Причиной тому была одна молодая актриса; чтобы жениться на Аранке, ему пришлось бы порвать с Иреной Пфаф (так звали актрису). Писатель никак не мог решиться, перетягивала то одна, то другая чаша весов. По одной из теорий Я. Надя, женщины взаимозаменяемы, как арифметические слагаемые. Должно быть, именно эта теория была виновата в том, что Ирену писатель иной раз называл Аранкой, а Аранку – Иреной. Главным в своей жизни Я. Надь считал служение искусству.
Выскользнув из буфета, Кором кинулся к лифту и очутился лицом к лицу с Иреной Пфаф. Актриса не ответила на его приветствие.
– Какая муха вас укусила, Ирена?
– Убить вас мало!
– И все из-за моего друга Я. Надя?
– Если вы ему истинный друг, то не губите его, – бросила Ирена и стремительно вылетела из лифта.
Вечером того же дня Кором от нечего делать наобум заглянул в облюбованный ими ресторанчик. На этот раз ему повезло. Писатель сидел на своем привычном месте, все в той же беседке, деля одиночество с графинчиком вина и бутылкой содовой; перед Я. Надем на струганом дощатом столе лежал раскрытый толстый фолиант.
– Что это ты штудируешь, Я. Надь?
– «Основы терапии» Мадьяра и Петрани.
– Зачем это вдруг?
– Иной раз нелишне перепроверить врачей.
И тотчас выложил, что к чему.
* * *
Поначалу писатель обратился к врачу, которого порекомендовала ему Аранка Ючик. Врач, сделав кардиограмму, заявил, что все в порядке, следует только беречь себя. Это навело писателя на размышления. Если все в порядке, то чего, спрашивается, беречь себя. В поисках истины на следующий день писатель обратился к другому врачу, рекомендованному Иреной Пфаф. Результаты анализов удовлетворительны, сказал тот, но все же Я. Надю следует больше гулять, плавать, закалять свое сердце. Так что же теперь делать – беречь себя или закалять? Я. Надь отправился к третьему, затем к четвертому эскулапу. Каждый из них успокаивал его, но каждый по-разному, что в конце концов не на шутку встревожило Я. Надя. Он ходил от врача к врачу, желая услышать определенный, твердо установленный диагноз. Писатель добился своего, попав в терапевтическую клинику, где его взяла под опеку доктор Сильвия Фройнд, весьма миловидная особа с командирскими замашками.








