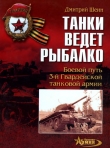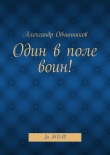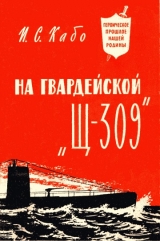
Текст книги "На гвардейской «Щ-309»"
Автор книги: Исаак Кабо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
ПЕРВЫЙ БОЙ
Из первого боевого похода «Щ-309» возвратилась в Таллин 12 июля. К этому времени обстановка на фронтах Великой Отечественной войны резко изменилась. Советские войска отступали в глубь страны, ведя тяжелые оборонительные бои. Враг овладел Ригой, Либавой. Шли ожесточенные бои на подступах к главной базе Краснознаменного Балтийского флота – Таллину. Немецко-фашистская авиация наносила бомбовые удары по береговым объектам и кораблям. Наша морская авиация, действовавшая против сухопутного противника, была малочисленна и поэтому не могла надежно прикрывать корабли и объекты флота.
В Финском заливе действовали вражеские подводные лодки и катера, немецкие и финские заградители усиливали минные заграждения, выставленные ими перед началом войны, а также ставили мины на наших фарватерах. В этих условиях 14 июля 1941 года с наступлением темноты «Щ-309» и еще две подводные лодки 6-го дивизиона в охранении двух эскадренных миноносцев вышли из Таллина в Кронштадт. В пути немецкая авиация не раз пыталась атаковать корабли, но каждый раз, встреченная дружным артиллерийским огнем, оказывалась вынужденной отойти. Зкипаж «Щ-309», как и экипажи других кораблей, бдительно следил за врагом. К вечеру 15 июля «Щ-309» стала на якорь в Лужской губе, вблизи плавбазы «Полярная Звезда». Обстановка для дальнейшего плавания в Кронштадт складывалась неблагоприятно: на подходах к нему увеличилась минная опасность, продолжались налеты авиации и артиллерийские обстрелы.
Только вечером 16 августа три подводные лодки 6-го дивизиона, плавбаза «Полярная Звезда» под эскортом базовых тральщиков № 210 и 215 отправились дальше. При подходе к Кронштадту на рассвете 17 августа с мостика лодки увидели зловещее зарево в районе Ленинграда. Лютая ненависть к врагу охватила каждого подводника. Всеми владело только одно желание: как можно скорее выполнить ремонт, ради которого лодка направлялась в Ленинград, привести корабль в боевую готовность и выйти в море топить врага.
В сентябре немецко-фашистские войска ценой огромных потерь в живой силе и боевой технике подошли вплотную к Ленинграду и блокировали его. Началась героическая оборона.
Находясь в непосредственной близости к великому городу на Неве, враг обстреливал его из орудий, бомбил с самолетов. Но с особым ожесточением он обрушился на Кронштадт, стремясь уничтожить находившиеся там корабли Краснознаменного Балтийского флота. Налеты фашистской авиации следовали один за другим. Один из налетов фашистская авиация произвела в 11 часов 30 минут 23 сентября 1941 года во время концерта, организованного для личного состава подводных лодок, уходивших в море. По сигналу воздушной тревоги все мгновенно разбежались по своим лодкам и боевым постам. На сигнальной мачте штаба флота ветер колыхал флажный сигнал: «40 самолетов противника».
Заговорили орудия кораблей и береговых батарей. Самолеты с черными крестами, с ревом выскальзывавшие из-за облаков, распластались на небе. Протяжный и неприятный свист падающих бомб обрывался оглушительным взрывом. Бомбы рвались рядом, фонтаны воды и грязи обливали людей. Фашистские стервятники рвались к крупным боевым кораблям и подводным лодкам, но огненная завеса заставляла их выходить из пике раньше срока и беспорядочно сбрасывать бомбы. Пулеметчик «Дельфина» матрос Федор Коробко бил короткими очередями. Бил четко и уверенно. Он открывал огонь только тогда, когда вражеский самолет входил в пике. В этот миг Коробко как бы сливался с пулеметом. Его «максим» действовал безотказно. Когда осколком бомбы пулеметчика ранило в ногу, он продолжал вести огонь.
Командир носового орудия старшина 2-й статьи Аршинов посылал снаряд за снарядом во врага, и его уверенность передавалась всему расчету орудия. Изредка слышались короткие приказания: «снарядов», и подносчик снарядов матрос Виктор Осипов работал еще быстрее. Один из бомбардировщиков пошел в пике на лодку. Еще мгновение, и полетят бомбы…
Орудие «говорило» все чаще и чаще. Коробко стрелял уже длинными очередями. Соседние корабли помогали «Щ-309» ставить огневую завесу. Очередной залп, и стервятник, круто сорвавшись, перевернулся и, сделав свое последнее пике, рухнул в воду. Воды гавани приняли еще одного воздушного пирата. Однако отдельным фашистским самолетам удалось прорваться и нанести повреждения городу, порту, Морскому заводу и некоторым кораблям.
Войска Ленинградского фронта, защищавшие город – колыбель пролетарской революции, нуждались в подкреплении. Краснознаменный Балтийский флот создавал отряды моряков для боев на суше. С подводной лодки «Щ-309» на сухопутный фронт ушел матрос Иван Краев, который геройски погиб в боях за город Ленина.
ПОИСК ВРАГА
26 сентября 1941 года между островом Борнгольм и шведским берегом, а затем западнее острова Готланд была обнаружена германская эскадра в составе линкоров «Тирпиц» и «Адмирал Щеер», легких крейсеров «Нюрнберг» и «Кельн», четырех сторожевых и шести торпедных катеров. Чтобы не дать им прорваться в восточную часть Финского залива для нападения на Кронштадт и Ленинград, на позиции были высланы подводные лодки. Получила приказ о выходе в море и «Щ-309».
В 21 час 55 минут 27 сентября лодка вышла из Кронштадта на позицию между островами Виргины – Малый Тютерс. Путь к позиции преграждали многочисленные минные поля, самолеты и корабли противника, осуществлявшие поиск наших подводных лодок. Осенними штормами многие мины были сорваны с якорей и плавали на поверхности моря или в полузатопленном состоянии, подстерегая очередную жертву. Требовалась исключительная бдительность рулевых-сигнальщиков, чтобы ночью избежать встречи с минами.
В один из дней нахождения подводной лодки на позиции произошел такой случай. Когда лодка всплыла в позиционное положение для зарядки аккумуляторной батареи, бушевал осенний шторм. Из-за сильной качки люди едва держались на ногах. Вдруг через горловину нижнего торпедного аппарата, открытую для подкачки воздуха в торпеду, в первый отсек хлынула забортная вода. При каждом ударе волн она врывалась с такой силой, что грозила затопить весь отсек. Находившийся на вахте старший краснофлотец Абрамов бросился к аппарату и перекрыл горловину. Поступление воды прекратилось.
Теперь требовалось устранить повреждение, без чего нельзя было погружаться. Для этого предстояло с риском для жизни проникнуть в носовую надстройку, куда поступала бушующая забортная вода. Первым полез в надстройку старшина 2-й статьи Малявкин. С трудом он открыл первый лаз. Открыть второй не удалось. Тогда в надстройку спустился мичман Фокин. Работать приходилось на ощупь, по горло в воде. Наконец открыв второй лаз, Фокин пробрался к волнорезному щиту, где все пространство было заполнено водой. Мичман увидел, что переднюю крышку торпедного аппарата отжимает надломанный и выгнутый волнорез. С помощью лома Малявкин и Фокин с большим трудом несколько выровняли излом волнореза. Передняя крышка подвинулась к положению закрытия. И хотя неисправность полностью устранена не была, лодка могла плавать в подводном положении.
До 17 октября «Щ-309» искала вражеские корабли и транспорты, но они в районе позиции не появлялись. Когда лодка возвратилась в Кронштадт, ее действия были признаны правильными. Однако экипаж корабля, жаждавший внести свой вклад в дело разгрома фашистских оккупантов, не получил удовлетворения от этого похода. С еще большей настойчивостью и старанием он начал готовиться к очередному боевому походу.
А на Ленинградском фронте обстановка по-прежнему оставалась тяжелой. Доставка боеприпасов и продуктов питания в блокированный город была крайне затруднена. Корабли и транспорты, на которых доставлялись грузы, систематически подвергались ударам авиации и артиллерии противника. Нормы снабжения ленинградцев неуклонно сокращались. Надвигалась зима, но подвозить топливо не было возможности.
Корабли и авиация Краснознаменного Балтийского флота во взаимодействии с войсками фронта наносили удары по немецко-фашистским войскам.
В 2 часа 9 минут 9 ноября 1941 года вместе с караваном кораблей, состоявшим из минного заградителя «Урал», госпитального судна «Жданов», лидера «Ленинград», эскадренного миноносца «Стойкий», трех быстроходных тральщиков и катера «МО», который направлялся за защитниками полуострова Ханко, вышли с Большого Кронштадтского рейда подводные лодки «Щ-309» и «Щ-311». Им предстояло вместе с караваном следовать до острова Гогланд, а затем самостоятельно – на позиции.
13 ноября старшина радистов Василий Дмитриевич Коновалов принял по радио текст письма защитников Москвы героическим защитникам Ханко: «Пройдут десятилетия, века пройдут, а человечество не забудет, как горсточка храбрецов, патриотов земли советской, ни на шаг не отступая перед многочисленным и вооруженным до зубов врагом, под непрерывным шквалом артиллерийского, минометного огня, презирая смерть во имя победы, являла пример невиданной отваги и героизма.
Великая честь и бессмертная слава вам, герои Ханко! Ваш подвиг не только восхищает советских людей, но вдохновляет на новые подвиги, учит, как надо оборонять страну от жестокого врага, зовет к беспощадной борьбе с фашистским бешеным зверьем».
Военный комиссар «Щ-309» старший политрук Сергей Федорович Заикин, назначенный на лодку 1 ноября, рассказал личному составу о подвигах защитников Ханко, разъяснил значение этого письма, а также поставленную перед экипажем лодки задачу – обеспечить безопасность эвакуации героического гарнизона Ханко.
Старший политрук Заикин быстро завоевал уважение и глубокую привязанность экипажа лодки. Большой опыт партийно-политической работы, накопленный за многие годы службы на флоте, помогал ему в любой обстановке находить правильный путь к решению поставленной задачи. Сергей Федорович неустанно по-отцовски заботился о людях, умел вовремя подбодрить, дать правильный совет, помочь, а когда требовалось, и взыскать с провинившегося. Он не жалел времени для разъяснения боевых задач и возникавших злободневных вопросов. Беседы и политинформации старшего политрука отличались обстоятельностью и доходчивостью. Матросы не упускали случая поговорить с ним по душам.
Вечером 23 ноября 1941 года «Щ-309» отправилась с позиции в базу, так и не обнаружив кораблей врага. Позднее выяснилось, что, сообщая по радио необходимую информацию, она раскрывала свое местонахождение, и это позволило противнику избежать встречи с лодкой.
ВО ЛЬДАХ
26 ноября над морем стоял промозглый туман. «Щ-309», возвращавшейся из очередного боевого похода, было приказано стать на якорь на рейде бухты Сууркюля у острова Гогланд. Сама бухта, где находилось несколько кораблей, была уже покрыта льдом.
Когда «Щ-309» стала на якорь, к ней подошел на катере начальник политотдела Охраны водного района полковой комиссар Р. В. Радун и спросил у командира лодки, есть ли в составе экипажа водолазы, так как надо помочь канонерской лодке «Кама», принимавшей участие в эвакуации гарнизона Ханко, снять с гребного винта намотавшийся на него трос. На «Щ-309» имелись легководолазные костюмы, но работать в них в условиях низкой температуры запрещалось. Командир лодки вызвал добровольцев. Изъявили желание все. Выбор пал на старших матросов Ивана Князева и Николая Вехова, матросов Василия Малова и Алексея Бучарского.
Командир канонерской лодки ознакомил легководолазов с планом работ. Первым под воду опустился Малов. Работать в легководолазных костюмах при температуре 18 градусов ниже нуля было очень холодно, несмотря на надетые ватники и теплые носки. Через три минуты Малова вытащили из воды. Едва отдышавшись, он доложил о результатах осмотра. Затем под воду пошел Бучарский. Бучарского сменил Вехов, Вехова – Князев.
Более суток работали матросы. Каждый из них опускался в ледяную воду по тридцать раз. Напрягая силы, моряки освободили винт корабля от намотавшегося троса. «Кама» теперь могла выполнять боевые задачи. Усталые и счастливые, матросы возвратились на свою лодку. Только энергичные меры, принятые старшим лейтенантом медицинской службы Алексеем Павловичем Смирновым, предупредили серьезные заболевания.
А мороз все крепчал. Подводной лодке вместе с другими кораблями предстояло возвращаться в базу во льдах.
Чтобы не повредить прочный корпус и винт, «Щ-309» совершала переход в позиционном положении. Льдины ударялись о корпус, и порой казалось, что он не выдержит и в пробоины хлынет вода. Но этого, к счастью, не случилось. Плавание пришлось совершать среди минных полей, что требовало особого внимания экипажей.
На переходе на выручку пришел ледокол «Адмирал Макаров», который значительно облегчил движение во льдах.
Ледокол привел группу кораблей к устью Невы, уже скованной льдом. Оставшийся путь до места стоянки «Щ-309» прошла в битом льду самостоятельно. Ранним утром 12 декабря 1941 года она ошвартовалась у борта плавбазы «Полярная Звезда».
Как родных, встретили на плавбазе экипаж лодки. Его ожидали чистые и уютные кубрики, трогательно украшенные хвойными ветками, которые были дороже роскошных букетов. Все располагало к отдыху после трудного похода.
В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ
В результате отхода наших войск на сухопутных фронтах корабли, в том числе и подводные лодки, были вынуждены покинуть такие важные и оборудованные военно-морские базы, как Либава, Рига, Таллин и обосноваться в блокированном Ленинграде.
В городе не хватало продовольствия и топлива, был остановлен транспорт, не работал водопровод. Почти все судоремонтные заводы были эвакуированы вместе с рабочими и инженерно-техническим персоналом, поэтому очередной плановый ремонт и осмотр «Щ-309» предстояло произвести ее личному составу. Для технической консультации по ремонтным работам была привлечена небольшая группа рабочих и инженеров, но по состоянию здоровья эти люди уже не могли работать. Экипаж лодки окружил вниманием и заботой специалистов-судостроителей. Сами систематически недоедавшие, моряки делились с ними своим скудным пайком, стремясь сохранить ценнейшие кадры рабочих и инженеров.
20 февраля 1942 года на лодку пришло письмо от К. Ф. Терлецкого – одного из первых советских инженеров – специалистов подводного судостроения. Широко технически эрудированный, обладавший огромным производственным опытом, Константин Филиппович умел глубоко вникать во все нужды подводников. Терлецкий писал:
„Дорогие товарищи!
То, что я сейчас пишу вам, и то, что я дожил до сегодняшнего дня, – в значительной степени обязан вашей поддержке мне. Вы мне оказали большую помощь в один из критических моментов моей жизни, за что вам очень благодарен. Вас заботит вопрос о гребных винтах? Я для вашего корабля уже приготовил пару совершенно новых гребных винтов.
Поздравляю вас с наступающей годовщиной Красной Армии и Военно-Морского Флота и выражаю твердую надежду, что в 1942 году буду иметь возможность крепко пожать ваши руки и поздравить всех Вас с победным походом».
Несмотря на недоедание, бомбежки и артиллерийские обстрелы, матросы и офицеры готовили лодку к предстоящим походам, добиваясь самого высокого качества ремонта. Каждый подводник знал, что малейший недосмотр, незначительная оплошность при ремонте могут привести к невыполнению боевого задания и даже к гибели корабля.
Экипаж «Щ-309» еще в мирное время накопил опыт самостоятельного ремонта, но в условиях блокированного Ленинграда этого опыта было недостаточно. Требовалась большая изобретательность, чтобы достать или изготовить необходимые для ремонта запасные части и материалы. В этом отношении большое мастерство проявил личный состав электромеханической боевой части, возглавляемый теперь уже инженер-капитан-лейтенантом Аверьяновым.
В январе 1942 года старший политрук Заикин получил назначение в другую воинскую часть, и на лодку прибыл новый военный комиссар старший политрук Самуил Зиновьевич Кацнельсон. С первых же его шагов личный состав распознал в старшем политруке знающего подводника, умелого политработника и чуткого товарища.
Все работы на корабле повседневно находились в поле зрения партийной и комсомольской организаций. Коммунисты и комсомольцы взяли на себя обязательства по досрочному окончанию ремонта. Командиры боевых частей и старшины групп ежедневно подводили итоги сделанному. Группы обменивались опытом. Достижения передовиков становились известными всему экипажу – за этим внимательно следил секретарь партийной организации «Щ-309» Блажугин. Ценные рационализаторские предложения значительно ускоряли ремонт и улучшали его качество.
Хорошо организованная партийно-политическая работа обеспечила четкое выполнение заданий матросами и старшинами, способствовала повышению производительности труда, досрочному окончанию ремонтных работ. Экипаж лодки систематически выполнял план работ на 150–200 %, а группа мичмана Павленко – на 240 %.
За отличное проведение доковых работ мичман Павлюков и старший краснофлотец Давыдов были отмечены правительственными наградами; старшины Фокин, Блажугин, Павленко, Фомин, Савицкий, Анишин и матросы Зотов, Антонов и Бутаров получили грамоты Военного совета Краснознаменного Балтийского флота и Наркома Военно-Морского Флота.
Нередко экипаж «Щ-309» прекращал свои работы и оказывал помощь заводам, фабрикам и мастерским, которые подвергались систематическим налетам вражеской авиации и артиллерийскому обстрелу. Откликнулся экипаж лодки и на призыв исполкома Ленинградского совета об очистке города в целях предотвращения эпидемических заболеваний. В первом воскреснике по восстановлению трамвайного движения в городе принял участие весь личный состав лодки.
В дни блокады сложились поистине дружеские отношения между офицерами, старшинами и матросами «Щ-309» и рабочими и служащими фабрики «Красный треугольник», табачной фабрики имени Урицкого и другими предприятиями.
Не упускали подводники времени и для совершенствования боевого мастерства. Для занятий, учений и тренировок использовалась буквально каждая минута. Не одну сотню «нырков» под воду пришлось сделать на Неве, чтобы довести действия личного состава до автоматизма.
Все на лодке было целеустремлено на то, чтобы возможно скорее и лучше подготовиться к предстоящим боевым походам.
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Фашисты решили взять Ленинград во что бы то ни стало и какой угодно ценой. Но все их планы разбивались о непреклонную стойкость, мужество и самоотверженность защитников городе.
Командование Ленинградского фронта издало приказ о строительстве оборонительных рубежей вокруг города. В июле и августе 1941 года их сооружало свыше 670 тысяч человек. В зной и дождь, ночью и днем плечом к плечу трудились над возведением эскарпов и противотанковых рвов, дотов и дзотов, землянок и блиндажей люди разных профессий и возрастов. Среди них были сталевары и станочники, артисты и текстильщики, домохозяйки и студенты, подростки и убеленные сединой старики. Чувство сыновней любви к Родине и ненависть к врагу заставляли людей забывать усталость, вселяли в них огромную силу, необыкновенное упорство, готовность до конца выполнить свой долг. Враг близок. Он хочет пройти. Но не пройдет!
Неприступные укрепления железным кольцом опоясали город. Ленинград стал подлинным городом-крепостью. На каждой улице, у каждого дома подстерегала врага неотвратимая гибель. Вооруженный, защищенный надежной стеной оборонительных сооружений, Ленинград выстоял.
В результате воздушных ударов и артиллерийских обстрелов рушились заводские здания и школы, больницы и жилые дома. Под обломками зданий гибли наши отцы, матери, дети. Но ничто не могло сломить воли ленинградцев к победе.
Враг обстреливал город из орудий. Рабочие под разрывами снарядов пробирались к своим станкам.
Враг бомбил город. Ленинградцы мужественно поднимались на наблюдательные вышки, ликвидировали очаги пожаров.
На призыв нашей партии «Все для фронта, все для победы над врагом!» ленинградцы отвечали трудовыми успехами. По многу суток не выходили из цехов рабочие и служащие, когда требовалось срочно выполнить заказ фронта.
В эти суровые дни тяжелых испытаний на имя ленинградцев и воинов Ленинградского фронта приходили сотни ободряющих писем со всех концов Советского Союза. Много писем с Большой земли получил и экипаж «Щ-309». В них отражалась кровная связь тыла и фронта. Здесь были и пожелания боевых успехов, и готовность помочь тем, кто потерял родных и близких. Авторы писем заверяли, что они, находясь в тылу, приложат все свои силы, чтобы обеспечить армию всем необходимым для быстрейшего разгрома врага.
Волнующим было письмо Татьяны Ивановны Троицкой – жены старшины 2-й статьи Аршинова, которая пожелала всему экипажу боевых успехов, чтобы быстрее наступил час расплаты с врагом за наш народ, за наши города и села, за погибших родных и близких.
«И мы, жены, – писала Татьяна Ивановна, – находясь во фронтовом городе, тоже вносим свой вклад на трудовом фронте и выполняем священный долг советского человека: когда в двухэтажное здание, где находилось 120 ребят, во время артиллерийского обстрела попало шесть снарядов, а еще три разорвались около дома, мы, не щадя своей жизни, спасли всех детей».
Бывший подводник старшина 2-й статьи Преображенский, поздравляя личный состав лодки с 25-й годовщиной Великой Октябрьской революции, писал: «…Вашим мужеством восхищаются не только моряки, но и воины сухопутного фронта. Желаю успехов в учебе и борьбе с врагом человечества – фашизмом…»
Гвардии краснофлотец Борис Шелоханов получил от своего брата Леонида, бойца-пограничника, письмо, в котором тот писал: «Боря, прошу тебя, если мне не удастся, – отомсти за наших родных, за наш город Ростов-на-Дону, за поруганную честь советских людей. Бей, топи немецких гадов!»
Леониду ответила группа старшин и матросов. «Родной Леонид! – писали они. – Твой брат – отважный подводник, мужественно и бесстрашно сражается с немцами на море. Вместе с ним мы дали у Гвардейского знамени священную клятву бить фашистских гадов, не щадя ни сил, ни жизни.
За руины Ростова-на-Дону, за смерть родных нашего товарища мы сторицею отомстим подлым чужеземцам». Письмо подписали главные старшины В. Пронин, Ф. Павлюков, старший краснофлотец И. Давыдов.
В октябре 1943 года моряки Балтики были приглашены в гости к своему шефу – в Казахскую ССР. В состав делегации от личного состава лодки «Щ-309» был включен матрос Николай Вехов.
Далек путь от Балтики до солнечного Казахстана. И на всем этом пути видел Вехов родную страну, в неимоверном напряжении работающую для фронта. Он видел нескончаемый поток эшелонов – на фронт шли мощные советские танки, самолеты, орудия, снаряды, продовольствие. С фронта на заводы Урала поезда везли разгромленную вражескую технику – укрощенных «тигров», «пантер», «фердинандов». Глядя на все это, сердца делегатов наполнялись гордостью за славную Коммунистическую партию, за могучий народ, превративших нашу страну в несокрушимую крепость.
«Не успели мы выйти из вагона на станции Алма-Ата, – рассказывал Николай, – как нас буквально забросали вопросами: Как живет и воюет Ленинград? Как дела на Балтике? Как сражаются подводники?.. Мы побывали на заводах, рудниках, фабриках, в колхозах, школах и везде видели трудовые подвиги народа во имя Родины, во имя нашей победы».
В том же 1943 году делегация Казахской ССР посетила Балтику и побывала на «Щ-309».
Большим праздником для экипажа лодки были встречи на плавбазе «Полярная Звезда» со своими шефами – детским садом № 26 Ленинграда. Сколько радости доставляли малыши своим присутствием, сколько теплого волнения вносили они в суровую жизнь подводников, напоминая о родных и близких. И во имя их счастливой жизни каждому хотелось удесятерить удары по врагу, добиться быстрейшей победы:
Много песен о подводниках создал в те дни композитор Константин Листов, немало своих произведений им посвятили поэт Всеволод Азаров и драматург Александр Крон, жившие вместе с подводниками на плавбазе «Полярная Звезда». Не раз в редкие часы досуга матросы пели под аккомпанемент композитора, слушали новые стихи. Частыми гостями подводников бывали военные корреспонденты Михаил Никитин и Николай Ланин, написавшие много ярких очерков о боевых действиях подводников Балтики, об их самоотверженном труде.
Как известно, блокада Ленинграда продолжалась до начала 1944 года. 14 января после длительной и тщательной подготовки войска Ленинградского и Волховского фронтов, моряки Краснознаменного Балтийского флота перешли в решительное наступление против немецко-фашистских войск, осаждавших Ленинград. К 27 января 1944 года блокада, продолжавшаяся свыше 900 дней, была прорвана. Великий город на Неве, носящий бессмертное имя Ленина, остался недосягаемым для захватчиков.
«Беспримерная по своему мужеству борьба Ленинграда в условиях длительной вражеской блокады показала всему миру образец сплоченности, морально-политической стойкости и несгибаемой воли советских людей, возглавляемых Коммунистической партией. Она вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из наиболее славных и героических ее страниц», – записано об этом выдающемся событии в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза».
Летом 1943 года, когда Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Ленинграда», ею был награжден весь личный состав «Щ-309».
Получая награду, матрос Давыдов выразил мысли своих товарищей, сказав, что медаль обязывает еще сильнее бить врага, еще яростнее мстить за раны, нанесенные великому городу.
– Клянусь, если потребуется моя жизнь за город Ленина, за русскую землю, я отдам ее не жалеючи, – заявил, принимая медаль, мичман Фокин.