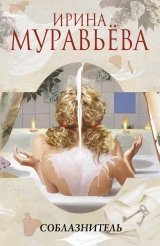
Текст книги "Соблазнитель"
Автор книги: Ирина Муравьева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ирина Муравьёва
Соблазнитель
Книга первая
Глава I
Дочке было семь лет, она уже месяц ходила в ту самую школу, где Вера была восьмиклассницей, а сам он работал учителем. И жена его, женщина молодая, с холодным и одновременно затравленным лицом, каждый день приходила забирать свою дочку после уроков и ждала в вестибюле, ни с кем не разговаривая, не вступая ни в какие обсуждения, а просто сидела, отстраненная, надменная и несчастная, как будто бы знала, что ей суждено всю жизнь глотать горькие слезы стыда. А раньше, до осени этой, была и веселой и нежной, любила смеяться, а тут вдруг – как заледенела.
Первого сентября они вместе с мужем привели в школу свою румяную, в огромных бантах, девочку, а шестого сентября муж признался ей в таком, что у нее остановилось дыхание. Вокруг была жизнь, и ходили, скользя по мокрой листве, загорелые люди, кричали и пели, и пахло арбузом, последние астры цвели на газонах, но все это было как будто не с ними, как будто они уже и не имели с простой этой жизнью своей прежней связи.
Так в чем он признался? Постойте, не сразу. Конечно, на свете случается разное. И мало ли всяких страннейших признаний, и мало ли боли от этих признаний? Жена его, носящая чудесное имя Елена, за девять лет брака привыкла ко многому. Вернее сказать: он ее приучил. Он предупредил, что ей с ним будет трудно. Она не поверила, но согласилась. Пусть трудно, но только бы с ним. Она подбирала за ним его мысли, привычки и шутки, и все сохранялось внутри ее сердца, и там, в ее сердце, за все эти годы так много всего набралось, просто страшно. Коллекция целая, остров сокровищ. Она относилась к нему не как к мужу, законному спутнику и компаньону, а как к господину – слуга, как рабыня, хотя до него и до этого брака в ней не было даже следов униженья, тем более рабства. Откуда же рабство, когда она дочка отца-генерала, любимая дочка? Отец, правда, умер, но мать-то жива. А тут ее словно бы заколдовали. Ну, парень как парень, глаза голубые. И взгляд очень пристальный, в самую душу. Увидела и обмерла, заболела. Люблю, не могу без тебя, не могу. Хоть режь на кусочки, хоть жги на костре. Не хочешь жениться, я так могу жить. Но он почему-то женился, как будто и сам тосковал без семьи.
Когда после свадьбы он переехал к ним на Тверскую в прекрасную большую квартиру, где мать-генеральша только что сделала ремонт и поменяла мебель, так что теперь даже в кухне стояли обтянутые золотистой парчой стульчики, а полог у материнской кровати был просто музейным, и днем этот полог, присобранный в пухлые складки, с трудом продевали в кольцо ярче золота, – когда он переехал из своего костлявого и облупленного Нагатина в эти ослепительные покои, и матери-генеральше, и самой Елене сразу стало ясно, что ему не только наплевать на все это, но даже немного мешает. Он как-то сказал, что любовь их с Еленой зачахнет внутри золотистого плюша, поскольку любви нужен лес и дорога, а если уж золото, то натуральное: к примеру, пшеница, шумящая в поле.
Но и мать, поначалу высоко вскидывающая брови при виде его не снятых после дождя и уличной грязи башмаков, и робкая до удивления Елена, с лицом то испуганным, то восхищенным, молчали. Он часто просил ее:
– Дай мне, Елена, побыть одному. Я подумать хочу.
Она не мешала. Она подчинялась, как будто ее воспитали не в школе, не в детском саду, не в советской семье, а где-нибудь в монастыре, на отшибе, на севере Франции средневековой, откуда она вышла кроткой, но сильной, не знающей жизни и одновременно готовой к любым испытаньям судьбы.
– О чем он там думает, детка? Не знаешь? – шептала ей мать.
– Нет. Откуда я знаю?
– Одни выкрутасы, – шипела ей мать. – Наплачемся мы. Вот увидишь, наплачемся.
Его «выкрутасы» она тоже знала. Они заполняли их ночь, и Елена стремилась к тому, чтобы он был доволен ее этим белым податливым телом, и не пресыщался ее восхищеньем, и не уставал от ее поцелуев. Она уже знала, что делать, как делать, она исполняла любые желанья. Сначала с испугом, потом с исступленной и нежной готовностью. Любовь, даже рабская и бестолковая любовь молодой, очень преданной женщины к мужчине, которым она так гордится, всегда придает ее внешности блеска. Елена цвела, она переливалась, и к ней приставали другие мужчины, которые думали, что раз такая, то, может, и выгорит. Не выгорало.
Они прожили почти девять лет, оба окончили университет, родили дочку с широким лицом, как у матери, и отцовскими глазами, голубыми и выпуклыми, назвали ее Василисой в честь деда (а дед был Василием). Мать-генеральша опять побелила везде потолки и вскоре купила ковер, правда, дорого, но очень уж он подошел им по стилю.
Заканчивался еще по-летнему теплый, но уже не по-летнему темный вечер, окна были открыты, и к ним во двор стекались проститутки, потому что с самой осени тысяча девятьсот девяносто девятого года именно их двор был местом собрания этих отбившихся от честной и правильной жизни девчат. Они повисали на детских качелях, свободных, поскольку детишки все спали, сидели вокруг тускло-серой песочницы, дымя сигаретами и матерясь, а парни, плечистые, крепкие парни, всегда молчаливые и безразличные, глядели на них из машин, подзывали, и девушка шла так, как будто не знает, зачем подзывают и что теперь будет, а после садилась в машину, и юбка ее задиралась почти до трусов. Присматривали за любовным хозяйством два славных сержанта: Сережа и Саша; им все доверяли, и Саша с Сережей, устав от надзора, бывало, ласкали во время дежурства, не отлучаясь, какую-нибудь из невыбранных девушек: им тоже хотелось вниманья и неги.
Итак, заканчивался вечер, дочка спала, а они стояли на кухне в полутьме, и он, глядя на нее в упор своими выпуклыми глазами, сказал, что работать учителем в школе ему очень трудно. И все объяснил. Другая женщина, наверное, закричала бы, или ударила его по небритой щеке, или бросилась бы под золотой полог к родной своей матери, чтобы и мать вскочила, крича, проклиная и плача, но наша Елена не сделала этого. Она опустилась на стул, побледнела при этом так сильно, что и полотенце, которым они вытирали посуду, казалось румяным в сравнении с нею. Ни рук и ни ног больше не было, словно их кто-то отрезал без боли и крови.
– Не знаю, что делать, – сказал ее муж, – смотрю на нее, а все мысли такие, что… Невмоготу.
– Ты что, извращенец? – спросила она.
– Нет. Впрочем, не знаю.
– Зачем ты сказал мне об этом? За что?
– Скрывать от тебя ничего не хочу.
И он замолчал.
С этого вечера их пути разошлись: Елена отправилась в ад, в лютый холод, а он поселился повыше, в тепле. В аду пахло кислым железом и рвотой, и рядом сновали какие-то тени, наверное, подруги ее по стыду. Муж, голубоглазый, с открытой душою, жил дома и спал на одной с ней постели, но ей стало страшно ночами с ним рядом.
Глава II
Вере было шесть лет, когда она впервые почувствовала любовь. Она жила на даче с бабушкой и многочисленными бабушкиными родственниками, а мама, оставшись в Москве, боролась то с папой, то с кем-то за папу, и в этой борьбе была вся ее жизнь. И тут к ним на дачу приехал Володька. Он тоже был чьим-то, наверное, родственником. Его поселили в садовом сарайчике. Она его помнила даже сейчас: прыщавый, скуластый и тощий Володька был на удивление легким и ловким. Он словно не шел, а летел. Летая нал клумбами и над дорожками, засыпанными лепестками жасмина, он много смеялся и щурил на солнце свои небольшие припухшие глазки. Она уже знала, что кончится лето и он пойдет в армию.
Бабушка, страдающая за маму, нелепо влюбленную в мужа, который ее то терзал, то бросал, то снова терзал, а то снова бросал, в то ясное утро сидела на лавочке, и рядом с ней был узкоглазый Володька.
– Вернешься из армии, будешь работать. Найдешь себе барышню, может быть, женишься…
Она говорила, не думая, просто желая сказать что-то очень приятное.
– На Верочке вашей женюсь, – засмеялся визгливо Володька, – пойдешь за меня?
Ей было шесть лет, а она покраснела, как взрослая женщина, вся запылала. Потом сняла ленту, и волосы сразу посыпались сверху на голые плечи. Она послюнявила палец и быстро пригладила брови, как делала мама.
– Давай догоню, – предложил ей Володька.
Игра началась. Вера бегала быстро, а этот веселый тщедушный Володька, не подозревавший, какие сюрпризы ему заготовила жизнь, хохоча, летал за ней по аккуратному саду, поскольку он сам был почти что ребенок. Он вырос в семье хоть и бедной, но строгой. Догнав, он схватил ее сзади за локти, потом вдруг подкинул, как будто она была то ли куклой, а то ли мячом.
– Сказал «догоню», и догнал, – он смеялся, но вдруг, посмотрев на нее, перестал. – Ты плачешь, Веруська? Тебе что ли больно?
Она, шестилетняя, плакала горько. И он испугался.
– Ты что?
– Что-что? Ничего. Я устала!
Володька пожал в удивленьи плечами. Пошел по тропинке, усыпанной свежим, скользящим жасмином, к террасе, откуда их звали обедать, где бабушка уже разливала зеленые щи по белым глубоким тарелкам.
Веру уложили спать, как всегда, в половине девятого, но она не спала, и сердце внутри ее детской груди то громко стучало, то вдруг замирало, а то начинало вскипать, как вскипает малина в тазу, когда варят варенье. Странные, дикие желания одолевали ее. То ей хотелось выпрыгнуть из окошка, и прямо как есть, босиком, побежать к Володьке, в сарайчик, и честно сказать, что ей бы хотелось пойти вместе с ним, куда он прикажет. И в армию тоже. Она представляла, как он удивится, но тут же обрадуется, засмеется, оближет свои малокровные губы и крепко обнимет ее. Ах, как крепко! А то ей хотелось его ущипнуть, а может быть, даже ударить. Все тело ее как-то странно гудело.
На следующее утро Володька уехал, и Вера его постепенно забыла. А через два года, тоже летом и тоже на даче, бабушка вдруг спросила ее:
– А помнишь Володьку?
Она покраснела, и бабушка тихо сказала:
– Он умер.
– Его что, убили? – спросила она.
– Да нет, не убили. Хотя как им верить? Сказали, что умер от кори, и все. Теперь не вернешь. Погубили парнишку. Такой был простой. Ты, конечно, не помнишь. Играл с тобой в салочки здесь, хохотал…
И бабушка вытерла слезы ладонью.
Известие о Володькиной смерти сначала испугало Веру, но потом ей стало казаться, что она никогда и не знала никакого Володьки, никогда он не приезжал к ним на дачу, не ночевал в садовом сарайчике, не бегал за нею по этим дорожкам, ее не подкидывал в воздух, как куклу, не зная, что Вера его полюбила, не зная, что жить оставалось два года, не зная, зачем он пришел сюда в виде прыщавого и говорливого парня, а скоро уже уходить, улетать и вновь становиться бессмертным и вечным.
В восьмом классе в школе появился новый учитель английского языка и английской литературы. Фамилия у него была, как у композитора: Бородин. А звали Андреем Андреичем. Он был молодым, говорил резким басом, глаза его ярко синели на солнце. Старшеклассницы начали волноваться и подводить веки. Колени их нежно скрипели чулками, и звук был похож на морской звук ракушек, когда их потрешь ненароком рукою. Про Андрея Андреича тут же стало известно все или почти все. Он был женат, и у него была семилетняя дочка. Пришлось рассмотреть эту дочку придирчиво. Обычный ребенок, косички, носочки. Потом рассмотрели жену. Одета небрежно, лицо, как у этой… да, как ее? Древней? Ну, у Нефертити. Такие же губы, глаза, нос и уши.
И кто-то сказал:
– Да он ее бросит и не оглянется! Хотите поспорим?
Но спорить не стали: и так было ясно, что бросит. Странный был взгляд у Бородина: он устремлялся в самые зрачки собеседника, словно для того, чтобы собеседник сдался, не выдержав этой загадочной силы. Потом он свой взгдяд отводил и при этом немного бледнел.
– Почему у тебя такая странная фамилия: Переслени? Ты что, итальянка? – спросил он у Веры.
Она была самой красивой из всех и самой худой, но при этом насмешливой.
– Нет, не итальянка.
– Тогда почему?
– Я точно не знаю. Мой, кажется, прадед приехал из Швеции.
– Из Швеции? Прадед?
– А может, прапрадед.
И Вера блеснула глазами. Тогда он сказал:
– Ты меня обманула.
– Я вас обманула? Да как я посмела?
– Ты любишь обманывать, – он усмехнулся. – Зачем, я не знаю. Наверное, для этого были причины.
Ей вдруг показалось, что он понял все. И сразу же стало не то чтобы стыдно, но весело и хорошо на душе.
Она была лгуньей, но не потому, что в этом искала какой-нибудь выгоды, а лишь потому, что судьба ее с детства сложилась так странно, что ей было легче, когда посторонние в душу не лезли.
Отец ее, Марк Переслени, считался талантливым драматургом, но из всего написанного им только одна пьеса шла на малой сцене Художественного театра и большого успеха не имела. Он рано встретил ее мать, очень быстро женился на ней, родилась сероглазая девочка Вера, которую он не успел даже рассмотреть как следует, потому что на седьмой день после родов переехал обратно к своим родителям, сославшись на то, что младенческий крик мешает работе. Несколько раз в году его засасывала тоска, от которой Переслени однажды прыгнул из окна, в другой раз топился и даже пытался повеситься. К счастью, а может быть, для того, чтобы продлить его испытания, ни одна из попыток не увенчалась успехом: прыжок закончился многочисленными переломами, из воды его вытащили и путем искусственного дыхания вернули к жизни – обратно на твердый песок, под синее небо, и он поразился тому, как сверкает поверхность реки, а внутри ее толщи – теперь-то он знал – был беззвучный, и белый, и страшный своей белизною туман. А что до веревки, так, может, он сам совсем не хотел умирать, закрепляя на шее своей эту хилую петельку. Короче, немного как будто играл.
Игры эти были опасными, но, надо думать, необходимыми, потому что как только тоска его доходила до своего пика и пик завершался попыткою смерти, он тут же вдруг и становился спокоен. Да мало сказать, что спокоен. Нет, счастлив и весел почти до восторга. Как преступник, освобожденный из тюрьмы, торопится в дом свой обнять всю семью, коня потрепать по загривку и снова, весь бешеный от наступившей свободы, с зарею уходит туда, где ждет его прежний разгул, и гуляет и пьет, – вот так же отец ее, словно боясь, что жизнь скоро кончится, вновь устремлялся навстречу случайным знакомствам и связям. При этом его дарованье бурлило, и он по неделям ночами не спал, а все сочинял, умилялся и плакал.
Внешность его была и не такой уж привлекательной, если разобрать ее по косточкам: у него были слегка оттопыренные уши, широкие губы, и он курил трубку, поэтому кожа его и одежда впитали в себя глубоко запах дыма. Но бедные женщины не замечали ни этих ушей, ни больших этих губ, и запах табачный их гипнотизировал. И, как на базаре факир подчиняет себе бледноглазую, томную, с жалом, пропитанным ядом и смертью, змею, так он подчинял себе каждую женщину. К тому же ведь женщины как насекомые: они только кружатся, жалят, жужжат, трясут волосами и бедрами вертят. И даже когда с высоты прямо в снег, не выдержав голода, ветра, мороза, комочком замерзшим летит воробей, и блещут сугробы, тверды, будто мрамор, отчаянных женщин ничто не пугает. Они так же бедрами вертят, как летом.
Отцовская жизнь от наличия женщин была полна соком, как спелое яблоко. До новой тоски и до нового страха.
Из-за такой весьма непростой и нервной ситуации в семье ребенок был брошен на бабушку с дедом. Бабушку Вера скорее терпела и побаивалась, а деда, умершего, когда ей исполнилось тринадцать, любила всем сердцем, ни разу ни в чем ему не солгала. Мама, вдруг приезжавшая домой на такси поздно вечером, вся запорошенная снегом, в слезах, набрасывалась ураганом, и Вера от страха лгала своей маме, желая, чтобы ураган этот стих.
– Я завтра с тобой, послезавтра с тобой, – задыхалась мама, осыпая ее поцелуями и сквозь слезы всматриваясь в ее смущенное и испуганное лицо. – Ты от меня отвыкла? Я вижу: отвыкла. Но все! Я решилась. С отцом мы разводимся, я возвращаюсь, и едем с тобой в Коктебель, – ты ведь помнишь, мы были с тобой в Коктебеле? Давно? Когда тебе было два года? К отцу твоему не вернусь никогда. Ты веришь мне, Вера?
И дочь отвечала ей с той неизменной фальшивой готовностью, звуки которой способны разрушить любую привязанность:
– Конечно, я верю.
– Спасибо, моя золотая, родная, моя ненаглядная, умная девочка! – И мама, прижавши к губам ее руку, опять заливалась слезами. – Я знаю, что веришь! Увидишь, вот так все и будет!
Вера отлично знала, что «так» ничего не будет, но для того, чтобы тяжелая сцена закончилась, она обнимала несчастную маму, шептала, что просто мечтает, как мама вернется домой насовсем и летом возьмет ее в отпуск. Но тут раздавался в столовой звонок, и мамин красивый щебечущий голос всегда говорил одну фразу:
– Зачем? Зачем ты меня беспокоишь? Зачем?
Потом хрупкий голос ее обрывался. Отец надсадно хрипел в телефон, как Высоцкий. Он ждал, пока мама, вздохнув полной грудью, задаст ему вечный вопрос:
– Обещаешь?
Услышав отцовское «да, обещаю», она надевала потертую шубку и таяла в воздухе. Мама уезжала обратно к отцу, в большую писательскую квартиру рядом с Третьяковкой, где отец жил один, похоронив многострадальных своих родителей, которые сошли в могилы, не дожив даже до семидесяти. Любимый сынок и его биография способствовали их уходу, конечно. Но мама о горьких примерах не помнила. Нельзя было маме не лгать.
Бабушке тоже не стоило знать той правды, которую Вера слышала от деда во время их длительных прогулок вдвоем по Большой Пироговской и прилегающим к ней переулкам. Правильно ли вел себя дед, доверяя двенадцатилетней девочке взрослые переживания, трудно сказать. Может быть, и неправильно. Но деду было одиноко, друзья его умерли – кто от чего, а девочка эта, с такими глазами, как будто она понимает не только им произнесенное, но даже больше, вдруг стала единственной сильной поддержкой его обесцвеченной старческой жизни. Прежде, когда она была маленькой, они бродили подолгу и больше молчали, только перебрасывались короткими фразами, а за два месяца до его смерти, случившейся в мае, дед почти каждый вечер просил ее выйти с ним в скверик и посидеть на лавочке, потому что было уже тепло, и медленно гасли в весеннем солнце купола Новодевичьего монастыря, и пахло землей, жадно освобождающейся ото льда и снега, и птицы кричали так громко, как будто им только что выдали тайну, и каждая, даже невзрачная птица, не будучи в силах хранить эту тайну, старалась как можно быстрее услышать, что думают все остальные об этом.
– Конечно, жена. И хорошая, верная, – рассказывал дед, – я к ней очень привык. Но я ведь ее никогда не любил. Любил я Тамару. Да, очень любил. Ты знаешь, ведь я не хожу на могилу. Сказать почему?
– Почему?
– Потому что душа моя с ней до сих пор.
И он замолкал, погружался в себя, почти забывая о Вере.
– Она умерла молодой? – шептала ему осторожная Вера.
– Она умерла молодой. Диагноз они не поставили. Сказали, что сердце. Да, сердце. Сначала они говорили, что грипп. Потом – воспаление легких. Потом, уже в самом конце только, – сердце. Пришел частный врач и сказал: «Это сердце». И мне говорит: «Я кладу ее в клинику». Но он не успел, и она умерла.
– Зачем же потом ты женился на бабушке?
– Ну как? Полагалось жениться. Но Томка! Она попадалась мне часто, все время. Еду однажды на своем «Москвиче» за троллейбусом и вижу: она! Стоит у окна в серой кроличьей шапке, читает какую-то книжку. Я еду, кричу ей: «Тамара! Тамара!» Она не услышала, книжку закрыла. И я сразу понял ошибку. Похожая женщина, это бывает.
Вере было двенадцать лет, а дед был старик, зачем-то доверивший ей свои тайны. Поэтому бабушке Вера врала, а когда дед умер и бабушка в сотый раз принималась рассказывать, какая была между ними любовь и как она вспыхнула с первого взгляда, то Вера глаза отводила, молчала.
Итак: ложь была, много лжи. Как много воды на земле: рек, озер.
Когда этот новый учитель уставился на нее голубыми глазами и вдруг побледнел, она даже не удивилась. На нее часто заглядывались в метро и на катке, она знала, что похожа на маму, а от мамы было не оторваться. Теперь нужно было закрепить за собою эту победу и одновременно утереть нос всем выскочкам, которые без стыда без совести крутили перед ним своими выпуклыми задами и щурились так, что смотреть было тошно. Развратная Танька, у которой мать заведовала сразу тремя скупками на трех разных рынках и все приводила к себе мужиков и даже в мороз прогоняла ребенка, а именно Таньку, гулять, и потом замерзшая Танька стояла в подъезде и грела свои красно-сизые руки, которые были такими холодными, что даже не чувствовали поначалу тепла батареи, – развратная Танька сказала, что ей соблазнить педагога – минутное дело. Никто ей не верил. Никаких ухажеров и любовников у самой Таньки, разумеется, не было, да и ни у кого из них не было никаких любовников, но всем не терпелось скорее попробовать, и все целовались направо-налево, кто с кем. Кто с командировочным возле гостиницы, кто с братом подруги, кто с теткиным мужем, но дальше таких затяжных поцелуев не двигалось, хоть ты умри. Они были – школьницы, в школе учились. И брата подруги могли посадить, и командировочных тоже могли – на то есть статья Уголовного кодекса.
– Переслени, – сказал Вере Андрей Андреич Бородин, – не шведская фамилия. Я это проверил.
– Вы что, шпионите за мной? – спросила она.
И он удивился с таким простодушием, как будто бы был не учителем в школе, а честным и правдолюбивым подростком.
– Шпионю? Зачем?
– Так что вам за дело до этой фамилии?
– Ты всем так грубишь?
– Я вообще грубиянка. – Она засмеялась.
– Ты очень красивая. – Сердце ее застучало так сильно, что Вера отступила на шаг, боясь, что он услышит. – Да. Очень красивая, – он побледнел.
– Вы тоже, – сказала она, задохнувшись. – Хотите, скажу почему?
Тогда он вдруг захохотал. Схватился руками за оба виска и стал хохотать очень громко и грубо.
– Ну все! Я пошел. Я работы лишусь!
– За что? – прошептала она. – За меня?
И он оборвал странный хохот.
– Конечно. Сама, что ли, не понимаешь? Конечно.
Она опустила глаза:
– Нас увидят, – сказала она.
– Да, увидят, – вторил он. – Но, может быть, это судьба.
Она испугалась, что скажет нелепость и этим его навсегда отпугнет. Стояла, кусала припухшие губы.
– С кем ты целовалась? – спросил он.
– Ни с кем.
– А что ж тогда губы распухли?
– Не знаю. Наверное, просто кусаю их часто.
– Какая ты сильная, – вдруг он сказал, – сильнее меня. – Звонок оборвал его речь. – Ну, все. Мне пора, – прошептал ей учитель.
Они пошли рядом по коридору и вместе вошли в класс. Шестым уроком была английская литература. При виде вошедших школьницы заерзали на стульях. Теперь оставалось одно – ждать и ждать. Расколется этот секрет, как орешек, и выскользнет ядрышко, темное, сладкое. Терпенье, подруженьки! Ждать вам недолго.
– Сегодня, – сказал учитель английской литературы Андрей Андреевич Бородин, – я хочу рассказать вам об очень странной женщине. Вы все говорите: «Цветаева, Цветаева!», а о поэте Эмили Дикинсон, которая была американкой, даже и не слышали.
Он вытащил из рюкзачка, заменявшего ему портфель, выдранную из книжки фотографию молодой и тускловатой девушки в большом белом воротнике и пышном платье. Девушка была причесана на прямой пробор, букли окружали ее вытянутые щеки, как гроздья сирени.
– Эта женщина писала гениальные стихи, их почти невозможно постигнуть. Все слова написаны с большой буквы. Ну вот, поглядите: «Тьма. Я Хочу. Но Я не Знаю, Слышишь ли Ты Мое Сердце».
Школьницы «8 А» покрылись колкими мурашками. За Андрея Андреича хотелось умереть. Пойти и сложить в поле голову. Порозовевшие лица, включая скуластую грубую Таньку, тянулись к нему так, как утром растенья с доверчивой жадностью тянутся к солнцу.
Учитель остановил свой взгляд на Вере Переслени:
– Сколько бы ни копались в жизни Эмили Дикинсон и какие бы ни выдвигали гипотезы, я лично уверен в одном: ее поэтический гений родился из отроческой любви, которая не могла закончиться браком. Эта девушка в пятнадцатилетнем возрасте влюбилась в пастора, а пастор влюбился в нее. Вот и все.
– Дела! – простонала всей грудью Татьяна и руки прижала к щекам. – И где ж они… это… Встречались-то где?
– Встречались во снах, – сказал жестко учитель, – он снился Эмили каждую ночь. Она ему снилась, наверное, не реже.
– Так разве же это любовь? – не сдавалась привыкшая к стонам родной своей матери и к скрипу ее матраца веселая Танька.
– Да, это любовь, – отрубил Бородин. – Читайте стихи и услышите сами.
Наивный человек! Неужели он не догадывался, что стихи ничего не говорят девушке, пока в ее робких и бледных сосудах, в мозгу, в животе и под тонкими ребрами не вспыхнет вдруг новое солнце со звездами и не народится иная вселенная, в которой не будет ни школы, ни дома, ни ночи, ни дня, ни сестры и ни мамы, а будет лишь тот, чья рука или даже нога, скажем, в лыжном и грубом ботинке, чей взгляд исподлобья, чей голос охрипший заставят звенеть ее девичью душу и целую жизнь подожгут так, как хворост.
– А что этот пастор, – спросила вдруг Вера, – ведь он же мог просто жениться на ней?
И взгляды их пересеклись.
– Жениться? – он оторопел. – Как жениться? Он пастор, она прихожанка. Их знают.
– И что? – Переслени вздохнула: – Подумаешь!
– Что значит «подумаешь»? Маленький город, и все на виду…
– Ну подумаешь, город! – сказала она. – Вы стихи почитайте.
И он стал читать, даже в книжку не глядя:
Когда дрожит Небо —
Это Твоя Душа ищет Мою
В Сугробах больших Облаков
И находит.
И Вера ему улыбнулась испуганно, как будто он к ней прикоснулся всем телом.








