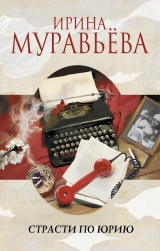
Текст книги "Страсти по Юрию"
Автор книги: Ирина Муравьева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вечером они сидели на чемоданах и ужинали. На первое была пицца, которую Владимиров купил на соседней бензоколонке, на второе тоже была пицца, а из напитков большим успехом пользовалась водка, стоящая рядом на полу. Водку они привезли с собою из Франкфурта.
– Ну что, моя радость? – повеселев, сказал Владимиров. – Давай запечатлею безешку в сахарные уста твои и – на боковую! А завтра поедем и купим кровать, два стула и стол. И начнем новую жизнь.
Варвара прилегла на его колени, закинула руки за голову.
– А кроме безешки?
– Ты мне честно скажи, – перебил ее Владимиров, налил треть стакана и выпил, зажмурившись. – Сломал тебе жизнь? Только честно скажи.
– Ну, так уж сломал! – усмехнулась Варвара и томно взглянула на пьяного мужа. – Да я за тебя…
Она не успела договорить, как в дверь позвонили.
– Кого черт несет! – Владимиров встал и пошел открывать.
За дверью стояли три пожилые женщины, похожие друг на друга. Одна была очень маленького роста и казалась намного старше сестер. Волосы ее были совсем белыми, но еще сильными, густыми и мелкими кудряшками выбивались на лоб из-под простого железного обруча. На всех были темные платья и бусы.
– Мы ваши саседи, – с сильным армянским акцентом сказала старшая. – Пришли пазнакомиться. Мы сестры. Вот эта – Джульетта, а эта – Афелиа. Я – Гаянэ.
Сестры были смуглыми, с блестящими маслиновыми глазами, большими носами, немного усатые. Когда они через плечо растерявшегося Владимирова увидели стоящую на полу бутылку и остатки пиццы, глаза у сестер округлились.
– Зачем вы так кушали? – убито спросила Офелия. – Так только сабаки на улице кушают, а люди сидят за столом, чтобы кушать как люди!
Они затрясли головами, и бусы на старых их шеях слегка зазвенели.
– Пайдем к нам пакушаем. Есть что пакушать. Гарячее, свежее, только из печки.
Варвара вскочила с готовностью.
– Красивая женщина, – одобрительно заметила Офелия, как будто Варвара была глухой и не слышала ее. – Очень красивая. На наших армянок похожа.
В соседней квартире был накрыт стол. Над ним стоял запах. И он был таким, что дрогнуло сердце Владимирова. На секунду ему показалось, что нет никакой Германии и Франкфурта нет, а есть Ереван, где гуляют писатели. И он, молодой, в рубашке с закатанными рукавами, сидит за столом на террасе в доме покойного Оганеса, такую писавшего прозу, что завидно было, и жена хозяина полными молочно-белыми руками разрывает над белой скатертью горячий и свежий лаваш…
– Сначала путук будем кушать, – строго сказала усатая Гаянэ и сняла крышку с глиняного горшка. – Патом мы сунки будем кушать. Желудку палезно.
Покорно смеясь, они сели за стол. Офелия разлила суп по глубоким белым тарелкам.
– Да мы ведь поели… – смущенно сказала Варвара.
– Ай! Што вы паели! – с ужасом воскликнули сестры. – Какую вы гадкую пищу паели! Сабаки такую не кушают! Путук нада кушать! Пажалуйста, кушайте!
Шесть одинаковых встревоженных глаз смотрели на то, как Владимиров и его захмелевшая жена с жадностью едят путук.
– Я в жизни такого не ела, – вздохнула Варвара. – Я даже и слова такого не знала: путук.
– Как можна не знать? – И вся Гаянэ закачалась, как куст. – Теперь будешь знать и сама пригатовишь. Пайдем завтра купим баранью грудинку. Такой магазин есть хароший, в падвале, баранина свежая, зелени многа. Патом я тебя научу. Путук тебе дам. Как не знаешь путук? Гаршок этат глиняный так называется. В кастрюле нельзя суп варить, суп пагибнет. Грудинку нарежешь и варишь с гарохом.
– Аесор инч ор э? – со страхом спросила Офелия.
– Ана гаварит: «какой день?», – перевела Гаянэ. – У них в магазине баранина лучше всего в панедельник. Вчера панедельник был, завтра среда. Индз ми хангари! [2]2
Не мешай мне! ( армянск.)
[Закрыть]Всегда мне мешает! Начну гаварить, а ана мне мешает! Баранину режешь кусочками. – И вновь устремила свой взгляд на Варвару. – Нарежешь кусочками, станешь варить. Вада испаряется, так? Падливаешь бульон. А мясо самой нада пробавать. Паваришь, паваришь, дастанешь кусочек, атрежешь нажом и немнога пакушаешь. Кагда станет мягким, дабавишь гароха. Апять варишь, варишь и пробуешь. На ложку берешь и немнога пакушаешь…
Варвара слушала ее так, как дети, засыпая, слушают сказку. Во сне ей казалось, что завтра она, проснувшись ни свет ни заря, купит белый «гарох», потом будет резать душистую зелень, потом будут с Юрочкой кушать путук… На следующий день тоже будет варить, потом будут кушать и снова варить…
– …А брат гаварит: «Я вас всех заберу». А мы гаварим: «Как ты нас заберешь? Артур, дарагой, как ты нас заберешь?» А он гаварит: «Там нельзя больше жить. Апять везде кровь палилась. Теперь Карабах будут долго делить». Что делить Карабах? Живем и живем. Что делить этот суп? Пакушаешь суп, нада новый варить. Знаешь хаш? Тоже суп. Армяне всегда гаварят: «хаш – наш суп», а ани гаварят: «хаш – наш суп». Аткуда мы знаем, чей суп? Его в Азербайджане едят, его в Ереване едят. Зачем тагда кровь, гаварим?
– Где ваш брат? – спросил Владимиров, глядя на этих полных, с тревожно и удивленно блестящими глазами, мудрых старух. – Он что, здесь, в Германии?
– Артур ваевал, папал в плен, ранен был. Угнали в Германию. Тут и живет. Жена из Ливана. Харошая женщина. Они нас забрали. Вассаединили. Артур гаварит: «Я мамой паклялся, что всех заберу». Все дети приехали, внуки, все тут. Давно все работают. А мы уже старые, так? Пасобие дали, вот мы и живем. А как без пасобия жить? Мы сразу Артуру сказали: «Артур, дарагой, мы работать хатим. Как можно так жить?» А он гаварит: «Какая работа для вас? – гаварит. – Вы старые, без языка. Уехали с Родины, вам тяжело, душа будет очень балеть. Атдыхайте».
– Болела душа? – прошептала Варвара.
– А как не балеть? – удивились все трое. – Зачем человеку душа? Чтобы сильно балеть! Тебе хорошо, тебе есть что пакушать, а рядом живет человек – ему нечего кушать. Зачем человеку душа, если ей не балеть?
Ночью, когда, вдоволь наевшись супа, лаваша, мусахи с овощами и плова с гранатами, румяная Варвара заснула, завернувшись в брошенное на пол одеяло, и волосы, черные с синим отливом, напомнившим спину собаки, распластанной возле хозяина, легли с нею рядом, Владимиров вспомнил про Гартунга Бера.
«Через год он вернулся в эти края, ожидая, что сейчас вновь увидит ее. Поезд начал замедлять ход, приближаясь к маленькой станции, и Гартунг Бер едва удержался от того, чтобы не спрыгнуть на ходу. Ему хотелось расцеловать эту землю, и небо, которое отразилось в вагонном стекле, и чахлое дерево, обреченное на скорую гибель, поскольку шаровая молния еще в прошлом году ударила в него, и теперь это дерево медленно умирало на глазах проводников и пассажиров.
В закрытой военной школе, куда его отдал отчим, запрещалась переписка с посторонними лицами, но он так много думал о Маше и так рвался к ней, что воображение восполняло ему ее отсутствие. К тому же он был терпеливым и, отсчитывая месяцы, недели и дни до встречи, ни секунды не сомневался в том, что как только поезд остановится и он добежит до ее дома, где она встретит его, так все это сразу вернется: река, тишина, запах сонной травы и Машино теплое белое тело.
Поезд наконец остановился. Он вскинул на плечо рюкзак и побежал. Ему отворила рыжеволосая девочка, похожая на Машу большим круглым лбом и густыми бровями. Она сказала ему, что Маша умерла весной, потому что ждала ребенка, но роды наступили до срока, и она потеряла столько крови, что сразу умерла. И этот ребенок ее тоже умер.
Девочка смотрела на него по-деревенски застенчиво, но пару раз за время рассказа взгляд ее ускользал в сторону, и Гартунг догадался, что она знает такие вещи, о которых он даже не слышал. Она рассказала ему, как Маша стояла у плиты, потом вдруг легла прямо на пол и „тут родила“, а ему казалось, что и о Маше она говорит как о какой-нибудь деревенской козе или корове, которые, наверное, не раз рожали на ее глазах.
„И Маша, – сказала ему эта девочка, – была вся в крови, и даже ботинки ее стали красными“.
Гартунг не понимал, почему она рассказывает о сестре с такой безжалостной добросовестностью, и ему вдруг захотелось ударить ее за это, но он стоял и слушал, а потом, когда она предложила навестить Машину могилку, поплелся за ней на кладбище – тихое сельское кладбище с обветшалой часовенкой, фарфоровыми венками и множеством ангелочков с почерневшими от времени и отколовшимися кудряшками.
Рыжеволосая девочка сказала ему: „Ici, il est“. [3]3
Вот, это она ( фр.).
[Закрыть]
Гартунг увидел холмик с деревянным православным крестом и несколько розочек, небрежно воткнутых в этот холмик, уже облетевших, сухих и невзрачных…»
Владимиров настежь раскрыл окно, прислушиваясь к шуму густых деревьев внизу. Он увидел, как к дому подъехала машина, вышел толстячок с букетом и заторопился так, как будто вся его судьба зависела от того, насколько быстро он преодолеет расстояние до подъезда. И опять то же самое чувство, которое Владимиров первый раз испытал много лет назад, когда он только начинал писать и все, что он писал, вызывало в нем раздражение и тревогу своею неточностью и приблизительностью, – то же самое чувство, что он никогда не сумеет передать главного, охватило его. По опыту он знал, что бесполезно бороться с этим чувством, потому что оно справедливо, и только те люди, которые пишут для денег, или те, которые ни разу не задохнулись от страха перед своею беспомощностью, не знают этого состояния и не понимают его.
Он снова вспомнил покойного Оганеса, который жил в пригороде Еревана и изредка сочинял веселую и вкусную прозу. Вспомнил, как все удивлялись, почему он пишет так мало, не лезет наверх, не обивает московские пороги, а все сидит в своем увитом виноградом доме, читает какие-то странные книги, потягивает коньяк вместе с тихим лупоглазым человеком, бывшим своим одноклассником…
– Я тебе абъясню, Юра-джан, – говорил ему Оганес, выговаривая слова точно так же, как их выговаривали новые соседки Владимирова, – знаешь, пачему я спакойный челавек? Патаму что я не сужу никого, и мне харашо. Начнешь асуждать, сам сразу в лавушке акажешься. А я на свабоде, и мне харашо…
И умер так просто, легко и спокойно. Лег вечером спать и уже не проснулся.
Если бы не Варварины настроения, нынешнее существование их было бы вполне сносным и годилось для работы. Пособия хватало на все необходимое, городок, в котором они поселились, был мирным, спокойным, не нужно было бежать в проклятую редакцию, разбираться в дрязгах, копаться в чужих глупых текстах. Его, слава Богу, забыли, простили: и эти, и те. Политика чавкала ртом и скрипела зубами вдали от него, и высокие сосны беззвучно стояли на страже покоя. Но Варя, жена! Она не могла примириться с тем, что «не считаются с Юрочкой». Устинов вон съездил в Москву, и «к нему там прислушались». А этот, который в Америке, почти что слепой, тыщу лет в эмиграции, он тоже поехал в Москву, выступал, народ к нему прямо ломился, и женщина с третьего ряда спросила: «Абрам Моисеич, когда конец света?» И он ей ответил и дату назвал. А Зус Олешевский повез туда рукопись. С его, Зусьей, лексикой: ненормативной. И ведь напечатали, и сам Рокотич беседовал с Зусом в течение суток. Проклятая Марья Степанна взяла у себя интервью, суетилась, дошла до ведущих газет и журналов и вместе с партнером своим долговязым на этой метле своей, ведьма очкастая, летает у всех на виду, не стесняется…
Потихоньку от Юрочки неугомонная Варвара однажды поехала в Прагу. Огромная радиостанция, расположенная в центре города на Виноградской улице, раскрыла объятья жене знаменитости. Варвара и носа не успела припудрить: ее словно ветром внесло прямо в пламя. На седьмом этаже в кабинете с большим окном, уставленном домашними цветами в горшках, сидел князь в шестом поколении Петя Волконский, который так долго жал руку Варваре, что стала немного чесаться ладонь. Потом, отирая лоб носовым платком с вышитым на краешке фамильным вензелем, Петя начал расспрашивать о здоровье Юрия Николаевича и очень просил его дать интервью, но только «по-честному». Варвара вспыхнула, сказала, что муж никаких других, нечестных, интервью никогда не давал и не будет давать, но занят безумно, он пишет роман. Князь Петя вздохнул и заметил, что если бы сам Александр Исаич вступился, то не было бы увольненья с работы. Варвара опять вспыхнула, зная, что муж ее, Юрочка, лучший писатель, чем мрачный отшельник, засевший в Вермонте.
А дальше случилась история, попортившая Варваре много крови и, главное, – совершенно неожиданная и незаслуженная история. Началось с того, что в Петин кабинет развязно ворвался средних лет невысокий мужчина с порочным и нервным лицом. Поскольку он был с бородой, то порочность была осмотрительно спрятана в бороду.
– Варенька! – воскликнул развязный мужчина и влажной от пота своей бородою уткнулся в смущенную руку Варвары. – Да сколько же мы не видались-то, Бог мой!
Варвара не сразу вспомнила пропотевшего, которого много лет назад встречала изредка в ресторане ЦДЛ, куда ее с двумя университетскими подружками, совсем молоденькую, пропускали по блату. Он, кажется, был литератором. Прозу писал. А звали его?
– Ваня! Ваня Вернен! – закричал бородатый. – Уж вижу: забыла! А я не забыл! Смотрел на тебя тогда, думал: «Ах, Маша! Ну, как хороша, а не наша!»
Искренние глаза Вернена сияли такой доброжелательностью, что Варвара, знающая, что все на свете литераторы люто завидуют Юрочке, почти успокоилась. Радостный Вернен тут же предложил записать на пленку интервью с супругой Владимирова. Немедленно, сразу в эфир. Тут Варвара замешкалась. Юрочка мог и не одобрить ее самостоятельности.
– Сначала мы отрепетируем, Варя! – не давая ей опомниться, продолжал Вернен. – На сколько вы к нам?
– Я сегодня уеду.
– А мы не отпустим! Ведь правда, Петюня? Засели там, в этом своем Нюренберге!
– Мы с Юрой во Франкфурте, не в Нюрнберге, – сказала Варвара.
– А мне – один хрен! Я вашу Германию так называю! А что, я не прав? Ведь фашист на фашисте! А здесь вы где, Варенька? Кто у вас в Праге?
– Так я же сказала: нигде! Я на поезд…
– Какой еще поезд? Ведь правда, Петюня? Жены моей нет, – тут Ваня Вернен спохватился. – Вернется жена моя вечером. Милости просим!
Варвара Сергевна попросила разрешения позвонить Юрочке и спросить, как он отнесется к тому, что она задержится в Праге на целый день. Владимиров звучал глуховато и напряженно, к телефону подошел не сразу: опять, значит, изнемогает в работе. Положив трубку, Варвара почувствовала вдруг такую тоску по этому тихому обожаемому человеку и такое неистовое желание показать всему миру, кто такой Юрий Владимиров, что согласилась и на утомительные разговоры Вернена, и на ночевку в чужом доме, и на завтрашнее интервью. В ожидании вечера успела, кстати, еще пройтись по магазинам, где, разные вещи примерив, со вздохом купила в конце концов только носочки. В пять часов пополудни, как договаривались, Варвара вошла в массивный и прохладный подъезд старого пражского дома, живо напомнившего ей арбатские старые дома, поднялась на четвертый этаж по каменной, со стертыми ступенями, широкой лестнице и позвонила в высокую и добротную дверь.
Ваня Вернен в цветастой гавайской рубашке, подчеркивающей простодушие его улыбки, – весь в розовых птицах и синих лианах, в широких, почти до колен, красных шортах, с сигарой во рту, как родственник, стиснул Варвару в объятьях.
– Ну, слава те, Господи! Свиделись! Варька! Ведь как расцвела! Была-то как палка: худющая, бледная! А вышла – царица!
Варвара Сергевна немного смутилась.
– Давай раздевайся! Умойся! Расслабься! – грохотал Ваня Вернен, растроганно рассматривая Варвару. – Я там полотенце тебе приготовил, халатик свежайший, помойся, попарься! Сейчас тебя буду кормить! Сам готовлю! Продукты здесь, Варенька, лучше парижских!
Квартира оказалась большой, четырехкомнатной. Окон было много, свет лился нещадно. Растерявшаяся Варвара Сергевна пошла в ванную, тоже очень напомнившую ей старинные арбатские ванные, приняла душ, надела предложенный Ваней халатик – действительно чистый и очень уютный – и, довольная, что так замечательно устроилась на ночевку в чужом городе, вернулась в столовую. Ваня Вернен в просторном белом фартуке поверх своих птиц и лиан ярко-синих вовсю хлопотал у стола.
– А здесь мужики у нас стряпают, во как! – сияя, сказал он Варваре. – Не веришь? У вас там, в Германии, жрать-то ведь нечего! Сосиски одни да гнилая капуста! Что? Скажешь, не так? Ну, в Америке – Зус. Я с этим не спорю. Писатель он средний, а вот поросенка зажарит – что надо! Подаст как живого. Да, Зус – это сила! А булки какие печет! Колбаску сам делает, яблочки мочит! Жена его, Кирка, работает, дом весь на нем. Но Зус-то где, Варя? Ведь он под Нью-Йорком! Поди доберись! Но я теперь Зуса нисколько не хуже! Вот только что хлеб не пеку, врать не буду! Вы кушайте, Варенька, вы угощайтесь!
Вернен, судя по всему, очень старался угодить супруге прославленного Юрия Владимирова и рвался во всем быть полезным. Варвара Сергеевна порозовела от удовольствия. Угощение было очень вкусным, а баранью ногу Иван зажарил так, что Зус Олешевский бы лопнул от зависти. Коньяк тоже пился легко и приятно. Вернен подливал, и Варвара хмелела.
– А где же жена ваша, Ваня? Жена где? – вдруг, вся встрепенувшись, спросила Варвара. – Ведь вы ее вечером ждете сегодня?
– Жена-то? Аглая? – спросил пьяный Ваня. – Жена там, в Мадриде, у дочки, похоже. А может, у сына. Она ведь гречанка. Взяла моду ездить! Нет, мне бы такую жену, как у Юрки! Чтоб дома сидела да книжки писала!
– Я книг не пишу, – усмехнулась Варвара.
– Ну, ладно, неважно! Мои чтоб читала!
И вдруг, перегнувшись на стуле, Ваня Вернен крепко поцеловал Варвару в губы. От неожиданности Варвара выронила вилку и отшатнулась.
– Красавица, радость! – забормотал Вернен. – Не бойся, никто не узнает! У нас как в лесу! Мы задворки Европы! Поедем в Венецию! Хочешь в Венецию?
– Зачем мне вдруг с вами в Венецию? – темнея лицом, удивилась Варвара.
– Что значит зачем? На гондоле кататься!
– Нет, вы сумасшедший! – И Варвара бросилась в ванную, где оставила платье. – Пустите меня!
– Постой! Подождите! – Вернен, подвернувши большой белый фартук, упал на колени. – Куда же вы, Варя! Чем я вас обидел?
Варвара Сергевна приостановилась.
– Жена ваша скоро приедет?
– А черт ее знает! – с досадой воскликнул Вернен. – Сначала сказала: сегодня приеду! Потом позвонила, сказала, что в среду! Она ненормальная, Варя! Испанка! Ей только быков на арене дразнить! А я погибаю! Я страшно несчастлив!
Он стал совсем красным и вдруг зарыдал. Этого Варвара Сергевна никак не ожидала.
– Давно вы женаты? – спросила она с непритворным участьем.
– Всю жизнь! – признался Вернен. – Мальчонкой женился. По страстной любви. Она из Гаваны, мы с ней расписались. Меня вызывали, конечно, стращали. Но я разве слушал кого? Готов был за ней хоть куда, на край света! И тут началось! То скандал, то измена, внебрачные связи, внебрачные дети…
– Чьи дети? – смущенно спросила Варвара.
– Жены, разумеется! – вскрикнул Вернен. – А я принимал, я кормил и воспитывал! Бесславный стрелок, одинокий охотник…
Варвара почувствовала жалость к одинокому охотнику, по-прежнему стоящему на своих голых мясистых коленях.
– Я, Ваня, пойду, – прошептала Варвара. – Не плачьте, пожалуйста. Все образуется.
– Да что образуется, Варенька! Поздно! А мог ведь писать! И писал! И неплохо! Получше, чем многие! Даже и Юра…
Вернен спохватился. Варвара слегка усмехнулась презрительно: какие, однако, дурацкие мысли… Брякнувший нелепость Иван с трудом поднялся, перебирая оборки красивого своего фартука.
– Меня одиночество, Варенька, съело. Помру здесь один, и никто не узнает… Могилка травой зарастет…
Варвара Сергевна не знала, на что решиться. Последний поезд во Франкфурт ушел. Денег на гостиницу могло не хватить. Вернен оказался несчастным и кротким. Конечно, не будет он к ней приставать…
– Не буду я к вам приставать, – как будто подслушавши мысли Варвары, сурово поклялся Вернен. – А завтра возьму интервью, как хотели.
Варвара решилась.
– Куда мне лечь спать? Я могу на диване.
– Зачем на диване? – отводя набрякшие слезами глаза, пробормотал Ваня. – Вы ляжете в спальне, а я на диване.
Оставшись одна, Варвара Сергевна потуже завязала халатик и с замиранием сердца легла на большую супружескую кровать, не снявши с нее покрывала. Свинцовая, как говорится, усталость смежила ей веки. Заснула она крепко и не услышала того, как скрипнула дверь в эту самую спальню и страстный Вернен в своей пестрой рубахе, как Каменный гость, вырос вдруг на пороге. Ступая на цыпочки и беззвучно шевеля незаметными внутри бороды розовыми губами, он вплотную подошел к кровати и наклонился над разметавшейся во сне Варварой. Потом осторожно лег рядом. Варвара невинно и ровно дышала. Скосив на нее конский огненный глаз, Вернен своей сильной и страстной рукою накрыл ее теплый живот под халатом. Варвара проснулась и вскрикнула.
– Варвара! – обдавши ее коньяком и сигарой, сказал неуемный Вернен. – Поверь мне: никто никогда не узнает! Пустыня, Варвара, задворки Европы!
Варвара изо всех сил ударила его ладонью по мясистой шее. Вернен зарыдал.
– Ты бей, не стесняйся! – сказал он сквозь слезы. – Я сволочь, подонок, но я по любви!
– Пошел вон, мерзавец! – сказала Варвара и сильной рукой оттолкнула Вернена.
– А хочешь, в окно сейчас прыгну?
Сделавши это неожиданное предложение, отчаянный Ваня залез на окошко и ноги свои свесил вниз. Нетрезвое тело его зашаталось, грозя вот-вот рухнуть на спящую Прагу.
– О нет, мне жизнь не надоела, но это, Варвара, не жизнь, а издевка!
Варвара пыталась стащить его на пол, Вернен упирался, слезать не хотел и был в миллиметре от гибели.
– Послушайте, Ваня, вам нужно лечиться! – дрожа, зашептала Варвара Сергевна. – Я замужем, Ваня, люблю только Юрочку…
Вернен улыбнулся ей скорбной улыбкой и спрыгнул обратно, на мягкий ковер.
– Напрасно спасла… Помешала. Напрасно! Сейчас был бы грудой костей…
Варвара Сергевна тревожно вздохнула.
– Жене все останется, деткам внебрачным! А я пропахал двадцать лет на «Свободе», – эфир за эфиром, – в эфир и направлюсь!
Махнув рукой и сгорбившись, Вернен вышел наконец, плотно притворив дверь. Варвара Сергевна осталась одна. Ей даже и подумать было страшно о том, что утром придется увидеться с Ваней. А может, уйти потихоньку сейчас? Но ночь ведь на улице, темная ночь, – куда же идти?
К утру Варвара задремала и проснулась только в десять. Мужественные шаги хозяина доносились из большой комнаты. Варвара пригладила волосы и, набравшись духу, вышла из спальни. Вернен, свежий, чистый, приятно пахнущий сдержанными мужскими духами, в рубашке под цвет светло-синему небу, опять хлопотал у стола:
– Ну, ты заспалась! Заспалась, моя радость! Всегда говорю, что нигде так не спится, как только у близких друзей! Звонила вот только Аглашка из Генуи, я ей говорю: «У нас Варя ночует. А ты там гуляешь, дуреха!» Аж в слезы: «Держи ее и никуда не пускай! Сажусь в самолет, вылетаю!» «Э, нет, – говорю, – дорогая! Дел много! На радио ждут нас!» Рыдает, дуреха!
Варвара Сергевна чуть в обморок не упала от услышанного. Развязный, хозяйственный Ваня Вернен, приблизившись, поцеловал ее в щеку. Его поцелуй был по-братски добротен. За завтраком он деловито обсудил положение Владимировых на Западе и очень советовал, чтобы Юрий Николаевич как можно острее реагировал на российские события.
– Зачем? – от души удивилась Варвара.
– Что значит зачем? А иначе забудут. Роман писать – дело, конечно, святое. Но нам сейчас, Варенька, не до романов. От нас сейчас, Варенька, много зависит. Они, Варя, брешут, и мы, Варя, брешем. Ну, это я так, антре, ну, между прочим… Анализ, конечно, события, факты, но люди есть люди, всем хочется кушать… Я сам тоже начал писать повестушку. И лихо пошло! Очень, Варенька, лихо! Но времени нету. Кусок, в общем, хлеба…
Плотно и вкусно позавтракав, Ваня Вернен подхватил Варвару под руку и вместе с Варварой пришел на «Свободу». Там он усадил ее в полутемную кабинку и взял у нее интервью. Варвара отвечала невпопад, хотя очень старалась не ударить в грязь лицом и не опозорить Юрочку.
Во Франкфурт вернулась под вечер. У самого лифта столкнулась с Джульеттой.
– Галодная? Пряма с дароги! Пайдем, и пакушаешь! Он дома сидит, книжку пишет. Абед не варил, ему некагда была. А я рана утрам бозбаш пригатовила!
– Скажите мне честно, Джульетточка-джан, – плаксиво спросила Варвара Сергевна, с охотой поевши бозбаша. – Вот вы овдовели лет в двадцать, и что же? И как же вы жили потом? Ну, без мужа?
Джульетта строго посмотрела на Варвару сквозь очки.
– Что значит как жили? А как была жить? Асталась с тремя. Арменчику было четыре, Садэ и Татевику по палтора. Ведь я гаварила, как муж мой пагиб? В гарах он пагиб, не вернулся. Аплакали дома, а тела не видели. Вот я и асталась. Адин забалел, другой кушать папросит, а третью ташнит. Кручусь, как магу. Для себя ни минуты. Саседи мне, помню, тагда гаварят: «Паслушай, Джульетта, ты замуж иди! Красивая женщина ты, – гаварят, – зачем так живешь? Не жалеешь себя!» А я гаварю: «Мае сердце в гарах. В гарах, – гаварю. – Как без сердца любить? Теперь я детей сваих только люблю, чужого мужчину любить не смагу». И так пражила многа лет, сорак лет. Патом вдруг балеть начала. Пашла тагда к доктару и гаварю: «Зачем, – гаварю, – галава так балит? И вся так слабею савсем?» – гаварю. А доктор тагда пасматрел на меня и так гаварит: «Жить без сэксы нельзя. Всем женщинам в мире так сэкса нужна, вы мне не паверите! А то, – гаварит, – арганизм без нее, без сексы, слабеет». А я гаварю: «Не нужна мне сэксы такой, – гаварю, – мой муж, Ардаван дарагой, – гаварю, – из гор не вернулся. Пагиб он в гарах. Какая же мне теперь сэкса нужна? Кагда я вдава? – гаварю. – Зато Ардаван мой со мной, и я с ним». Вот так и ушла. Доктар мне не памог.
Варвара поцеловала Джульетту-джан в седой ее и аккуратный пробор, пошла потихоньку к себе. Юрочка, весь в сигаретном дыму, небритый, голодный, сидел за столом, стучал на машинке.
На следующий день интервью с женой писателя Юрия Владимирова передали по радио. Владимиров выслушал с неудовольствием, но Варе не стал ничего выговаривать, вздохнул только:
– Лучше держаться подальше. Ведь как Маргарита сказала соседкам? Что обе они хороши. Так и есть.
Роман его мучил. Так мучил, что по ночам, воровато оглядываясь на спящую Варвару, он подходил к холодильнику, доставал оттуда водку и быстро выпивал две-три рюмки. Ненадолго отпускало. Стоял на балконе, курил. Потом возвращался к столу. Садился. И вновь принимался стучать на машинке. Иногда ему хотелось сдаться, бросить в мусорную корзину все, что он написал, и приняться за что-нибудь простое, доступное, как детектив или пьеска. Злоба на собственную бездарность душила его. Он со страхом чувствовал, что сейчас никого не любит так сильно, как любил прежде, никто и не нужен ему. Только этот роман. Все, что произошло за два года, все, что он с таким трудом пережил: уход из семьи, новый брак, отъезд из дома, неопределенность будущего, одиночество, тоска по Арине и Кате, – все это сейчас отступило куда-то, размокло, размазалось, стало бесцветным.
Остался один Гартунг Бер. Зачем он ему? Ведь сказано в Библии: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся, многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот, нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такогочеловека есть мир».
Он был «нечестивцем», его Гартунг Бер. И он расширялся, он укоренялся, он не отпускал. За Гартунгом не было – мира. И все же его нужно было понять.Поскольку не с Гартунга ведь началось. «Волчат» заловили туда, внутрь зла, и там, внутри зла, их и бросили сразу.
«Гартунг вернулся в школу, зная, что Бога, которому он молился весь истекший год, прося Его как можно скорее соединить их с Машей, нет и никогда не было. Теперь, засыпая, он рисовал себе картины жуткой мести всему на земле, как делал тогда, когда мама собралась замуж и сняла со стен все отцовские фотографии. Кроме отвращения к Богу, которого не было, в нем наступило отвращение к девушкам и молодым женщинам. Как только он думал о Маше, ее тело, позолоченное светом пробившегося сквозь деревья солнца, ее ярко-красные, вспухшие от его поцелуев губы, ее молодые и круглые локти терзали таким наважденьем любви, что он старался как можно скорее отвлечься на что-нибудь, лишь бы не застонать и не разрыдаться, но как только он представлял себе обнаженной какую-то другую девушку – хотя бы миловидную сестру своего приятеля Освальда, – в нем вмиг поднималась такая гадливость, как будто бы он раздавил червяка».
Варвара еще спала, – он помнил, что в это утро она долго спала, – когда он спустился к почтовому ящику за забытой вчера почтой. В открытую дверь подъезда вошел тот самый толстяк с букетом, которого Владимиров уже заметил однажды, несколько недель назад, когда он курил на балконе. Сейчас, встретившись глазами с Владимировым, толстяк вдруг смутился и сразу шмыгнул прямо в лифт.
Владимиров вынул из ящика кучу макулатуры, внутри которой оказалось Катино письмо.
«Мама умерла неожиданно, утром во вторник. Вскрытие показало внезапную остановку сердца, следствие обширного инфаркта. Она никогда не жаловалась на сердце, хотя я уже давно замечала, что по утрам она бывала слишком бледной. Папа, я знаю, что, несмотря на то что вы с мамой расстались, ты любил ее, и она тебя тоже любила. Я всегда чувствовала это. Тебе сейчас больно, я знаю. А мне – так, что я даже не буду писать тебе об этом. Совсем не могу быть дома одна, все время чувствую маму, а иногда чувствую, что и ты где-то рядом. Как будто вы оба по-прежнему вместе. Я не знаю, когда ты получишь это письмо, да и получишь ли, но звонить не хочу. Нет, лучше письмо.
Мне удалось договориться на кладбище и похоронить маму рядом с дедушкой и бабушкой. Сначала на меня орали, что там нету места, могилы осели и что-то еще, но за деньги можно добиться всего, и я получила разрешение. У нас выпал снег, а в пятницу, когда были похороны, ночью вдруг сильно подморозило. А только конец сентября. Отпевание было в ваганьковской церкви, в которую мама всегда заходила и ставила свечки дедушке и бабушке. В церковь пришли все мамины друзья, все, с кем она работала в больнице, много было моих подруг. Меня удивило, что добрались даже Ника с Тамарочкой. Им ведь далеко, да и Ника себя очень плохо чувствует. Мама лежала совсем молодой, казалась просто девочкой. Я ее сначала даже не узнала. Потом узнала, конечно. Я так долго, не отрываясь, смотрела на нее, что мне вдруг показалось, как будто у нее слегка шевельнулись ресницы. Знаешь, папа? Я ничего не понимаю про смерть. Считается, что, раз я врач, я должна понимать все или почти все. Иногда мне кажется, что я просто схожу с ума, до того мне нужны вы оба: мама и ты».








