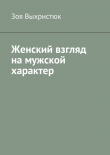Текст книги "Дело о деньгах. Из тайных записок Авдотьи Панаевой"
Автор книги: Ирина Чайковская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
И. И. Чайковская
Дело о деньгах. Из тайных записок Авдотьи Панаевой
Предисловие
Эта книга возникла как ответ на мои же вопросы. Знакомясь с биографиями русских писателей и с их творениями, я часто спрашивала себя: а какие они были? Что и кого любили? Чем занимались, кроме литературы? Ведь не могли же они полностью вместиться в свои книги, письма или воспоминания друзей…
Мои рассказы и повести о Пушкине, Тургеневе, Герцене, Белинском и Авдотье Панаевой – результат внимательных штудий, размышлений и фантазии, настоенной на интуиции. Интуиция вела меня за собой, когда недоставало информации, когда, как в случае с Авдотьей Панаевой, были сожжены письма – тогда я была вольна в своих «прозрениях». И до сих пор мне кажется, что моя картина верна, что все именно так и было.
Меня волновали отношения писателей с женщинами. Они были для меня тем более важны, что в стихах и прозе чаще всего отразился взгляд мужчины – писателя. Что до «женского взгляда», то его не было, мне предстояло его показать. Это, как мне кажется, не делает мою прозу «женской». Я не вдавалась во взвимотношения моих героев с гендерной точки зрения и не рассусоливала женские проблемы, мне просто хотелось проследить за тем, как ведут себя ОН и ОНА и насколько по – разному они порой трактуют одну и ту же ситуацию.
Рассказы часто писались в ходе работы над большой исследовательской статьей, основанной на письмах и документах. Тем интереснее было с помощью фантазии заполнять лакуны и достраивать жизненные повороты.
Буду рада, если читатели с моей помощью перенесутся в другой век и заинтересуются судьбами моих таких известных и таких загадочных героев.
Ирина ЧайковскаяБольшой Вашингтон, ноябрь 2019

А. Я. Панаева
Дело о деньгах
Из тайных записок Авдотьи Панаевой
Такого сердечного смеха,
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь…
Николай Некрасов
Часть первая
1
Эти записки я сожгу, равно как и письма Некр – ва, толстую, перевязанную алой лентой пачку. И пусть потомки удивляются. Как это в своих опубликованных воспоминаниях она ничего не пишет ни о своих чувствах, ни о своих отношениях с Пан–ым, ни о своих отношениях с Некр – ым! Верно, не пишу – и делаю это сознательно. Чтобы не питать ваше больное скверное воображение, уважаемые. Слишком много сплетен вылили вы на мою бедную голову. Слышу ваши негодующие крики: «Письма Некр– ва, нашего национального гения, как у нее поднялась рука их сжечь!» А вот поднялась. И жаль, что вы, уважаемые, не прочтете ни этих любовных писем, ни этих моих записок. Очень, очень было бы для вас любопытно. Но не прочтете! Сожгу – и то, и другое.
А для чего пишу записки – сама не знаю, наверное, чтобы разобраться в себе самой. Не буду соблюдать ни хронологии, ни сюжета. Пишу для себя – что вспомнится, то и хорошо.
* * *
Отца до десяти лет я обожала и боялась. Он был очень надменный человек. Мог быть злым и саркастическим. Однажды при мне так высмеял одного актера, который пришел к нему на занятия и невнятно произносил текст, что актер зашатался и повалился на пол. Его откачивали водой. Злым отца сделал Пушкин. Это я поняла, когда еще училась в театральной школе. Нас, воспитанников, там ничему путному не учили, но при школе была библиотека, и я до дыр зачитала отысканные в ней романы Лажечникова, повести Марлинского и пьесы Озерова. Книг Пушкина там не было. Но один мой хороший приятель Саша Мартынов, в будущем прекрасный актер, принес мне переписанные от руки сочинения нашего великого поэта. Я прочла их в один день и попросила еще. У Саши больше ничего из Пушкина не было, разве что одна его рецензия на игру театральных актеров, написанная еще в 20 – х годах. Екатерина Семеновна Семенова получила эту статью в подарок из рук самого поэта, тогда полумальчика, и разрешила снять с нее копию. Мартынов мне эту копию принес, я прочла. Когда дошла до фамилии Брянский, подумала сначала, что это отцов однофамилец. Но тут же поняла, что это сам отец.
Ух, как Пушкин его раскурочил. Как над ним поиздевался! Как все в этом Брянском, ну почти все, ему не нравилось – и деревянный, и неживой, и стихи плохо декламирует. А мне – то все – все в отце – актере нравилось. Был он на сцене всегда очень красивый, статный и высокий, голос его долетал до последних рядов, и, хотя низкого тембра, приятен был для слуха. В Озеровском «Эдипе в Афинах» отец всегда вызывал восторг зрителей, дамы в публике рыдали, и отца вызывали на сцену несчетно, а тут такая язвительная рецензия! Я представила, как больно было отцу это читать, как хотелось расправиться с этим мальчишкой, возомнившим себя критиком.
Какой – то молокосос из рода Пушкиных охаивал актера Императорских театров Брянского, самого Брянского, партнера великой Екатерины Семеновны Семеновой. О Семеновой молокосос писал с восхищением, давний соперник отца – Яковлев – ему также нравился. Можно представить, как тогда взъярился отец, как после этой статейки не знал, на кого излить ярость и негодование, как кричал на мамашу и ее постных сестер, как досталось от отцовского арапника ни в чем не повинному Алмазке.
Видно, отец не легко пережил позор этой оценки, ведь если поначалу он мог не придать большого значения высказываниям молокососа, едва вышедшего из школьных пелен, то с годами вес каждого пушкинского слова непропорционально возрастал, стихоплет превратился вначале в политического изгнанника и автора известных в копиях противогосударственных стихов, потом во всеми любимого национального поэта.
Сейчас я понимаю, откуда у отца эта патологическая ненависть к стихотворцам, «виршеплетам», как он их называл. Некр – ва он не переносил, у себя не принимал, при упоминании имени – хмурился. Вообще отец был строгих понятий.
Я знаю, что в глубине души он не хотел, чтобы я стала «актеркой», одной из тех, кто живет на содержании у богатенького покровителя. Как – то случайно я услышала возбужденный разговор в спальне родителей, то и дело звучало мое имя, я насторожилась. Мамаша визгливым шепотом докладывала отцу, что Титюс, наш балетмейстер, ей на меня жалуется, что я плохо посещаю класс, не слушаю его указаний и притворяюсь неумехой. Все в самом деле так и было. Я не хотела становиться балериной, не хотела и все. В классе хромоногого жилистого Титюса стояла на нетвердых дрожащих ногах, сбивалась с такта, видела, что он едва сдерживается, чтобы не огреть меня палкой.
Сдерживался он из – за моего отца – Брянского боялись. Однажды в перерыве Титюс неожиданно явился в класс. В тот момент я передразнивала француженку Тальони, гастролировавшую в Петербурге, делала пируэты и фуэте под громкое одобрение и аплодисменты товарок. Титюс видел мои прыжки, стоя в дверях. Среди возникшей тишины он проковылял ко мне, на середину залы, громко стуча палкой по паркету. Запомнился его яростный зрачок, он бешено глядел мне в лицо: «У нее стальной носок, а она притворялась расслабленной!»
Титюс обмана мне не простил, нажаловался матери, а та передала отцу. Отец, как было тогда положено, за провинность меня наказал. Бил не сильно, ремнем, не арапником, как обыкновенно бивал Алмазку. Во время этой экзекуции я надрывалась от крика, орала не столько от боли, сколько от негодования. Как он смеет меня бить! И почему? Ведь я своими ушами слышала его раздраженный шепот в ответ на слова матери: «Дунька не хочет в балерины». – Правильно не хочет, б – и они все. Продажные твари. Не балет, а великокняжеский … последнее слово он проглотил – в этом месте мать, наверное, закрыла ему рот, ибо боялась чужих ушей; жили мы на казенной квартире, и любой из соседей мог донести; шепот прекратился, и я прошмыгнула в детскую. Уже тогда, в 10 лет, я знала, что такое «б – и» и примерно представляла, что имел в виду отец.
Со времени экзекуции я разочаровалась в отце, поняла, что он такой же «раб», как все вокруг. Тогда же мне впервые открылось противоречие между мыслями и поступками взрослых. Я затаила мечту поскорее вырваться из этих закостенелых стен, где можно побить девочку, почти барышню, только за то, что она не захотела пойти в «б – и».
Привлекала ли меня сцена? Нет. Может, еще и поэтому я с такой силой противилась уготованной мне судьбе. Девочкой я участвовала в живых картинах, устроенных на Масляной на императорской сцене. Меня нарядили маленькой цыганкой, дали в руки красный цветок. Когда открыли занавес, по залу прокатился гул удивления. Видимо, публику поразила красота картины. Меня не отпускали минут десять. Опустили занавес и повторили картину еще раз.
Тронули ли меня аплодисменты? Ничуть. Я ощутила странное чувство, что сидящие в зале хотят ко мне присосаться, выпить как пиявки мою красоту и юность, а потом выбросить остатки как сношенную негодную вещь. Мне не хотелось нравиться публике, подчиняться ее требованиям, идти к ней в услужение. Слишком сильны во мне были гордость и самолюбие. Главное чувство, которое владело мною на сцене, было желание поскорее убежать. Допускаю, что я могла высунуть язык почтеннейшей публике. «Испытание сценой» прибавило мне уверенности, что эта дорога не моя.
Я была горда и одинока. Вокруг, возле матерниного карточного стола, – в свободные от спектаклей вечера у ней собиралась большая компания за картами – дымом клубились сплетни. Обсуждалось, кто из актрис обзавелся новым обожателем, какие подарки каждая из них получила и какова их стоимость, передавались закулисные новости – «провалившая» роль Дюриха, забывший реплику пьяный Каратыжка, делились сведениями, с кого из опоздавших на вечерний спектакль артисток взял штраф Гедеонов, какую примадонну поклонники собираются ошикать в угоду другой… Я вертелась тут же, возле играющих, но их мир был мне «чужой».
Мать недобрым оком глядела в мою сторону и притворно тихим голосом гнала в детскую или к скучным теткам, целыми днями сидевшим у окошек за пяльцами. Мне были неинтересны и детские игры, и блеклые бестолковые тетки. Здесь за карточными разговорами было гораздо интереснее, но все равно это была чужая стихия. Я это хорошо понимала уже девочкой. Думаю, что и мать это понимала. Она меня не любила, что, впрочем, было взаимно. Я надоела ей своим диким упрямством, своеволием, нежеланием следовать ее наставлениям. Возможно, она ощущала мое презрение к миру интриги и сплетни, царицей которого она была. Я отказывалась посещать уроки декламации, Титюс изгнал меня из балетного класса. Следственно, ставить на меня как на актрису семья не могла. Единственным моим козырем, по мнению матери, оставалась красота. Её – то она и предполагала выгодно продать первому подвернувшемуся покупщику.
Красота досталась мне от отца, я была в него. Еще девочкой – подростком я ощущала на себе несытые плотоядные взгляды мужчин. Мне это не нравилось. Я, как мне казалась, была больше, чем просто «красивая барышня». Сколько я прочитала книг, как много думала над ними, какое бесчисленное количество историй сочинила в своем воображении! Но им, этим прыщавым юнцам и плотоядным старикам, что на меня заглядывались, все это было не нужно, они видели во мне только свежее красивое личико, стройное тело, белую кожу, контрастирующую с темными – цвета воронова крыла – волосами. К тому же мое актерское происхождение давало им право считать меня доступной.
Возле театра всегда крутятся мужчины, лакомые до нестрогих и соблазнительных «актрисок». У родителей за долгие годы службы на театре образовалось довольно много знакомств среди богатых и чиновных жителей Петербурга. Один из таковых, важный и надменный сановник Б. (сама не знаю, почему я скрываю фамилии тех, о ком пишу, может, боюсь, что в последний момент не смогу уничтожить эти записки?!) зачастил к нам. Ему было под семьдесят, седой, с плешью на затылке, узколицый и сухой, он всегда привозил мамаше огромные коробки с конфектами и пирожными, а мне – букеты оранжерейных орхидей. Б. недавно лишился молоденькой жены. Он взял ее из низов за красоту. Говорят, была она отменно хороша и быстро вошла в роль светской дамы.
Умерла она родами, причем отцом ребенка молва называла сына Б. от первого брака, импозантного и солидного государственного чиновника, давно женатого. Б. был мне противен до судорог. Мамаша заставляла меня его принимать, я подозреваю, что его подарки ей не ограничивались конфектами. Было нестерпимо ощущать себя объектом его ухаживаний, слушать его несусветный вздор, пересыпанный комплиментами, на которые нужно было отвечать улыбкой. Я с ужасом ждала, чем могут завершиться его визиты. Однажды мамаша с таинственным видом поманила меня за собой в гостиную. Закрыв дверь, она торжественным, медовым, невыносимо фальшивым голосом оповестила меня, что Б. ко мне сватается и что сегодня он приезжал к ней (отец как обычно отсутствовал) делать официальное предложение.
– Предложение? И что вы ему сказали? – спросила я дрожащим голосом.
– Сказала, что конечно мы согласны. Кого ты еще ждешь – прынца?
Я всегла поражалась грубости и вульгарности ее интонаций и выговора. Возможно, играя в водевилях и комедиях, она переняла у своих хамоватых простонародных героинь их ухватки и манеры. Но мне приходит в голову, что она наделяла их тем, чем была доверху наполнена сама. В жизни я два раза падала в обморок, первый раз был после этих мамашиных слов. Второй, когда много лет спустя у меня на руках умер Пан – в.
Меня отнесли в нашу общую с сестрой комнату. Мне тогда только исполнилось семнадцать, и я решила не жить, если мамаша будет принуждать меня к браку с Б. Дальнейшее можно обозначить русской поговоркой: нашла коса на камень. Мамаша настаивала, я упорствовала, отец сохранял нейтралитет. Странно, что его положение на театре, его бильярд с приятелями, псовая охота, до которой был он охотник, ссудная касса для актеров, которую держали они с матерью, – все, казалось, было ему дороже, чем судьба собственной дочери. Ни разу за все это время он ко мне не приблизился, со мной не поговорил.
Как тяжко вспоминать то постылое время! Наверное, именно тогда, лежа лицом к стене на своей постеле, я пережила самые мучительные дни своей жизни. Много чего было в ней потом – страдания, душевные муки, горькая неутоленная любовь, пережила я и то, чего не пожелаю ни одной женщине, – смерть новорожденных детей; жизнь моя была отравлена клеветой и порочащими слухами, приготовила мне судьба и предательство человека, который когда – то клялся мне в вечной любви, – и все же самый тяжкий груз лег на мою юность, когда дело шло о том, жить мне или нет. Именно из – за тяжести этих воспоминаний, из – за того, что по сию пору ранят они мою душу, я не поместила их в мою предназначенную для чтения книжку. Между мною и читателем там начертана незримая черта: дальше, за эту черту, входа нет. Здесь же я пишу для себя, не боясь обнажить раненую душу.
Однажды, когда я вот так лежала на постеле в состоянии почти прострации, ко мне подошла сестра. Мать запрещала близким со мною общаться, я находилась на положении арестантки, которой два раза в день приносят хлеб и воду, а остальное время, заключенная в четырех стенах, она предоставлена самой себе.
Сестра однако нарушила запрет и быстро – быстро зашептала мне на ухо, что я должна быстро одеться и выйти в гостиную, где меня ждет один человек. Я не хотела. Мне казалось, что сестра говорит это нарочно, чтобы вывести меня из моей летаргии. Но она настаивала, беспрестанно оглядываясь на дверь. Было часов восемь вечера; мамаша, судя по всему, была в театре; но сестра все равно боялась и вздрагивала при каждом звуке. Она заставила меня надеть платье и кое – как причесаться. Я прошла в гостиную. Не успела я войти, как ко мне бросился Жан Пан – в, который последнее время довольно часто к нам заглядывал. Мне он нравился, но молва окрестила его легкомысленным и пустым малым. Очень белокурый, веселый, всегда с иголочки одетый, он казался мне похожим на королевича из сказки.
Почти каждый вечер бывал он в театре, знал всех актеров и актрис, состоял в курсе всех театральных дел и сплетен. Бросившись мне навстречу, Жан быстрой скороговоркой стал говорить, что до него дошли слухи о моем предполагаемом браке с Б. и о нежелании соединять с ним судьбу. Казалось, он был в нерешительности, стоит ли продолжать. Сестра сторожила у входа в гостиную, нас никто не слышал и не видел.
Жан приблизился и схватил мою руку. «Евдокси…Дуня, – сказал он, неотрывно глядя мне в глаза, – если я вам не противен… я мог бы… просить вашей руки у ваших матушки и батюшки». – Вы, вы хотите спасти меня? – Нет, вы мне давно нравитесь, я подумал, что больше подойду вам, чем этот распутный старикашка Б, как вы полагаете?
И мы с ним одновременно улыбнулись, я – сквозь слезы.
2
Вскоре после публикации моих записок я получила несколько писем от читателей. Среди них одно анонимное, очень злое. Корреспондент, скорей всего, женщина, ядовитым тоном осведомлялся, почему я так мало и с таким снисхождением пишу о своем «законном муже». «Не думайте, – писала она далее, – что я хочу вас пристыдить в связи с тем, что «законному мужу» Пан – ву вы предпочли незаконного Некр – ва. Наш век смотрит на эти вещи гораздо снисходительнее предыдущего. Мало того, я полагаю, что с вашей стороны было бы глупо упустить счастливую фортуну и не ответить на чувства нашего несравненного поэта Некр – а.
Я удивляюсь только тому, что вы не позаботитились обелить себя перед лицом современников и потомков. Я, например, близко зная господина Пан – ва и наблюдая за его жизнью в течение нескольких десятилетий, могу засвидетельствовать, что был он человеком весьма низких нравов, прямо сказать, стрекозлом и сводником. Известно к тому же, что женился он на вас, хотя не из корысти, но на пари со своими приятелями, раструбив среди них, что возьмет за себя первую красавицу Санкт – Петербурга. Всем в его окружении был ведом его образ жизни – как до, так и после брака с вами, – весьма предосудительный, так что с вашей стороны было очень глупо не довести хотя части этих фактов до сведения читателей».
Читала я это письмо стараясь не растравлять себя, спокойно. Ведь для этой женщины, автора анонимного письма, главное излить свою злость, нанести удар, сбить с дыхания, заставить зашататься и, может, упасть. Это первое. А второе, что написала – то она почти что правду. Ту правду, которая в виде слухов и сплетен, всегда над нами клубилась. Это так называемая видимая правда. Все видели, что Пан – в легкомысленный, неосновательный, неверный, что пребыванию в домашнем кругу он предпочитал клуб или обед в мужской компании, а ночи в семейной спальне – будуар какой – нибудь актриски или, того чаще, бордель.
Но никто не видел его глаз, когда он пришел спасать меня от смертельного замужества. Никто из целого выводка его друзей даже не посмел подумать, что совершил он тогда благороднейший и чистейший поступок. Ухватились за первое, что витало в воздухе: заключил пари, увлекся красоткой. Очень часто он сам на себя наговаривал, не желая выглядеть «слишком добродетельным». Рад был прослыть «своим малым», простым, услужливым, не заносчивым. Мог что угодно сделать ради друзей, пойти на любые жертвы и самоущемления. Грешным делом, я иногда думаю, уж не из дружеских ли чувств «уступил» он меня своему ближайшему другу Некр – ву?
Но, если разобраться, здесь все было сложнее.
Часто, когда не спится и перед глазами в ночной темноте беззвучно перелистывается роман моей жизни, я думаю: а что если бы у нас с Пан – ым были дети? Дети сделали бы дом домом, семью семьей. С детьми мне не везло – они рождались, но не жили. А если бы хоть один ребеночек выжил! Может быть, тогда Ваня не бросал бы меня вечерами ради своего клуба или заезжей актриски? Не просиживал бы ночи напролет за картами, словно и не было дома молодой жены – красавицы, не находящей себе места от тоски и отчаяния.
Помню, когда первый раз не приехал он домой ночевать, я глаз не сомкнула, чуть не помешалась от страшных мыслей: споткнулся и упал на скользкой нечистой мостовой, попал под извозчика, под нож грабителя… Утром из подкатившего под окна экипажа наш Григорий извлек расслабленное пьяное тело барина и доставил его в спальню. Проспавшись, барин попросил рассолу.
Взяв у Григория кружку, я сама понесла ее к постеле. Бледный, нечесаный Жан сидел среди пуховиков и глядел вокруг себя хмурым и диким взглядом. Взял кружку и выпил рассол. Взгляд его прояснился, стал осмысленным, он поглядел на меня синими невинными глазами и сказал: «Спасибо тебе, Дуня, ты меня воскресила». Приказал Григорию одеваться, быстро позавтракал и ускакал. Куда – бог весть, мне не докладывал. И осталась я снова одна, разве что запали в душу ласковые, милые слова: «Спасибо тебе, Дуня, ты меня воскресила».
Было ли с его стороны предательством добровольная уступка своей жены ближайшему другу? Я первая скажу: нет! В этом треугольнике решала я. И выбор был за мной, а не за Пан – ым. И Пан – в с этим сделанным мною выбором смирился; более того, он его устраивал. Не был мой Ваня по самому своему складу человеком семейным. Вечно хотел летать мотыльком, модно и со вкусом одеваться, радовать дамский взор приятной галантностью и молодцеватостью. Не заладилось у нас с ним с самого начала. Тянулся он к легким развратным бабенкам, неразвитым и невзыскательным. С ними было гораздо проще, чем с самолюбивой и гордой женой, зачитывающейся романами Жорж Занда.
Я молчала и терпела, так как жизнь в родительском гнезде была для меня не в пример ужаснее. Держала свои чувства в себе, слезы проливала тайно, бабушки и тетушки, петербургская мужнина родня, видели меня только улыбающейся, только счастливой. Нет, Пан – в меня не предал, как не предала его я, в свой час перебравшись на половину Некр – ва. Но если спросите меня: положа руку на сердце, ответь, держишь ли обиду на Пан – ва, отвечу: держу. И только за одно держу обиду, что не поговорил со мною в то утро, не объяснился. Молча взглянул на меня, выходящую из чужой спальни, – и отвел глаза. Удалился и ни о чем не спросил. Вот это – то до сих пор меня гложет и ранит. Не по – людски мы с ним расстались.
А ведь я его любила. Был он моей первой и единственной любовью, королевич мой синеглазый. Да и он меня любил, по – своему, но любил. Иначе с чего бы затеял незадолго до своей смерти разговор о переезде в деревню? Поедем, – говорит, – Дуня с тобою в деревню, хочет душа покою. Сил моих нет оставаться в этом свинячем городе. Не с Клашей и не с Маней разговор затеял – со мной, давно уже перебравшейся на другую половину, к ближайшему его другу, ставшей этому другу неофициальной женой. Но венчаны – то мы были – с ним, с Ваней. Священник пред святым алтарем соединил нас на супружество. Всю жизнь носила я его фамилию и не была с ним в разводе. И что бы там ни случилось, была ему законной женой и верным другом. Ближе меня не было у него человека. И перед смертью Ваня воззвал ко мне как к своей жене и подруге.
* * *
Что до Некр – ва, то скажу, что он меня дважды по – настоящему предал. Ничего не поделаешь – такой имел характер. Был он человеком не то чтобы неверным, но вечно сомневающимся, мнительным, колеблющимся. Когда Пан – в умер, все вокруг ждали, и я грешным делом, тоже ждала, что Некр – в на мне женится. Но этого не случилось. Некр – в чего – то испугался. Сидел в мужчинах того времени, особенно в тех, кто дворянских кровей, страх перед женитьбой. Николай Гаврилович и Доброл – в хорошо это видели и высмеяли в своих писаниях. Некр – в недаром дружил с Тург – ым, еще одним вечным холостяком, греющимся у чужого огня.
Я думаю, основной страх у Некр – ва был связан с определенностью положения женатого мужчины. Этой определенности он боялся, желал оставаться свободным в своих холостых привычках: девки, клуб, крупная игра. Что ж, как говорится, Бог ему судья. Когда умирающий он встал под венец с этой своей Феклой, взятой им из «заведения», ничего уже этот шаг не решал, ни к чему его не обязывал. А Фекле – Зине как он ее называл – ни полушки от того не перепало, все что осталось поделили его родственнички. Некр – в был человеком небедным, деньги к нему шли. И вот деньги эти проклятые, сдается мне, сильно его испортили.
То, что Некр – в не женился на мне, к лучшему. Руки мне развязал – я вышла за Аполлона Головачева – молодого, по – новому мыслящего, влюбленного, – родила доченьку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я уж считала себя заговоренной: не жили мои дети – ни от Пан – ва, ни от Некр – ва. И вдруг… Так что хорошо, что Некр – в на мне не женился, охотно прощаю ему это предательство. А вот чего никогда не прощу, так это Мари. Что по всему свету пустил слух, что я ее обобрала и обманула, что нет за ним вины. А между тем, не будь Некр – ва, никогда бы я не ввязалась в это проклятое дело. Он был в нем моим поводырем и советчиком, я следовала его указаниям как слепой котенок. Сама я в этих вещах никогда ничего не смыслила. Дело – то шло о деньгах.
Тратить деньги я любила и умела. Живучи у родителей, отказывалась надевать смешные уродливые обноски, доставшиеся от старших сестер. Сама придумывала фасоны и шила на живую нитку из блестящих портьерных тканей, сваленных в чулане, платья для «принцессы». Выйдя за Пан – ва, узнала вкус и запах модных французских лавок.
Пан – в не был богат, службу оставил, жил доходами с имения и журнальными гонорарами. Распорядиться достоянием как следует не умел, приказчики вечно его обворовывали. То немногое, что посылалось барину, тратил на кутежи и прихоти. Одет был вечно с иголочки, «хлыщом» – недаром писал о них свои нескончаемые заметки для журналов. Меня тоже одевал как картинку, на показ. Если мы выезжали вместе, был недоволен, коли на мне не новая шляпка, не тонкие перчатки. Но подарков дорогих – золотых колец, брильянтовых подвесок, жемчужных ожерелий – не дарил, видно, считал, что жене их дарить не пристало, берег для смазливых актрисок и хищных дебелых вдовушек. Когда позднее Некр – в взял моду дарить мне дорогие украшения, брильянты, мне было это внове и вначале даже нравилось.
Но с Некр – ым я познакомилась года через три после замужества. Вскоре после нашего венчания Пан – в повез меня для знакомства к своей московской родне и друзьям. Брак наш уже тогда, в самом начале, являл печальную картину. Пан – в тяготился всяческими узами и рвался прочь от домашнего очага и его олицетворения – жены. Я, хоть и была тогда молодой, застенчивой и мало что понимавшей, одно знала твердо: никто не должен услышать от меня ни слова жалобы. Я равно улыбалась и старым теткам, и пан – им друзьям, и их женам. Друзья же были прелюбопытные.
Жан был знаком с самыми впоследствии знаменитыми деятелями московского кружка, встречался с ними запросто, за столом. На семейные обеды к Щепкину и Грановскому он брал и меня. Я сидела в застолье тихо, как мышка, и старалась вместить в себя все услышанное и увиденное. В сущности эти встречи, с громкими криками, с затяжными спорами, с энергическим обсуждением литературных и философских вопросов, часто с пением, чтением стихов и дружескими, хотя порой едкими шутками, – были моей школой и даже университетом.
Сидя рядом с этими людьми, я ощущала себя малограмотной малознайкой – ведь за плечами у меня была одна куцая театральная школа, да театральные пьесы, знаемые мною наизусть, да русские и французские романы, которыми я продолжала зачитываться. Французский дался мне легко, это был единственный урок, который я посещала с охотой, потому что учительницей была настоящая француженка, из Парижа. Кроме мадемуазель Лекор, ни знавшей ни слова по – русски и щебетавшей на ставшем вскоре понятном языке, в школе никто ничему путному не учил, если не говорить о танцах и драматическом искусстве. Не было даже первоначального обучения грамоте, так что писать и читать я выучилась сама по книжкам из мамашиного шкафа, а после – из театральной библиотеки.
* * *
Мне кажется, не только я, но и Пан – в слегка ежился в компании высоких университетских умов. Он тогда уже был начинающим литератором, пописывал для журналов, переводил с французского пьески (отсюда и его знакомство с отцом: Пан – в привез ему свой Отелло), но большой ученостью не обладал. Правду сказать, ученые головы из московского кружка не слишком кичились своей образованностью.
Не было здесь высокомерного Тург – ва, презрительной ухмылкой встречающего каждого нового собеседника. Все должны были падать ниц перед его умом и знаниями! С Тург – ым я познакомилась уже в Петербурге, хотя был он задушевным приятелем всей здешней честной компании. Странно, что Тург – в сделался впоследствии интимнейшим другом Некр – ва, недоучившегося гимназиста, не говорившего ни на одном иностранном языке, в то время как Тург – в владел как минимум четырьмя. Но связано это было, скорее всего, с тем, что Некр – в был человеком практическим, с жизненным опытом, с выдержкой и умением вести дело, чего так не хватало Тург – ву. Объединяла их и совместная работа в журнале. К тому же, оба были заядлыми охотниками и любителями поговорить с мужиком.
На обеде у Щепкина, куда привез меня Жан, я особенно заинтересовалась одной особой. Это была дама моих лет, очень изящная и живая. Что – то восточное было в ее чертах и особенно во взгляде темных искрящихся глаз. Вела она себя чрезвычайно непосредственно, словно балованное дитя. Рядом с нею сидел светловолосый господин, с нежным и выразительным лицом, на котором после каждой реплики жены появлялась страдальческая гримаса. Я сидела молча, наблюдая за происходящим.
В ту пору мне едва исполнилось 19, я была дикая и молчаливая, к тому же, предмет разговора был для меня нов. Говорили о назначении человека. Коренастый большелобый господин, сидевший рядом со светловолосым, поднял бокал за великое дело человека сеять вокруг себя семена свободы и разума.
С другого конца стола некто артистического вида, с черными до плеч кудрями, бросил реплику, что еще Пушкин показал несостоятельность этой попытки. Завязался спор. Коренастый, вкупе со светловолосым, отстаивали необходимость борьбы за свое предназначение. «Артист» с присоединившимся к нему рыжым вихрастым немцем – постепенный эволюционный приход человечества к самопознанию.
Дамы, сидевшие тут же, в споре не участвовали. Жена коренастого, по типу точь – в – точь идеальная романтическая героиня, хотя несколько нескладная, тихим голосом повторяла: «Успокойся, Александр, тебе вредно волноваться».
И вот тут – то и вылезла жена светловолосого. Она прервала говорящих громким звоном хрусталя, несколько раз ударив ножом по бокалу.