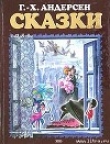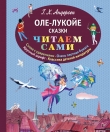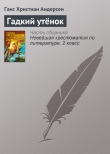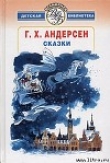Текст книги "Ханс Кристиан Андерсен"
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
1864 год был тяжелым годом для датского народа. Национал-либералы давно уже перестали изображать из себя «защитников свободы», в дружном союзе с консерваторами они старались ущемить права ригсдага и продолжали шовинистическую политику по отношению к Шлезвигу и Гольштейну. Этим воспользовался «железный канцлер» Бисмарк, давно собиравшийся «округлить» границы Пруссии за счет датских владений. Прусские войска двинулись на Данию, и датская армия отступала все дальше под их натиском.
В результате войны Пруссия захватила оба герцогства, и их надежды на самостоятельность потерпели крушение. Положение прусских провинций не принесло им никаких преимуществ, напротив, конституция Пруссии была еще ограниченнее датской.
Целый год Андерсен ничего не писал: на сердце у него было слишком тяжело. В воображении вставали мрачные картины горящих домов, вокруг которых с криком кружились аисты, полей, вытоптанных тяжелыми сапогами неприятеля, женщин в трауре с омертвевшими бледными лицами…
Но вот, наконец, в стране снова был мир, снова спокойно зеленели весенние поля и смеялись дети. Теперь, может быть, и новые сказки начнут стучаться в дверь? Нет, все тихо, видно, они забыли к нему дорогу… Временами он чувствовал себя старым и бесконечно усталым. Даже верное, испытанное средство – путешествия – не всегда помогало теперь стряхнуть это чувство. За последние годы смерть унесла многих дорогих ему людей: тихую Генриэтту Ханк и Иетту Вульф, Эрстеда и старого Коллина. Неужели и его жизнь близится к закату? Как не хотелось в это верить!
Славы было хоть отбавляй: ордена и чествования, почетные звания, хвалебные статьи, новые и новые издания его книжек дома и за границей. Когда он путешествовал по Испании и Португалии, его спутник Йонас, сын Эдварда Коллина, даже жаловался на утомительность всевозможных знаков внимания, которые дождем сыпались на «короля сказки». Да и сам Андерсен уже не так радовался им, как прежде.
«Вам я могу в этом сознаться, – писал он в 1865 году Эдварду Коллину, – я совсем не чувствую себя счастливым. Это неблагодарность с моей стороны, но я все больше и больше убеждаюсь в суетности, в ничтожности славы, знаменитости…» Ах, если бы можно было снова стать босоногим мальчишкой, собиравшимся завоевывать мир! «Неужто нам с тобой остались только воспоминания?» – обращался он к оловянному солдатику, полученному двадцать лет назад в подарок от маленького Эрика, сына немецкого поэта Мозена.
«Это чтоб Андерсен не чувствовал себя таким ужасно одиноким», – сказал тогда мальчик. И оловянный солдатик честно выполнял свой долг, сочувственно тараща глаза на хозяина, бравшего его в руки в минуты грусти.
А какой-то студент прислал Андерсену засохший четырехлистник клевера, который, по народному поверью, приносит счастье: он нашел эту былинку еще в детстве, объяснял молодой человек в письме, когда услышал от матери, что Андерсену пришлось испытать много горя. Но мать не решилась отослать этот подарок, а вложила его в книгу. Пусть же он хоть теперь отправится по назначению!
Да, все-таки легче жить, когда у тебя много друзей повсюду – и знаменитых и безвестных… И далеко не все позади, сказки придут, непременно придут и постучатся в дверь, и что-то хорошее, интересное должно еще с ним случиться, и мир станет со временем лучше, а люди добрее. Многих старых друзей нет на свете, но подросли их дети и внуки, а он еще не так стар, чтоб не находить удовольствия в обществе молодежи. Нежная дружба связывала его с темноглазой Ионной, дочерью Ингеборг Древсен, на товарищескую ногу были поставлены отношения с Йонасом Коллиным-младшим. Да и, кроме них, у него было немало молодых друзей, сопровождавших его в путешествиях, с интересом слушавших его воспоминания.
Словом, жизнь все-таки прекрасная вещь!
По-настоящему плохо, пожалуй, только то, что здоровье временами сильно сдает. Невзгоды, волнения, напряженная лихорадочная работа расшатали его нервную систему. Зубная боль доставляла ему страшные мучения. Живое воображение, бывшее прежде таким верным слугой, вдруг срывалось с цепи и выкидывало всякие фокусы: когда он плыл на корабле, ему вдруг с удивительной ясностью представлялась картина кораблекрушения; когда он засыпал, его охватывал страх перед летаргией, а во сне преследовали кошмары из прошлого. Грозное лицо Мейслинга снилось ему до самой смерти!
Но снова и снова невероятным усилием воли он стряхивал с себя уныние, болезненную раздражительность, тяжелые воспоминания, шел в театр и в гости, живо интересовался всем, весело и остроумно шутил, и только самые близкие друзья знали, с какими мрачными тенями борется подчас «счастливый сказочник».
Когда Андерсен проходил по улицам Копенгагена, некоторые прохожие почтительно здоровались с ним, другие смотрели вслед: многие из них выросли на его сказках, знали о его трудном пути, гордились его всемирной славой.
С годами сгладились недостатки внешности поэта, когда-то навлекавшие на него насмешки салонных остряков.
«Это был высокий, статный человек, с лицом, которое делал прекрасным отпечаток напряженной духовной жизни, – вспоминал о нем впоследствии один датский писатель, в шестидесятые годы бывший еще молодым студентом. – Он держался с большим достоинством, но был в то же время безгранично внимателен и дружелюбен по отношению к любому человеку, хотя бы то был совершенно неизвестный ему начинающий литератор». Андерсен слишком хорошо помнил, как это больно и тяжело, если на тебя смотрят сверху вниз, да и, помимо этого, всякое высокомерие, так же как и подобострастие, были глубоко чужды его натуре.
В Копенгагене с 1859 года возникло «Рабочее общество», ставившее культурно-просветительные цели, и Андерсен был первым из датских писателей, предложивших обществу свои услуги. В зале, битком набитом рабочими и ремесленниками, собравшимися послушать знаменитого писателя, который вышел из их среды, звучал его ясный, гибкий, глубокий голос. Он очень волновался перед этими выступлениями и всей душой радовался их успеху. Читал он удивительно просто, без всякой «театральности», но с бесконечным богатством оттенков, донося до слушателей каждое слово, и всем знакомые сказки каждый раз казались новыми и свежими.
…Его немножко обижало, когда ему говорили, что последние сказки не так значительны, как прежние. Но ничего не поделаешь, приходилось примириться с тем, что в общем восприятии он прежде всего автор «Нового платья короля», «Русалочки», «Соловья», «Гадкого утенка», «Тени», «Матери», «Пропащей», а не «Старого колокола» или «Сына привратника»…
Ветряная мельница, старый чайник, серебряная монетка и мотылек не отказывались рассказать ему свои истории, в которых было кое-что интересное и забавное. Но этим историям недоставало большого обобщения, в них не было сатирической остроты или глубокого, захватывающего волнения. Иногда в них повторялись мотивы более ранних сказок: «Блуждающие огоньки в городе» перекликались с «Тенью», «На утином дворе» – с «Гадким утенком». Буря, ставящая все по местам, снова разыгралась в сказке. «Ветер перемещает вывески», но ее «ручной» характер был виден еще яснее, чем раньше, хотя сказочнику она казалась значительной. «Вряд ли такая буря повторится при нас, разве что при наших внуках», – заканчивал он сказку и давал внукам «благой совет» сидеть дома, пока бушует вихрь.
Это было написано за шесть лет до Парижской коммуны! Да, в старости трудно понять то, что и в молодости было неясным… Новая расстановка борющихся сил была за пределами зрения Андерсена, для растущего рабочего движения на его палитре не нашлось красок.
Но с теми, кто «паровозы оставлял и шел на баррикады», у его сказок были общие враги, и маленькие крылатые истории перелетели за ту границу, которую время начертило их автору.
В начале декабря 1867 года город Оденсе выглядел ликующим, праздничным и принаряженным.
Толпы народу на улицах, песни и приветственные возгласы, факельное шествие, иллюминация, фейерверк… Все это на первый взгляд напоминало праздники, устраивавшиеся в честь королевских особ, но эти торжества бывали официальными, они не вызывали такого общего оживления, такой радости и гордости на лицах. Еще бы! Ведь на этот раз оденсейцы чествовали не короля, не губернатора, а своего земляка Андерсена, которого старики еще помнили мальчишкой в заплатанной курточке.
Гадалка предсказала этому мальчику, что когда нибудь родной город будет иллюминирован в его честь. Что ж, мудрая старуха на этот раз не ошиблась; оденсейцы, знавшие это пророчество из «Сказки моей жизни», выполнили его.
Андерсен стоял у окна ярко освещенного зала ратуши и смотрел на взволнованную толпу внизу. Бургомистр и другие важные господа окружали его, на столе лежали груды приветственных телеграмм, а в толпе народа были его старые товарищи школьных лет и их дети и внуки, теперешние школьники.
В богадельне он нашел сгорбленную старушку с огрубевшими руками, изуродованными ревматизмом, – это была Анна-Лисбета, которую он помнил милой смешной девочкой с тугими белыми косичками. «Это моя приемная сестра!» – сказал он директору богадельни, наблюдавшему их встречу.
Андерсен много раз бывал в Оденсе за эти годы, особенно пока живы были Генриэтта Ханк и ее мать, но, кажется, никогда еще вид знакомых узких уличек, старого домика, где прошло его детство, высоких стен старого собора не вызывали стольких воспоминаний. В них мелькнула и тень упрямицы Карен, которую он не хотел называть сестрой. Двадцать пять лет назад она пришла к нему в Копенгагене, он дал ей немного денег, поговорил с ней, пытаясь подавить непреодолимую, застрявшую в сердце с детства неприязнь. Больше он ее не видел. «Сегодня я мог бы встретиться с ней по-дружески», – подумал он, не зная о том, что своенравная Карен давно лежит в безыменной могиле на копенгагенском кладбище для бедных.
Волнение и усталость вызвали мучительную вспышку зубной боли. Она терзала Андерсена, когда детский хор пел посвященную ему песню, когда произносились приветственные речи и поздравления, когда ему торжественно вручался диплом почетного гражданина Оденсе. Зубная боль рисовалась ему в виде отвратительной тощей старухи, которая злорадно приговаривала: «Великому поэту – великая зубная боль! Ничего не дается даром. За все надо расплачиваться!» «Ну, погоди, я напишу о тебе сказку!» – мысленно обещал он ей. И вдруг она исчезла так же неожиданно, как появилась. Андерсен вздохнул свободно: теперь ничего не мешало ему насладиться своим праздником. Эх, если б еще не седые волосы да не морщины…
В начале семидесятых годов он совершил свои последние путешествия – в Париж, в Норвегию, в Швецию. Слабость, кашель, опухшие ноги мешали снова отправиться в путь, но он надеялся, что все это пройдет, и строил новые планы.
– Погоди, я немного окрепну, и тогда мы с тобой опять поедем куда-нибудь! – говорил он Йонасу Коллину-младшему. Йонас не спорил, чтобы не огорчать старика, но про себя думал, что вряд ли эти поездки смогут состояться.
Написаны были и последние сказки: «Что рассказывала старая Иоганна», «Тетушка Зубная боль», «Профессор и блоха». Гостя в старинных усадьбах, Андерсен напрасно бродил по липовым аллеям, по берегам озер, по цветущим полянкам в поисках новой сказки. Вот чудесная цветущая яблонька, а под ней скромный одуванчик, но он уже писал, что каждый из них по-своему прекрасен, что «существует разница между растениями, как и между людьми: одни служат для пользы, другие для красоты, а без третьих и вовсе можно было бы обойтись».
Белый дымок вьется над болотистым лугом – это там старуха болотница из народных поверий рассказала ему о коварных, бессовестных блуждающих огоньках, которые прикидываются людьми – кто пастором, кто государственным деятелем, а кто писателем – и сеют зло, раздор, ложь…
На широком кусте кувшинки давным-давно странствовала крохотная Томмелиза, а улитка, важно ползущая по стеблю розы, уже объяснила, что ей плевать на весь мир, она признает только свою раковину… Ветер, шевелящий листья старого дуба, рассказал когда-то сказочнику о надменном, расточительном Вальдемаре До, знатный род которого пришел в упадок и вымер. А новых историй не слышно в его шуме…
Нет, новой сказки нигде уже не сыскать, и это очень грустно. Но зато старые кивают и улыбаются со всех сторон – ох, как же их много! – надо утешаться этим. Кое-кто из молодежи поговаривает, что сказки отжили свой век, что писателю нужно только бесстрастно и точно описывать факты – все подряд, ничего не выбирая! – а от вымысла отказаться. Это, мол, будет строго научный подход. Неправда, сказка никогда не умрет!
2 апреля 1875 года Андерсену сообщили, что закончена подписка на сооружение ему памятника, и принесли составленный скульптором проект. Там изображался сказочник, со всех сторон облепленный ребятишками. Андерсен забраковал проект.
– Мои сказки адресованы столько же взрослым, сколько и детям! – волновался он. – И потом, когда я читал их вслух, я ни за что бы не потерпел, чтоб дети висели у меня на плечах. Зачем же изображать то, чего не было?
И проект был переделан по его желанию.
Чествование в день семидесятилетия было последним прижизненным триумфом Андерсена. Летняя духота и пыль заставили его переехать из Копенгагена на виллу «Отдых», принадлежавшую семейству его друзей.
Но ни свежий воздух, ни чудесный вид на пролив, ни заботы гостеприимной хозяйки не могли уже поправить дела: Андерсен совсем расхворался.
– Ничего, это ненадолго! – говорил он и еще в конце июля продиктовал ухаживавшей за ним приятельнице письмо к Йонасу Коллину – снова о планах путешествия. А вечером 3 августа у него начался жар, он беспокойно метался, и обрывки каких-то картин проносились перед ним… Тонкий рог месяца – он видел его когда-то… Ах, да, это было в Константинополе… И потом, в придунайских степях, скрипучие плетеные телеги, запряженные белыми волами… Все заволакивается туманом, смутно мелькает желчное лицо Мейслинга… Он жалуется старому Коллину на своего нерадивого ученика, надо остановить его, сказать, что это неправда… Но голос не слушается, да и Мейслинг уже исчез куда-то… Теперь слышится скрипка – громче, яснее вырисовывается фигура Оле Булля со смычком в руке, скрипка жалуется, негодует, со струн соскакивают крохотные голубые огоньки, их все больше, больше… И снова темно, а музыка звучит еле слышно, это уже не скрипка, это мать мурлычет ему сквозь сон старую колыбельную… И становится легко и спокойно, можно хорошенько вытянуться и спать, спать… В одиннадцать часов утра хозяйка виллы, дежурившая всю ночь у постели больного, ненадолго вышла из комнаты: Андерсен спал глубоким тихим сном. Незаметно его дыхание становилось слабее, слабее, а потом совсем затихло. Свежий ветер залетел в комнату, полный вестей о море и кораблях, дотронулся до неподвижного лица и умчался своей дорогой: здесь некому больше слушать его истории.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
За два месяца до смерти Андерсен прочел в одной из английских газет, что его сказки принадлежат к числу наиболее читаемых во всем мире книг.
Шли годы, и слава сказочника выдерживала проверку временем. Больше ста лет прошло с тех пор, как появились первые сборники сказок. И по-прежнему имя Андерсена – одно из первых в перечне самых популярных писателей.
В Королевском саду в Копенгагене стоит памятник. Вокруг него раздаются крики и смех играющих детей, шелестят высокие деревья (самые старые из них, наверно, могли бы рассказать внимательному слушателю историю о голодном и оборванном мальчике, бродившем когда-то по этим аллеям), и по худощавому лицу бронзового Андерсена пробегают легкие тени. Он сидит с книгой в руках, окруженный сменяющимися поколениями своих верных читателей, которые не забывают приносить цветы и зелень к подножию памятника.
Если же пройти по оживленным копенгагенским улицам на берег пролива, то там можно увидеть фигуру маленькой русалочки, сидящей на большом камне, с глазами, устремленными в морскую даль.
Датские школьники, раскрывая свои хрестоматии, находят там сказки и стихи Андерсена и историю его жизни. Но и для миллионов читателей во всех уголках земного шара, никогда не видевших памятника, музея и статуи русалочки на берегу, не изучавших в школе сказок Андерсена, автор «Дюймовочки», «Гадкого утенка», «Огнива» и «Снежной королевы» быстро становится близким и любимым другом. Эти читатели ничего не знают о трудном пути, пройденном мальчиком из Оденсе, о его характере, о его привычках и вкусах, и все-таки они знают о нем очень много, знают главное, потому что в сказках Андерсена всегда звучит его живой голос, по интонациям которого мы безошибочно угадываем, смеется сказочник или грустит, лукаво щурит глаза или негодует.
Итак, главные черты облика сказочника выступают перед нами, когда мы читаем его произведения: ведь человека судят по его делам, а что же с большим правом может называться делами Андерсена, если не его сказки?
Но знакомство с жизнью писателя и его эпохой позволяет нам понять, как сложился этот своеобразный талант. Если бы Ханс Кристиан вырос не на нищей городской окраине, а в графском замке или купеческом особняке, он бы уберегся от многих жестоких уроков жизни. Но нет ни малейших сомнений, что тогда мы бы не прочли его сказок. Если бы, вместо того чтобы слушать песни и сказки старух из богадельни, он с детства засел бы за латинскую грамматику, то Мейслинг, бесспорно, не имел бы оснований сетовать на своего питомца, но Андерсен в лучшем случае стал бы дельным филологом, а не знаменитым сказочником.
Широкое же знакомство с книжной литературой обогатило его эстетику, развило его вкус. Впечатления от книг, слившись с народным восприятием жизни, присущим Андерсену, с образами фольклора, жившими в его фантазии с детства, и дали тот «чудесный сплав», из которого состоят его сказки.
Исследователи давно подсчитали, что лишь немногие сказки Андерсена основываются непосредственно на фольклорных сюжетах. Но дело не в прямом использовании или обработке народной сказки. За долгие лета своего существования сказка выработала определенные понятия о красоте и добре, их неразрывной связи между собой, о враждебных народу силах и конечном торжестве справедливости, о трудных испытаниях, неизбежно предшествующих счастливой развязке. И вот этот определенный взгляд на мир, отражающий опыт многих поколений создавшего сказку народа, лежит в основе сказок Андерсена.
Меткость насмешки, бьющей по врагам, и лукавый юмор, составляющие значительную часть андерсеновского обаяния, тоже развились на основе «фольклорной школы», пройденной поэтом. Андерсен отнесся к народному творчеству не как ученый-собиратель, чувствующий себя не вправе переставить слово, чтобы не совершить «насилия над текстом», а как законный наследник поэтических сокровищ фольклора: он внес в сказку немало новых черт.
Описания природы, множество конкретных бытовых деталей, лиризм повествования, перенесение действия из прошлого в современность – все это, как правило, несвойственно народной сказке. Но связь Андерсена с народным творчеством и не сводится только к сказке: его вдохновляли и баллады, и лирические песни, и древние саги, и местные легенды.
Народу обязан Андерсен своей силой. Но и слабости патриархальных датских крестьян и ремесленников: вера в божье милосердие и в доброго короля, нечеткость в оценке классовых отношений, неясность путей к освобождению – не могли не отразиться в его творчестве. Эти противоречия исторически обусловлены и непосредственно связаны с судьбами маленькой Дании, где капитализм во времена Андерсена только начинал свое развитие. Но глубоко неверно было бы слабости, присущие Андерсену и породившие ряд неудачных сказок, объявлять ведущими чертами его творчества. Одной сказки «Новое платье короля» достаточно, чтобы Андерсен мог претендовать на звание мастера острой социальной сатиры.
Лев Толстой, очень любивший Андерсена, на протяжении ряда лет обращался к этой сказке. Обобщающий характер сказки позволил использовать ее для обличительной характеристики различных общественных ситуаций. В 1904 году Толстой воспользовался образом «голого короля» для критики ложного блеска, которым маскируются «сильные мира сего». В 1909 году, выступая против подготовки империалистической войны, он призывает всех «сказать то, что все знают, но только не решаются высказать, сказать, что как бы ни называли люди убийство, убийство всегда есть убийство, преступное, позорное дело». При этом он снова напоминает о сказке Андерсена: ребенок сказал, что царь – голый, и внушение исчезло, люди перестали себя обманывать. А в 1910 году Толстой записывает в своем дневнике: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения. Это – сказка о царе в новом платье».
Коротенькие истории Андерсена имеют многозначный смысл, который всегда несет демократический заряд. Народность – это и есть та живая вода, которая не дает стареть сказкам Андерсена.
«Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь», – недаром эти слова так полюбились Горькому (который, как и Толстой, высоко ценил Андерсена), что он взял их эпиграфом к своим поэтическим и жизнеутверждающим «Сказкам об Италии».
Андерсен без устали призывает своих читателей оглянуться хорошенько вокруг себя и понять, сколько яркого и интересного можно найти в самых будничных предметах и явлениях. Надо только уметь взглянуть как следует.
…Жил однажды молодой человек, которому ужасно хотелось стать поэтом, рассказывает Андерсен, но почему-то у него это никак не получалось. «Ах, как непоэтично наше время! – вздыхал юноша. – Вот если б я жил в средние века, тут-то бы у меня дело пошло на лад…» Наконец он обратился за советом к старушке, жившей в крохотном домике у городских ворот. Мудрости у нее было побольше, чем у важных господ, разъезжающих в каретах, она сразу поняла, в чем беда молодого человека, и одолжила ему свои очки и слуховую трубку. Сразу ожило все вокруг него, мир наполнился новыми красками и звуками, в каждой картофелине, в кусте терновника и пчелином улье открылось что-то интересное, а уж если взглянуть на проходящих людей, так просто в ушах начинало звенеть от разных историй, и каждая была лучше другой. Так молодой человек чуть было не стал поэтом, только одно помешало: когда старушка взяла у него свои очки и трубку, он опять не мог услышать и увидеть ничего достойного внимания…
«Волшебные очки» – это творческая фантазия, она помогает сказкам расти из жизни. «Реальные представления чрезвычайно поэтически принимают в них фантастический характер, – говорит Добролюбов о сказках Андерсена, – не пугая, однако, детского воображения разными буками и всякими темными силами».
«Темные силы», враждебные человеку, Андерсен рисует смешными, уродливыми, вызывающими презрение, они не могут устрашить, потому что писатель-гуманист твердо верит в неизбежность их поражения.
По решению Всемирного Совета Мира в 1955 году отмечалась стопятидесятилетняя годовщина со дня рождения Андерсена. В голосах советских читателей и писателей, откликнувшихся на эту памятную дату, звучали горячая любовь и глубокое понимание творчества сказочника. «Можно сказать с полной уверенностью, что в своих волшебных сказках Андерсен рассказал больше и правдивее о реальном мире, чем многие романисты, претендующие на звание бытописателей», – писал Самуил Маршак. И эту оценку разделяют миллионы советских людей. Новые и новые издания сказок Андерсена появляются у нас и раскупаются нарасхват. Неизменным успехом у зрителей пользуются талантливые инсценировки Е. Шварца «Тень» и «Снежная королева». С большим интересом встретили читатели романтическую новеллу, навеянную некоторыми эпизодами из жизни Андерсена, в «Золотой розе» К. Паустовского.
«Сказка никогда не умирает!» – и вместе с ней живет память о поэте-сказочнике Хансе Кристиане Андерсене.