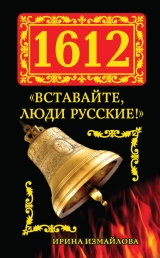
Текст книги "1612. «Вставайте, люди Русские!»"
Автор книги: Ирина Измайлова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 5. Мстители
– Прекратить стрельбу! – пан Шокальский развернул коня и ринулся к обозу понимая, что нужно немедленно успокоить людей.
– Он пришел, значит, сейчас явятся и эти!.. – прошептал, следуя за ротмистром, Ежей Гусь.
– Замолчите, пан десятник! – рявкнул Станислав, пытаясь справиться с собственным смятением. – Поднимайте всех, и пускай люди перезаряжают оружие – они же в этого волка разрядили все пищали и выпустили по полколчана стрел! Живо!
Он обернулся, чтобы проверить, слышал ли его десятник, и сперва решил, что тот вовсе потерял голову от страха: глаза пана Гуся были вытаращены, рот широко раскрыт. Он, кажется, пытался, но не мог выдохнуть какие-то слова, вместо слов из его рта вдруг вылетели темные брызги крови… И тогда Станислав увидал наконец стрелу, торчавшую в горле десятника. Ее оперение еще дрожало.
– Все к оружию! – крикнул он.
Крикнул, понимая, что двадцать раз опоздал. Не менее десятка корчившихся в агонии тел уже лежали в разных местах подле стоявших в круге телег. Те же, кто оставался внутри круга, пока что защищенные телегами и груженой на них поклажей, лихорадочно перезаряжали свое оружие, но им не в кого было стрелять – размытая снегом тьма надежно скрывала «призраков».
Новый дождь стрел скосил еще пятерых караульных, пытавшихся различить своих врагов и натянувших луки.
– В укрытие! Все в укрытие! – скомандовал Шокальский, как обычно, в минуты боя, вернувший себе хладнокровие и понимавший, что только четкие приказы спасут его обозников от паники. – Укрыться за телегами и выжидать! Чтобы напасть, им придется приблизиться к нам!
Он соскочил с коня и тоже бросился к ближайшей телеге. Но не добежал до нее всего трех шагов – стрела вошла ему в бедро, и он рухнул на снег, прилагая страшные усилия, чтобы не закричать от боли и не потерять сознания.
– Пан ротмистр!
Один из кавалеристов выметнулся из-под телеги, кинулся на помощь командиру и упал. Темное пятно медленно выползало из-под его головы.
Станислав ползком преодолел оставшиеся до телеги пару саженей и вкатился меж колес, откуда ему уже тянули руки кавалеристы.
– Не выходить! – прохрипел он. – У нас достаточно припасов, чтобы дождаться утра, а утром они не посмеют приблизиться. Скольких мы потеряли?
– Семнадцать человек, пан ротмистр, – отозвался рядом чей-то дрогнувший голос.
– Ничего себе! И сколько нас осталось?
– Считая возчиков, тридцать восемь человек… Но еще человек семь ранены, двое очень сильно.
– Понятно. При том, как мало людей сопровождали обозы до сих пор, ясно, почему почти сразу погибали все… Не добавляйте больше жару в костры: мы все равно не видим разбойников, а они будут видеть нас еще лучше.
Двое пехотинцев вытащили раненого командира из-под телеги, уложили на расстеленный бурнус. Чьи-то руки осторожно разрезали штанину.
– Стрела засела очень глубоко… Чтобы ее извлечь, нужно сделать надрез. Потерпите, пан ротмистр.
– Что я тебе, девчонка?! Вынимай!
На несколько минут он потерял сознание, когда же очнулся, рана была уже перевязана. Он попробовал шевельнуть ногой, но та совершенно онемела.
– Ничего, верхом удержусь. Лишь бы цело было сухожилие… Кто-нибудь – дайте воды!
Темнота кругом обоза, казалось, еще сгустилась, и пытаясь выглянуть из-под телег и в просветы меж ними, осажденные совершенно ничего не видели. Несколько не распряженных лошадей тоже были убиты стрелами, которые пускали как «призраки», так и охваченные паникой защитники обоза, и теперь конские туши стали дополнительным прикрытием, от которого, впрочем, не было толка – стрелять-то больше не в кого…
– Может, они ушли? – тихо предположил один из пехотинцев.
В ответ на его слова мгла кругом внезапно озарилась пронзительной вспышкой, раздался оглушительный грохот, и одна из телег разлетелась на куски, а груженные на нее мешки и корзины полетели в разные стороны. Лошади, и без того испуганно ржавшие и толкавшиеся внутри круга, разразились отчаянным ревом, две из них, сумев порвать упряжь, махнули через ограждение.
– Пушка! Матка Боска, у них пушка! – взвыл один из осажденных.
– Еще бы: в прежнем обозе, который они взяли, пушек было целых четыре! – сквозь зубы выдохнул Шокальский.
– В Твери их льют преотлично. Кажется, призраки не уйдут, пока хоть кто-то из нас останется жив. Но где же они?
Сделав усилие, отчаянно сражаясь со своей болью, он привстал и с помощью еще одного пехотинца заполз на соседнюю телегу. Опытный командир понимал, что единственная возможность увидеть, где находятся враги – дождаться следующего выстрела, когда вспышка стреляющей пушки осветит их и укажет место.
– Кавалеристы! – скомандовал он. – Как только пушка ударит, все в седло! Орудие мигом не перенесешь с места на место, так что мы будем знать, где они. Моего коня тоже сюда!
Второе ядро ударило почти в центр круга, убив двоих возчиков и разметав один из костров, так что занялась и вспыхнула ближайшая телега.
– В седла! – закричал Станислав. – Две телеги – в стороны! За мной!
Весь ужас своей ошибки он осознал, лишь когда они уже проносились по узкому проходу, освещенному кострами и еще больше – полыхающей телегой. Целый водопад стрел рухнул на них, причем, как видно, с очень близкого расстояния. Покуда все их мысли были заняты лишь пушкой, с другой стороны неслышно подобрались человек двадцать разбойников и спокойно дождались, пока всадники окажутся как на ладони…
«Смелость главное в битве! В осаде главное – терпение! – вспомнились ему слова гетмана Жолкевского, знаменитого полководца, учителя самого Ходкевича. – Если враг хитрее тебя, твоя смелость тебе не поможет…».
Пан Жолкевский был прав. Но сейчас его наука уже не могла пригодиться.
«Да и догадайся я выждать, – утешил себя Станислав, – ничего бы это не изменило: они просто разнесли бы нас своей пушкой!»
Это была последняя мысль перед провалом в черную пустоту.
Когда же он очнулся, то ощутил такую страшную тяжесть, будто на него свалили груду камней. Открыв глаза, понял, что его придавил убитый конь. Они оба лежали рядом с одним из костров, тех, которые горели с внешней стороны гуляй-города. Должно быть, в костер подбросили еще дров – он пылал теперь куда ярче, и пан Шокальский, с трудом приподняв налитую болью голову, увидал в рыжем трепещущем свете неподвижные темные фигуры на снегу и каких-то людей, которые деловито перебирали поклажу на одной из телег.
– Все то же, что и до того, – произнес один из разбойников (само собою, по-русски), – Мука, окорока копченые, лук вон, на той телеге… Пищали да пистолеты еще. И вино есть.
– Вина не пить! – скомандовал властный и неожиданно высокий голос. – С собой берем один бочонок. Хлеба и мяса тоже, сколь потребуется. Оружие отбери ты, Прохор – что нам еще надобно, да кого чем наградить, если есть ценное. Остальное – в Нижний отправим. А съестное, что нам за неделю не съесть – все раздаем по селам.
– Может, поболее оставить? – несмело возразил кто-то из полутьмы. – Кто знает, через неделю возьмем ли еще обоз?
– Скорее всего, что не возьмем, Селиван, – высокий голос выдал некоторую досаду. – Уже этот обоз они специально готовили, вон какую охрану приставили! А со следующим, чаю я, целую хоругвь пошлют, как, помнишь, на прошлой неделе с одним обозом шла. Так что здесь покуда поостережемся промышлять. Найдем иные места, где ляхов стричь удобно. А все лишнее, как и прежде – люду окрестному раздадим. Не за тем воюем…
Ротмистр испытывал единственное желание – вновь лишиться сознания. Боль становилась невыносимой. Болела голова, огненный жар разливался от бедра, по животу и проникал в грудь. Невыносимо давила конская туша, к тому же конь еще бился в агонии, и каждое его движение причиняло раненому новую муку. Однако то, что он услышал, слишком его поразило, и Шокальский сумел еще чуть выше приподнять голову.
Тот, чей голос он слышал, явно атаман разбойничьей шайки, сидел на ближайшей телеге, вертя в руках пистолет с насечкой. У его ног неподвижно застыл белый волк, вблизи показавшийся еще более огромным и особенно страшным в своем невероятном спокойствии: рядом с ним ярко пылал огонь, вокруг сновали люди, а он был невозмутим. Атаман погладил его большую лобастую голову, и снова страшный зверь оскалил громадную пасть, точно смеясь от удовольствия. Правда, вблизи стало видно, что есть в этом звере-призраке нечто не совсем волчье: форма ушей, тяжелый загривок, слишком массивные лапы, – все это скорее подходило бы собаке, но таких собак, как и таких волков, пан Шокальский в своей жизни не видывал.
Однако куда больше, чем этот странный зверь, его поразил человек, у ног которого так величаво и доверчиво улегся белый волк. Пламя костра ярко освещало атамана разбойников, и ротмистр, не веря себе, думая, не сходит ли с ума, понял, что это… женщина!
Да, сомнений быть не могло, тем более, что она даже и не рядилась мужчиной. Точнее, ее одежда представляла собой прихотливое соединение женских и мужских вещей. Широкая, но довольно короткая казачья юбка, из-под которой на поларшина выступали ноги в высоких сапогах, черный, с золочеными шнурками кафтан, тулуп, подбитый лисьим мехом, широко распахнутый, будто женщине было жарко после отчаянной схватки. На поясе – еще один пистолет и сабля. На голове – лисья шапка, из-под которой на грудь атаманши опускались две толстые, перевитые шнурками, светлые, будто лен, косы.
– Василиса! А ведь ротмистр-то живой! – крикнул один из разбойников, кивая в сторону Шокальского. – Его лошадь подмяла. Дострелить?
– Ротмистр? – звонкий голос дрогнул от ярости. – Сперва тащите его ко мне. Может, что дельное расскажет.
Когда руки двоих разбойников выдернули его из-под туши коня, Станислав вновь потерял сознание и очнулся от резкой оплеухи наотмашь, которой наградила его легкая женская ручка. Склоненное к нему лицо под лисьей шапкой было, как он с удивлением понял, очень красиво. Но в голубых, будто незабудки, осененных золотистыми ресницами глазах (подобные, как он прежде думал, бывают только у лесных фей!) светилась такая жаркая, такая неистовая злость, что от нее становилось жарко.
– Что тебе приказал Ходкевич? – спросила Василиса, когда мутный взгляд раненого прояснился.
– Приказал перебить вашу шайку и, если получится, привезти пленных, – ответил ротмистр, попытавшись и до конца не сумев придать голосу твердость. К тому же он вдруг поймал себя на том, что стал забывать русские слова. Проклятая боль в голове!
– A-а! Ну и как? Получилось?
Ее смех был, пожалуй, страшным. Женщины так не смеются.
«Ведьма? – с трепетом подумал Станислав. – Наверное, так и есть! Не то как могут мужчины, да еще, судя по всему, казаки, слушаться ее беспрекословно? Даже добычу отдавать крестьянам, когда она приказывает… Это когда же разбойники с кем-то делились добычей? А этот зверь, что, будто собачонка, лежит у ее ног?..».
– Как твое имя? – спросила атаманша, перестав смеяться. – Поминать не станем, но хотя бы запомним.
– Я – ротмистр Станислав Шокальский, командир второй кавалерийской хоругви.
Назвав свое имя, он понял, что, видимо, совершил что-то ужасное. Лицо женщины сперва побелело как полотно, затем вдруг вспыхнуло огненным румянцем, а в глазах появилось нечто такое, от чего ротмистр, уже смирившийся с неизбежностью своей гибели, испытал настоящий ужас.
– Ты?! Ты – Шокальский? – она вдруг охрипла, соскочила с саней, и тотчас, глухо зарычав, вскочил и весь напрягся белый волк. – Ты был полтора года назад в Смоленске? Ты брал город с армией Сигизмунда?!
– Да, – он понимал, что сказать «нет» будет не только трусливо, но и совершенно бессмысленно.
– Господи Иисусе Христе, сыне Божий, благодарю тебя!
Василиса вдруг рухнула на колени прямо в снег и широко осенила себя крестным знамением, подняв кверху горящее лицо. Но выражение его при этом было совсем не благочестивое, и молитва прозвучала скорее, как вызов Небу, но не как благодарность Ему.
Атаманша поднялась, повернулась к сгрудившимся вокруг мужчинам (теперь Станислав рассмотрел, что их около двадцати пяти человек и одеты они по большей части действительно, как казаки):
– Прохор! Здесь рядом рощица есть. Срубить там деревце, чтоб толщиной с руку было. Палку сделать в полторы сажени. Конец заострить.
– Для чего? – слегка опешил Прохор, явно впервые получивший такой приказ.
– Для того, что сейчас мы господина ротмистра на кол посадим!
– На кол?.. – совсем растерялся подручный.
– Сказано, на кол! Выполнять! Что, не ждали, что я и так воевать умею?!
– А чего? Давно пора! – подал голос один из разбойников. – Эти ляхи у нас на земле чего только не творят. А башку ему опосля отрежем и князю Пожарскому в мешке отошлем вместе с ихними же пищалями да пистолетами. В подарок, значит…
Шокальский попытался сохранить ясность мыслей, но это не получалось. Умереть он уже приготовился. Но принять ТАКУЮ смерть…
– Послушайте, пани!.. – как ни странно, именно теперь в его голосе прозвучала некая твердость. – Если вы помогаете ополчению князя Пожарского, то, выходит, ведете с нами войну. А на войне не полагается проявлять лишнюю жестокость и применять к пленным пытки, кроме как для получения ценных сведений…
Лицо Василисы, и без того пунцовое от ярости, вспыхнуло, кажется, еще ярче. Она с трудом перевела дыхание:
– Вовремя вспомнил, лях! А помнишь ли смоленского воеводу Михайлу Шейна?! Ведь ты брал его в плен!
– Я, – по крайней мере, теперь он начал понимать, что происходит. – Я, пани. Но не я приказал затем применить к нему пытки. То был приказ короля. Я в этом не участвовал.
Она стояла над ним, сжав кулаки, прекрасная и страшная, как языческая богиня гнева. Откуда-то появился Прохор с двумя казаками – они тащили толстую березовую палку, заостренный конец которой в свете костра казался окрашенным кровью. Ее вид придал Станиславу, готовому вновь потерять сознание, новые силы.
– Если вы, пани, хотите отплатить за суровость в отношении смоленского воеводы, то мстить нужно не мне. Я имею право на обычную смерть.
– Не имеешь! Именно ты потом вез Михаила в Литву, скованного, в деревянной клетке, узкой, где нельзя было лечь! Ему даже ран не перевязали. И он умер! А теперь тебе придется за это отвечать! На кол его!
С двух сторон Шокальского подхватили крепкие руки, кто-то грубо рванул с него пояс.
– Стойте, пани! – крикнул он. – Еще минута… А если я вам скажу, что Михаил Шейн не умер?
Взмах руки, и казаки, державшие ротмистра, приподняли его выше, почти поставив на ноги, лицом к лицу с Василисой.
– Не умер? – ее голос вновь был необычайно звонок и, наконец, задрожал. – Ты лжешь!
– Не лгу, и Бог тому свидетель, – отчаянным усилием Станислав вырвал правую руку из крепкой хватки Прохора и перекрестился. – Да, я отправил королю сообщение о смерти воеводы, но сделал это, чтобы скрыть свое преступление. Возле самой границы Литвы мою хоругвь, которая сопровождала пленного и обоз с нашими ранеными, догнала женщина… Сказала, что она – мать воеводы, хотя я не очень поверил: она показалась мне слишком молодой. Она долго уговаривала меня, отдала сверток, в котором было золото: несколько колец, серьги с бриллиантами, ожерелье. И я не удержался! Я видел, что пленник действительно может не доехать живым – он потерял много крови. Хотя раны ему мои солдаты перевязали, я сам приказал. И я позволил этой женщине его забрать. Она сняла воеводу с телеги и на руках донесла до другой, той, на которой приехала. А у нас в обозе как раз в ту ночь умер раненый. По возрасту, фигуре, по цвету волос он мог сойти за Шейна. И я его приковал в той же клетке. Двоим стражникам заплатил, чтобы молчали. И все сошло, никто ничего не заподозрил…
По лицу ротмистра струями стекал пот, он готов был снова лишиться сознания.
Но мокрым от пота стало теперь и лицо Василисы.
– И куда Алё… куда та женщина его повезла?
– Помилуйте, пани, да разве бы она мне сказала?! Она поехала, разумеется, назад – не в Литву же… Возможно, потом смоленский воевода и умер, однако именно я дал ему возможность выжить.
– Еще раз поклянись, что говоришь правду! – прошептала Василиса.
– Клянусь спасением души!
У женщины вырвался то ли вздох, то ли стон, и вдруг она пошатнулась.
– Да, если ты и спасешь свою поганую душу, то только потому, что сделал это, хотя бы и отобрав у вдовы все ее украшения.
– Она мне сама отдала. И не задаром же, пани, я должен был рисковать головой! Представьте, что сделал бы со мною король, если бы узнал?
Несколько мгновений красавица-атаманша молчала, опустив голову. Потом вновь подняла глаза к невидимому во мгле небу, но на этот раз выражение ее лица было не таким, как пару минут назад. Смятение, робкая надежда, почти смирение были в ее взгляде. Она опять перекрестилась и едва слышно шепнула:
– Прости меня, Господи! Или покарай за все грехи, но только пускай это будет так!
Потом Василиса повернулась к казаку, что держал на весу березовый кол, вырвала длинную и толстую палку, размахнулась ею, будто прутиком, и отшвырнула далеко в сторону.
И снова взглянула в лицо пленнику.
– Ну так вот что я тебе скажу, пан Шокальский!.. И трудно поверить в то, что ты сказал, но я поверю, потому как иначе не могу, не смогу… Ты станешь первым ляхом, кого я оставлю в живых. Если, конечно, твои раны не смертельны. Думаю, нет – ни в сердце, ни в спине, ни в горле у тебя стрел не было. Эй, Прохор!
– Слушаю, Василиса! – он тотчас возник рядом, кажется, отчаянно радуясь, что грозная повелительница не исполнила своего страшного намерения.
– Коня приведи, живо. И помогите пану ротмистру на него сесть.
Спустя минуту, когда Станислав с трудом утвердился в седле, Василиса взяла коня под уздцы и сама вывела на дорогу.
– В деревню, что позади в трех верстах, не заезжай! – проговорила она, уже не глядя на ротмистра. – Там тебя мужики точно на кол посадят. Гони прямо в Тверь, с дороги не сворачивай. Часа через три рассветет, не собьешься. А там вскоре и ваши разъезды покажутся, их окрест Твери много шатается. И скажи своему пану гетману, что скоро он побежит из земли русской, как заяц от борзых! Он и сам, небось, это чует, да спесь ляховская ему ум застилает. Понял, что сказать надобно?
– Понял.
– И, покуда жив, молись за раба Божия Михаила! Пошел!
Она хлопнула ладонью по крупу коня, и тот галопом помчал по дороге.
Глава 6. История воеводы
– Так сколько же лет ей, матушке твоей? Я, увидав ее, сперва подумал, будто она годами ровня со мною, а не то так и моложе.
Этот вопрос Хельмут Шнелль задал, не отрываясь от своей работы, а занят он был тем, что аккуратно чистил внутренность большого бычьего пузыря. Второй, уже вычищенный, лежал рядом с ним на скамье.
Они с Михаилом сидели в одной из верхних светелок терема, которую со вчерашнего дня занимали вдвоем. Дядя молодого воеводы, бывший стрелецкий сотник Демьян Басаргин, год назад приютивший у себя сестру, ныне был в отъезде. Старые раны все чаще напоминали ему о себе, и он отправился в паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, желая исповедаться игумену Дионисию, который его хорошо знал, да заодно полечиться монастырскими травами. Это было на руку Михаилу – он верил материну брату, но вовсе не желал тревожить старика своим появлением и, тем паче, рассказывать ему, для чего вдруг объявился в Москве.
Терем Басаргина сильно пострадал во время прошлогоднего пожара, а восстанавливать его не было ни сил, ни денег. И хотя снаружи повреждения были не особенно заметны, часть внутренних помещений все еще оставалась выгоревшей, мало пригодной для жилья. Поэтому Алёна Елисеевна велела ключнице Марфе поселить сына вместе с его товарищем в своей светелке, а сама временно перебралась в светелку брата.
В то время, как Шнелль возился с бычьими пузырями, Михаил тоже не терял времени даром: пристроившись возле кованого сундука и расстелив на нем лист бумаги, он, сердито нахмурив брови, чертил какие-то одному ему понятные линии и завитки. Впрочем, приглядевшись, любой хотя бы чуть-чуть сведущий человек мог понять, что рисунок постепенно превращается в достаточно четкий план какого-то, судя по всему, огромного здания.
Услыхав вопрос немца, молодой человек рассмеялся:
– Хоть бы кто один когда-нибудь догадался о матушкиных годах! А ведь сколько у нее было горя-то… Сорок два ей нынче сравнялось, Хельмут.
– Сорок два?!
– Ну да. А как иначе? Ты же знаешь, что мне двадцать семь. Ее замуж выдали четырнадцати лет от роду. У бояр обычно так рано не выдают, да отец мой, Царство ему Небесное, боярин Борис Шейн, очень уж хотел ее в жены получить поскорее, и окольничий Елисей Басаргин не отказал – они большие друзья были. Отцу тридцать восемь минуло, он уже вдов тогда был не один год. Повенчались, потом я родился. А спустя год батюшка мой с лошади упал и насмерть зашибся. Меня брат его младший, Николай, растить помогал.
– Ну и, как я посмотрю, неплохо вырастил! – заметил Шнелль, аккуратно протирая внутреннюю поверхность пузыря кусочком меха.
– Да, – кивнул Михайло, – я очень ему благодарен. И грамоте меня обучили, и в науках кое-что смыслю. Он же, боярин Николай, со мною и германским наречием занимался – ему в ваших землях два раза послом быть случалось. А с двенадцати годов приучил он меня к ратному делу, тоже, видишь, не без пользы. Я ж себе воеводство не родством и не богатством – саблей добывал. Где только сражаться не приходилось! В одной сече Господь помог избавить от гибели царского воеводу, боярина Мстиславского. Слыхал, может?
– Слышал.
– Ну вот. Это жестокая была сеча – возле града Добрыничи, когда Гришка Отрепьев едва было верх не взял, да Господь не попустил. Тогда я славно рубился, и за то меня в окольничие пожаловали. А мне тогда и двадцати годов не сравнялось! Потом я с Гришкой и с его ворами бился под Новогородом-Северским. Затем прочих воров да бунтовщиков усмирял, Москву защищал. Пять лет назад в государевом походе [35]35
Государев поход – поход войск царя Василия Шуйского против армии очередного самозванца, объявившего себя «царевичем Петром» (1607 г.).
[Закрыть]был при самом царе Василии. А как Тулу отвоевали, он меня на воеводство в Смоленск и отправил. Я туда с собою матушку взял – из ее родни в живых один Демьян Елисеевич, хворый да увечный, и оставался, а отцова родня нас не сильно любила. Там, в Смоленске, я почти четыре года воеводствовал, два года от ляхов поганых отбивался, среди коих в то время и ты был…
Германец еще ниже склонил голову, сделав вид, что усиленно оттирает последние жирные пятна с пузыря. Потом посмотрел в глаза Шейну:
– К кому нанимался, среди тех я и был, Михайло. После того времени и стал ненавидеть ляхов. Но тогда я не понимал… Не понимал, как это вы бьетесь насмерть, когда и биться уже не за кого, когда царя Василия уже свергли и окрест – одна смута да измена. Но вы бились, покуда было, кому биться! Я этого не понимал.
– А теперь понял? – Михаил провел на бумажном листе последнюю линию, отложил перо и старательно присыпал свой чертеж песком из бронзовой песочницы.
– Теперь, кажется, понял. Послушай, но ведь ты говорил, что женат был, что дети были. И что же с ними сталось?
Воевода пожал плечами. Даже взгляд его остался ясным, не выдав боли.
– Ну, а что сталось? Надеялся я их спасти, да вот спас только мать со старшим сыночком. Если ты участвовал в последней осаде, то помнишь, как мы взрывали пороховые погреба.
– О-о! Еще бы не помнить! Половина ляхов и наемников, что ворвались наконец в ваш славный город, украсили его разрушенные стены и дома своими потрохами… А уж грохотало так, что я едва не оглох.
– Ну так вот, – Михайло аккуратно сдул с чертежа подсохший песок и еще раз придирчиво осмотрел свое произведение, – так вот, когда взорвался один из погребов, что в самом центре, возле оружейных мастерских был, рухнула одна из стен Успенского собора. Люди там были, молились, иных насмерть зашибло. Там тогда и матушка моя молилась. И когда стена упала, она увидала, как в одном из углов ниша открылась, а внизу ее – лаз с лестницей. Алёна Елисеевна нраву не робкого – она туда, в лаз этот, заглянула, спустилась даже немного и сразу уразумела, что он куда-то далеко ведет. Прибежала в Коломенскую башню, где мы с остатками рати укрепились (поляки туда еще не подступили), и все мне рассказала. А со мною жена была, Ефросиния, беременная, на сносях, сын двухгодовалый, да еще у двоих ратников там же, с ними, жены и дети были. Ну, я матушку и попросил: «Ради Христа, возьми Фросю, Алешку и этих двух женщин с детьми, да и бегите из города поскорее! Сам я знаю, что не спасусь, но жену и чад моих спаси!».
– Откуда же ты знал, куда ведет тот подземный ход? – удивленно спросил Хельмут, слушавший товарища с напряженным вниманием. – Может, он бы никуда и не вывел?
Михаил усмехнулся:
– Все могло быть, да ведь иного ничего не оставалось. Я не верил, что поляки помилуют мою семью – не в их это шакальих душах, они мстить любят! А про тот ход в городе много слухов ходило: сказывали – он давно был прорыт и за городские стены вел, да потом его замуровали. Так, кстати, и оказалось – Алёна Елисеевна с женщинами вышла из-под земли далеко от города. Стали они пробираться к ближайшему селу. А тут у Ефросинии роды начались – думаю, на месяц раньше разрешилась! Сын, которого родила, тут же и помер, а она к утру кровью истекла, ничего поделать не смогли… Алешку матушка спрятала в деревне, в семье одной, которую, живя в Смоленске, хорошо узнала – люди они добрые, по-настоящему православные. А сама добыла телегу с лошадью, да и пустилась за ляхами, меня выручать. Подкупила ротмистра, он и подменил меня в клетке на мертвого ляха – с ними ведь еще обоз с ранеными ехал, один из них той ночью помер. А ляхи до золота народ жадный! Ротмистр, небось, решил, что мне все одно не жить – живого места не было, вот и разжился вдовьим добром. Так мы с Алёной Елисеевной и сбежали. Но кабы не ты, пропадать бы нам с нею обоим. Вот и все.
Лицо Хельмута выражало в эту минуту ярость, смешанную с презрением.
– Schweine! – прошептал он, – Schmutzigen Schuften! [36]36
Свиньи! Грязные подлецы! (нем).
[Закрыть]
И тут же задал новый вопрос:
– А где же сейчас твой сын? Алеша?
– В Троице он, куда и материн брат поехал, – задумчиво проговорил Михйало. – Там безопасно. По крайней мере, безопаснее, чем в других местах. Там матушка и меня до поры до времени укрывала. Потом сына оставили и хотели у родни пристанища искать. Но Николы Шейна на ту пору в живых уже не было, а прочая родня моего отца нам помогать отказалась – они и признавать меня не захотели.
– Это как?!
– А так вот. Матери сказали: «Быть того не может, чтоб Михаил жив остался. До нас слух дошел, что король Сигизмунд его казни предал!»
– Был такой слух, – кивнул немец. – Возможно, даже чванливый монарх и впрямь приказал мертвеца прилюдно обезглавить, точно тот был еще жив! Вот, мол, как я непокорных наказываю! Так что, может, и не ложь это.
– Скорее всего, – согласился Михайло. – Правда, по другим слухам я и до сих пор в польском полоне. Ну, а у моего отца ведь и от первой жены сыновья остались, так для чего им было делить со мной и с матушкой оставшееся добро, да и отцово имя? Они матери и мне прямо на двери и указали: «Мало ли, кто на нашего родственника лицом похож, нынче от самозванцев житья нету!» Решили, видно, что Алёне Елисеевне денег от них надобно! А так – меня нет, значит, ей ничего и не полагается… Ну, и как? Намного ли они краше ляхов?
Он засмеялся, а Хельмут в ответ выразительно скривил рот, как обычно делал, показывая безразличие либо досаду:
– Со мной произошло нечто очень похожее, так что тут можно не сравнивать русских с ляхами или с германцами. Люди – они и есть люди! Но про себя я тебе как-нибудь потом расскажу. Вижу, что твой рисунок готов. Пузыри тоже готовы. Теперь ты мне, наконец, расскажешь, что задумал?
– Расскажу. Только сперва прочти-ка. Ты ведь по-русски и читать умеешь, так?
– Умею.
Развернув поданный Шейным небольшой свиток, Хельмут довольно бегло прочитал вслух:
«Братья и сестры! Люди русские, православные!
Чада мои!
В сие тяжкое время трудно крест свой несть всем нам. Заполонили землю нашу святую враги Руси Православной, топчут ее и тщатся соделать своей вотчиной.
Нет ныне у Руси Государя, оплота и надежи для всякого русского, а развелась повсюду смута, и в горести иные ослабели сердцем и целуют крест иноверцу, а кто еще, в прелесть впав, сыну «вора тушинского» служить готов.
Но не может быть на Руси иного Государя, кроме как Государя православного, Богом данного. И пока Господь не послал нам его, надобно ждать и молиться о прощении наших грехов и прекращении смуты. А в сердце быть твердыми и не прельщаться посулами лукавых врагов наших, потому как без Веры Православной не быть и Земле Русской.
В тяжкие эти дни молюсь лишь об избавлении Святого нашего Отечества и спасении русских людей и душ их!
Обо мне же не печальтесь, братья и сестры, и не плачьте, коли узнаете о моей кончине, ибо если она мне в скором времени суждена, то прииму я ее спокойно, с верою в сердце и с молитвою за Русь Святую.
С нами Бог!»
Под грамотой стояла подпись, прочитав которую, немец изумленно вскинул глаза на Михаила:
– Патриарх Гермоген?! Но откуда эта грамота? Ведь он давно уже в заточении, в Чудовом монастыре, и к нему никого из русских не допускают!
– Это правда, – кивнул Шейн. – Однако нашелся отважный монах, один из духовных сыновей владыки Гермогена, который умолил допустить его к узнику Это было несколько дней назад. Он рисковал жизнью, вынеся грамоту за стены Кремля. Ее уже много раз переписали и сейчас распространяют среди москвичей. Монах же сказал, что Владыка совсем ослабел, видно, ему перестали давать пищу, надеясь, что дух его ослабнет. Однако духом он лишь крепнет и все так же зовет русских противиться польскому завоеванию.
– Поразительный человек! – поговорил Шнелль задумчиво. – Ведь он уже так стар… И такая сила!
– Если мы, русские, допустим, чтобы духовного отца Всея Руси уморили голодом в темнице, мы будем недостойны Божией милости! – голос Михаила против воли задрожал. – Мы не должны допустить этого!
Теперь Хельмут понял, отчего его новый товарищ, полностью доверившись ему, приведя его даже в дом к своей матери, так долго не доверял главного – цели своего появления в захваченной врагами Москве.
– Так ты?… – он вскочил со скамьи и в волнении даже прошелся взад-вперед по светелке. – Ты здесь для того, чтобы?..
– Не я первый! – воскликнул воевода. – Князь Пожарский посылал уже нескольких человек, чтобы попытаться вызволить владыку из темницы и увезти из Москвы. Они приходили один раз вдвоем, другой раз втроем. И все погибли, потому что поляки стерегут Патриарха, как самого страшного своего врага. Он и есть самый опасный для них человек во всей нашей земле! Для них и для изменников-бояр, что готовы Русь ляхам продать, лишь бы при них свой кусок сохранить. Я вызвался прийти сюда потому, что кроме меня никто больше не знает на память всех ходов и выходов внутри Кремля. Я как-то составлял его план по поручению Государя, потому что этому тоже обучался. А память у меня отменная, вот я все и запомнил. И еще: никто, кроме меня, не найдет тайного хода, по которому можно проникнуть внутрь и оказаться почти возле самой темницы, где заточен Владыка… Поэтому князь Пожарский позволил мне отправиться сюда, хотя вначале и боялся: могут найтись поляки, которые вдруг да вспомнят мое лицо!








