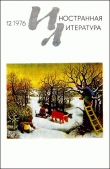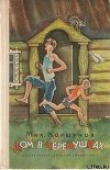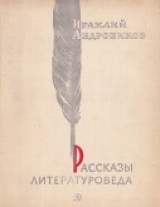
Текст книги "Рассказы литературоведа"
Автор книги: Ираклий Андроников
Соавторы: Орест Верейский
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Разговор с Марбургом
Следующий день начинается для нас в Мюнхене с посещения антиквариата.
Просторный зал с зеркальными витринами, обведенный книжными полками. В простенках – старые гравюры, репродукции работ Пикассо.
Выходит «прокурист» фирмы, ее представитель, – респектабельный, очень осведомленный. Через минуту мы уже знаем: автограф баллады «Гость» ушел за границу, в Женеву и, кажется, дальше – за океан. Кто купил? На это он ответить не может: фирма сохраняет тайну своих клиентов. Другой автограф ушел в Марбург. В данном случае фамилия может быть названа, потому что купивший его господин Штаргардт сам владелец известной аукционной фирмы. И выставлял этот лермонтовский автограф для продажи в 1954 году…
– Можно ему позвонить, – говорит прокурист херр Хартунг. – Платите в кассу стоимость разговора, а я наберу Марбург…
Господин Штаргардт словно ожидал нас с нашим вопросом:
– Автограф французского стихотворения Лермонтова попал в Бад-Годесберг. Если вас интересуют автографы Пушкина, то фрагмент «Капитанской дочки» ушел в Лондон. Рисунок Пушкина приобрел коллекционер из Вены. Вы можете прислать по моему адресу письма к моим клиентам – без обращения по имени: «Уважаемый господин! Не могу ли я получить фотографию с принадлежащего вам автографа Лермонтова?..» Я перешлю эти письма сам. На двенадцатое ноября, – торопится сообщить нам наш марбургский собеседник, – назначен ежегодный аукцион. Из русских автографов я выставляю: неизвестное письмо Гоголя, неизвестные письма Тургенева и Максима Горького, альбомную запись Рубинштейна и сочинение Рахманинова. Приглашаю вас к участию в аукционе. Могу резервировать для вас место в гостинице. Я ожидаю коллекционеров из многих стран, в частности из Соединенных Штатов. Я сегодня же вышлю вам свои каталоги на адрес посольства…

Рисунок Лермонтова.
Таким образом, мы с Ивановым и Кишиловым получили гораздо больше того, что могли ожидать, а узнали такое, чего не могли и предвидеть.
Остается побывать в замке Хохберг.
Замок, откуда все началось
Снова мчимся по автобану, ночуем под Штутгартом, в местечке Берн– хаузен, в крошечной гостинице «Шванен» («Лебеди»), каких в Западной Германии множество – три окошечка по фасаду, старые деревянные кровати в крошечных номерах, старые гравюрки в старинных рамках…
С утра продолжаем путь.
Предки барона Хюгеля выбрали славное место: судоходный Неккар, зеленые луга, дали, живописные городки и селения. Местечко Хохберг раскинулось на высоком холме. Над ним поднимаются башни древнего замка.

Замок Хохберг.
Ищем оберлерера Штренга. Из школы идем в приватный дом, оттуда – в другой. Нашли. Оберлерер дает урок музыки шестилетнему мальчугану. Узнав, зачем мы приехали, предлагает ребенку играть упражнения, покуда он не вернется, гладит его по головке и ведет нас туда, где жила Верещагина.
Он отслужил свой век, старый замок! В год, когда распродавалось имущество, окончилась в нем прежняя жизнь. Его разделили на квартирки и комнаты. Новые жильцы привезли с собой новые вещи. И только в проходных помещениях можно увидеть остатки былого: на подоконнике – мраморный бюст военного в немецких орденах, который никто не купил; на стене – старинную фарфоровую тарелку, под лестницей – выцветшую гравюру…
Много картин с аукциона приобрел владелец соседней виллы, господин Хоршер. Учитель ведет нас на виллу. Предупреждает: управляющий покажет нам только те вещи, которые висят на лестнице и украшают холл виллы. Самое ценное заперто в комнатах. Как знать: может быть, туда и попало случайно какое-нибудь полотно Лермонтова?
Управляющий объясняет, что его хозяин живет в Испании, сюда приезжает раз в году, в день рождения покойной матери.
– Если прибудете двадцатого июля утром, вы сможете увидеть его и попасть в его комнаты. Писать ему надо в Мадрид, в ресторан Хоршера, самому господину Хоршеру.
Выходим. Выясняется, что господин Штренг пишет историю замка и населенного пункта Хохберг, изучил родословия, собрал обширный исторический материал, снимки со старых портретов. Если у нас есть время, он бы хотел отвести нас к себе – он живет отсюда в нескольких километрах.
…Сидим, попиваем рейнское вино, я проглядываю переписанные на машинке главы «Истории», посвященные Верещагиной-Хюгель, вношу какую-то незначительную поправку. В свою очередь получаю несколько уточнений относительно Верещагиной и ее немецкой родни.
Господин Штренг достает каталог вещей, продававшихся в замке Хохберг. В нем перечислены мебель, мрамор, ковры, фарфор… К сожалению, книги, картины, рисунки означены только суммарно, без указания названий и авторов. Господин Штренг готов согласиться со мной: вероятно, Верещагина получила в подарок от Лермонтова его роман «Герой нашего времени» и книгу стихов. А раз так, на них были надписи. В этом случае книги могли уйти прежде, чем на аукцион приехал профессор Винклер. Фирма, которая проводила аукцион, была в Штутгарте: это «Кунстаукционхауз» Пауля Хартмана. Каталог выпущен им. Но, кажется, эта фирма во время войны закрылась. Однако если в Штутгарте позвонить в аукционаты, то можно будет узнать, кто стал преемником Хартмана…
– Я думаю, вам придется приехать в ФРГ еще раз, – обращается ко мне Иванов.
– Если хотите, можете поручить это нам, – предлагает Кишилов.
– До скорой встречи! – говорит Виллем Штренг. – Желаю вам найти сокровища нашего замка все до единого!
История, начавшаяся в 1836 году, еще не окончена. За одним фактом открывается десять других. А раз так, будем надеяться, что верещагинские материалы еще не исчерпаны и мы еще вернемся в эти места.


ЧУДЕСА РАДИОTЕЛЕВИДЕНИЯ
Находка от находки
Командировка в Западную Германию завершена. Лермонтовские материалы, полученные от профессора Винклера, привезены в Москву. Рисунки и картина поступили в Литературный музей, автографы, как условлено, – в Рукописное отделение Библиотеки имени В. И. Ленина. Туда же переданы на хранение фото с автографов, которые принадлежат господину фон Кёнигу. Мне предстоит сделать отчет о поездке – сперва в Министерстве культуры СССР, а потом и по телевидению.
…Сижу перед камерой в студии, поднимаю со столика лермонтовские реликвии одну за другой.
– Вот, – говорю, – акварельный автопортрет. Лермонтов изобразил себя в бурке, на фоне кавказских гор. Это подлинник. До сих пор мы видели только копию.
Показал – отложил.
– А это – неизвестная картина Лермонтова. Арба спускается к реке, волов удерживает погонщик в островерхой грузинской шапке. А тут притаились горцы…
Показал – и убрал. Поднимаю портрет Верещагиной:
– Это фото со старинной литографии, на которой изображена Александра Михайловна Верещагина… Ей принадлежали все эти вещи, отыскавшиеся в Федеративной Германии. Фото подарил нам ее правнук – доктор фон Кёниг.
Показал и отложил в сторону.
Могу ли я знать, что происходит в это время в Москве, на Кутузовском проспекте, 11?
Нет, не могу.
Почему?
Потому что мне телезрителей не показывают.
Между тем на Кутузовском разыгрывается напряженная сцена.
Сидящая у телевизора восемнадцатилетняя художница Наталья Константиновна Комова вскакивает, хватает телефонную трубку, звонит своей бабушке Инне Николаевне Солнцевой, по мужу Полянкер. Бабушка живет в другом районе Москвы.
– Ты телевизор смотришь?
– Смотрю.
– Фотографию видела?
– Видела.
– Так ведь это портрет совершенно такой же, как тот, что висит в твоей комнате!
– Да, я тоже удивляюсь, такой же!
– Ну, так я тебя поздравляю: это не твоя бабушка, а Александра Михайловна Верещагина. А ты откуда ее взяла, литографию?
– Я вынула ее из альбома.
– Какого альбома?
– Нашего, старого…
– А где этот старый альбом?
– Господи! Что же ты у меня спрашиваешь, когда он у вас, на Кутузовском! За зеркалом посмотри.
Девушка бросается к зеркалу и достает огромный альбом 30-х годов прошлого века. Начинает листать и…
Обнаруживает карандашный рисунок с подписью: «М. Лермонтов» – неизвестный портрет какой-то молодой женщины.

Рисунок Лермонтова в альбоме Солнцевых.
На другой день Наталья Комова и брат, постарше ее, скульптор Олег Константинович Комов, приезжают ко мне домой с альбомом и окантованной литографией, изображающей Верещагину. Невольная ошибка Инны Николаевны Солнцевой разъясняется.
Ее появление на свет вызвало трагические последствия – мать умерла. Услышав об этом, отец новорожденной застрелился. Инна Николаевна воспитывалась без родителей. Ей было известно, что бабушка, мать ее матери, родом из Франции. И, увидев в альбоме старинную литографию с пометой «Paris», она окантовала и повесила на стену. Теперь уже ясно – это не бабушка, не француженка, а Верещагина-Хюгель. Но Инна Николаевна привыкла видеть это изображение и расставаться с портретом не хочет. Дело ее!
Интересуюсь, нет ли чего-нибудь за окантовкой, на обороте.
– Бабушка говорит, что нет, – отвечает Наташа Комова. – Но она давно не смотрела. Надо расколупать…
Повезли литографию «колупать» в Музей Пушкина.
Надписей нет.
Не менее интересен альбом, из которого вынута литография: стихи Пушкина, Веневитинова, Ростопчиной, Бенедиктова, французских поэтов: Ламартина, Гюго, Барбье… Списано чьей-то неизвестной рукою из книг. Но больше всего в этом альбоме Лермонтова. Есть рисунок с подписью Шан-Гирея, троюродного брата поэта, того самого, которого в 1838 году Лермонтов «таскает» за собою, по словам матери Верещагиной. На рисунке проставлен год: «1838». Кстати и портрет Верещагиной тоже 1838 года. Видимо, этого времени и альбом.
Чей?
Это пока неизвестно. Надо установить.
На одном из листов имеется запись:
Я буду любить вечно.
Буду помнить сердечно.
А… (подпись неясная).
А строчкой ниже – очень размашисто:
Очень нужно. Мария Ловейко.
Прочитав эту отповедь, обиженный обожатель взял перо и вставил отрицательные частицы «не». Получилось:
Я не буду любить вечно,
Не буду помнить сердечно.
И снова почерком Марии Ловейко приписано:
Да мне все равно, будете ли вы меня любить или нет.
В чужом альбоме никто не посмел бы заниматься такими писаниями. Очевидно, альбом и принадлежал этой Марии Ловейко.
Кто же она такая?
В одном из писем матери Верещагиной, посланном в Штутгарт из Петербурга в 1838 году, упоминается имя Ловейко и ласково: Машенька. Эта девушка живет у Столыпиных, которые переехали в Петербург. Комовы со своей стороны узнали, что Мария Ловейко – бабушка Инны Николаевны Солнцевой по отцу, жена владимирского помещика Ивана Солнцева. Им самим приходится прапрабабкой.
Итак, альбом прапрабабки. Комовы просят меня распорядиться им по своему усмотрению.
Я «усмотрел», что его хочет хранить музей села Лермонтово Пензенской области. Там он теперь и находится. И люди подолгу рассматривают этот рисунок, исполненный лермонтовской рукой.
Еще два
Но телевизоры не только в Москве. В Ленинграде передачу тоже смотрели…
Впрочем, прежде чем рассказать про главное, придется сказать и про то, что для дела совершенно не нужно. Как ни странно, но без этого ничего не получится!
Вскоре после той передачи по телевидению я собрался уезжать в Киев. Но перед этим должен был на один день слетать в Грузию.
В Москве, спускаясь по лестнице из квартиры, в которой живу, я запустил руку в распределитель для писем (он стоит на втором этаже, на площадке), сунул письма в карман и помчался во Внуково. Вечером выступал в Тбилиси, на другой день приезжаю в тбилисский аэропорт, чтобы отправиться в Киев.
Объявление: вылет откладывается.
Новое объявление: самолет, следующий рейсом Тбилиси – Ленинград, в Киеве посадку делать не будет. Пассажиров, купивших билеты до Ленинграда, просят пройти на посадку.
А я как же?
Протиснулся в кабинет к начальству. Узнал: сегодня я в Киев не попаду – нет погоды. А завтра – нет самолета. Может быть, послезавтра…
– Что же мне делать?
– Летите до Ленинграда. Попросите: вас перекинут оттуда на турбовинтовом или на обычном. А «ТУ» Киев не принимает давно.
Покупаю билет, лечу… Записная книжка с ленинградскими телефонами осталась в Москве. Попаду ли я завтра в Киев, не знаю. В тоске засовываю руку в карман, вытащил нераспечатанные конверты. Разрезаю: одно письмо ленинградское. Пишет научный сотрудник Института физиологии Академии наук СССР Антонина Николаевна Знаменская:
«Когда вы снова попадете в наш город, приезжайте на Васильевский остров, Средний проспект, дом № 30, кв. 4. Хочу передать Вам альбом, в котором нашла стихотворения Лермонтова…»
Радоваться рано. Может быть, это «Бородино», переписанное рукой гимназиста. Но воображение уже заработало, и верится, что это – увлекательная находка.
Звоню из гостиницы, от швейцара.
– Довольно поздно уже, – отвечает приветливый голос. – Но если вы улетаете утром, то приезжайте, я жду…
Приехал. Альбом в коричневом сафьяновом переплете с золотыми цифрами «1839». Золотой обрез. Английская плотная бумага.

Альбом А. Н. Знаменской.
Стихи, вписанные поэтами Вяземским, Ростопчиной, стихи Александра Карамзина и…
Лермонтов! Два стихотворения! Его рукой! Одно – известное: «Любовь мертвеца». Другое – известное лишь отчасти:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Тоскою желанья,
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья…

«Есть речи – значенье…». Автограф Лермонтова.
Вот эти строфы, первые две, известны. А три строфы неизвестны – первый вариант этого прославленного стихотворения:
Надежды в них дышут,
И жизнь в них играет…
Их многие слышут,
Один понимает.
Лишь сердца родного
Коснутся в день муки
Волшебного слова
Целебные звуки.
Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.
Лермонтов
Сейчас этот альбом в Пушкинском доме Академии наук СССР. История у него преинтересная. Принадлежал он, как удалось выяснить, молодой Марии Бартеневой, сестре замечательной русской певицы Прасковьи Бартеневой: Лермонтов встречался с ними в салоне Карамзиных. В 1917 году этот альбом принес продавать в антикварный магазин Дациаро на Невском проспекте господин, не назвавший своего имени, и купила альбом Александра Николаевна Малиновская. За ее племянника впоследствии вышла замуж Антонина Николаевна Знаменская. Но до того как он попал в руки Знаменской, его пришлось спасать из Воронежа в 1942 году…
Нет, телевидение – это просто какая-то «золотая рыбка». И не просишь – желание сбывается. А уж если обратиться к телезрителям с просьбой!..
Двадцать шесть советов
Павел Александрович Висковатов, который первым начал собирать материалы о Лермонтове и написал его первую биографию, многое собранное держал у себя. Что касается материалов, не принадлежавших ему, он вернул их по принадлежности, но как будто не все. То и дело в его книге встречаются примечания: «В настоящее время находится у меня», «Не премину передать в Императорскую Публичную библиотеку…».
Но не передал. И где находится это теперь, неизвестно.
В 70—80-х годах Висковатов еще встречал многих из современников Лермонтова, расспрашивал их про поэта, записывал… Но в книге своей имен он не называет, а чаще как-то неопределенно сообщает: «рассказывали нам…», «достоверно известно», «как довелось услышать…», «много называли и называют имен…» Но кто называл? Кого называли? Кто рассказывал? От кого довелось услышать?
Про это – ни слова.
Отчасти это понятно: в то время были живы родственники тех лиц, о которых шла речь. Кроме того, приходилось писать неопределенно из предосторожности политической. Между тем если б мы располагали архивом Павла Александровича Висковатова, то могли бы уточнить очень многое. Но, как нарочно, я ни разу не встретил страницы, писанной почерком Висковатова, если не считать копий лермонтовских стихотворений и помет ученого на лермонтовских рукописях и рисунках.
Поэтому спрашивать в архивах, куда я входил впервые, нет ли там хотя бы листочка, писанного висковатовскою рукою, стало для меня правилом.
Архив его я найти уже не надеялся. Он читал лекции по истории русской литературы в Дерпте (это город Тарту в Эстонии). До 1940 года архив никто не искал: Эстония находилась за пределами Советского государства. Когда же после войны я занялся этим делом, оказалось, что, прослужив в Дерпте свои двадцать пять лет, Висковатов переехал в столицу, стал директором одной из петербургских гимназий и умер в Петербурге в 1905 году.

Павел Александрович Висковатов.
И архив его нужно было искать в Ленинграде, где до блокады жила его дочь, Павла Павловна. После войны это оказалось делом уже невозможным.
И вот – это было в 1948 году – в Ленинграде. Я занимаюсь в Пушкинском доме, в рукописном отделе. На стол тихонько кладется какая-то папка. Раскрыл – листы, писанные рукой Висковатова. Довольно много листов: подготовительный материал к биографии Лермонтова. И в записях упоминаются даты, когда Висковатов слушал рассказы о Лермонтове людей, его знавших, и самые имена этих людей.
Спрашиваю у сотрудницы:
– Откуда это взялось?
– Это дар.
– От кого?
– Даритель не пожелал назвать имени.
– Но мне нужно знать это имя!
– Спросите у Льва Борисовича.
А надо сказать, что рукописным отделом заведовал тогда известный пушкинист Лев Борисович Модзалевский, сын пушкиниста старшего поколения – Бориса Львовича Модзалевского, о котором вы уже знаете.
Я – в кабинет:
– Лева, откуда это взялось?
– Я положил.
– Ты?
– Да, это история долгая… Сестра моего отца была замужем за племянником Висковатова – Василием Васильевичем. Архив цел. И перешел к этому Василию Васильевичу. Его фамилия тоже Висковатов. Я сам стремлюсь добраться до этих бумаг, но мне это сложно из-за родства. Между прочим, «твой» Висковатов взял на время из архива Академии наук массу неопубликованных документов, в том числе ломоносовские бумаги, и умер, не вернув их. И Василий Васильевич не отдавал.
– Кто этот Василий Васильевич? Где он живет?
– Да он уже умер – не то в тридцать шестом, не то в тридцать седьмом году. Жил в Москве. Был художником…
– А у кого хранились бумаги Павла Александровича, дяди? У Василия Васильевича?
– У Василия Васильевича были лермонтовские рисунки и какие-то рукописи лермонтовские, я думаю – копии… Архив сохранился. И я знаю примерно, где он находится. Должен обязательно его разыскать. Хочешь – вместе? Тебе, москвичу, это проще, чем мне. Если можешь, приходи ко мне вечером. Расскажу тебе все подробно…
– Я сегодня уезжаю в Москву…
– Ну, тогда до Москвы отложим. Я послезавтра еду туда, могу прийти к тебе, и мы решим, как нам действовать.
На том и расстались.
Через несколько дней я узнал, что, переходя по мосткам из одного вагона «Стрелы» в другой, Модзалевский погиб. Вместе с ним исчезла тайна архива.
Я начал искать один. Четырнадцать лет искал без всякого результата. Ни загсы, ни кладбища, ни адресный стол ничего не открыли. Ходил в Союз художников, во «Всекохудожник» – нет, не было у них Висковатова! Кого только не спрашивал про Василия Васильевича! Кого только не мучил!
Несколько лет назад решил я рассказать про Василия Васильевича по телевидению. А рассказав, попросил зрителей записать телефон студии или адрес и сообщить, кто что знает. К концу передачи дежурная передала список: «Двадцать шесть человек звонили, хотят вам что-то сказать!»
Через два дня я знал о Василии Васильевиче Висковатове больше, чем собирался узнать.
Он родился в 1875 году. Служил в Петрограде, в Государственном банке. В 1918 году вместе с Госбанком был эвакуирован в Москву. Продолжал работать на прежнем месте. Жил в Рыбном переулке, дом 3, квартира 12. В свободное время делал макеты для промышленных выставок: в Союзе художников не состоял. Умер при трагических обстоятельствах в 1937 году.
Стал я набирать номера телефонов, которые записала дежурная, и узнавать имена людей, видевших В. В. Висковатова в последние годы жизни, имена его соседей, знакомых. Вместе с Висковатовым жил Филипп Яковлевич Яковлев с дочерью Ниной. Знаком был Василий Васильевич с педагогом Владимиром Ивановичем Григорьевым, с братом его Петром. Знала его москвичка Вера Алексеевна Маслова; очевидно, в родстве состоял Петр Александрович Висковатов, живший на станции Саблино Октябрьской железной дороги. Работнику домоуправления Алексею Игнатьевичу Ланцову были переданы ключи от комнаты Висковатова и принадлежавшие ему вещи. Есть сведения, что двое – мужчина и женщина – приходили и взяли какие-то папки с бумагами.
Василию Васильевичу было бы сейчас много лет. Люди, с которыми он общался в то время, тоже принадлежали к числу не вполне молодых. С тех пор прошло много времени. Те умерли, другие уехали, иных не удалось разыскать. А ведь дело идет о Лермонтове!
И каковы были мои радость и огорчение, когда одна из родственниц Висковатова в разговоре по телефону сказала:
– Как жаль, что в ту пору, когда я приезжала в Москву и заходила к Василию Васильевичу, так была поглощена своими делами, что не заглянула в папку с рисунками Лермонтова! Ах, если б они только нашлись!
Они еще не нашлись. Но путь к этой находке наметился с помощью телевидения. Хотите еще примеры?