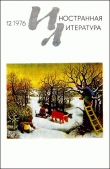Текст книги "Рассказы литературоведа"
Автор книги: Ираклий Андроников
Соавторы: Орест Верейский
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Ираклий Андроников
РАССКАЗЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДА



Ираклий Андроников
I
В справочнике Союза писателей кратко сказано, что Андроников Ираклий Луарсабович – прозаик, литературовед, и только. Если бы я составлял этот справочник, я раньше всего написал бы без всяких покушений на эксцентрику: Андроников Ираклий Луарсабович – колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в старину существовали подобные мастера и искусники. Но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что, едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников.
Люди, далекие от искусства, невежественные, называют это его мастерство имитаторством. Неверное, поверхностное слово! Точнее было бы сказать: преображение. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед нами. Сам он при этом исчезает весь без остатка.
Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях – то самое, что сказал бы о них покойный писатель. Стемнело. Андроников продолжал говорить, и, пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда засветили лампу и я обнаружил, что это не Алексей Николаевич, а Ираклий.
Мало того, что он точно передал голос писателя, колорит его речи, ее тембр, ее интонации, – он воспроизвел самую манеру его мышления.
Преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки – его жесты, его походку, его голос, – нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления и силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах; например, какую лекцию прочитал бы наш друг академик Тарле, если бы на Землю напали, например, обитатели Марса.
Среди созданных его творческой фантазией образов есть Борис Пастернак. Здесь Андроников весь, до последнего волоска, до мизинца, преображается в Бориса Леонидовича – со всеми внезапными взрывами его густого, гудящего баритона со множеством смысловых и эмоциональных оттенков, со всей его причудливой манерой обрушивать на собеседника лавину признаний, откровений, размышлений, предчувствий, догадок, надежд.
Восхищаясь магическим искусством Андроникова, я всякий раз убеждался, что он-то и есть главный химик в той волшебной мастерской, о которой некогда мечтал Маяковский, – о мастерской человечьих воскрешений. Вы помните в поэме «Про это»:
Рассиявшись.
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Все ушедшие от нас, незабвенные, навеки умолкнувшие поэты, музыканты, актеры, ученые – Остужев, Щерба, Штидри, Пастернак, Соллертинский, – все они магией творчества вновь встают из могил и дышат и беседуют с нами, живые, обаятельно милые, во всем своеобразии мельчайших духовных примет, и я, знавший их, могу засвидетельствовать перед нашим потомством, не испытавшим моего великого счастья, что воскрешенные Ираклием Андрониковым – в точности такие, какими они были в жизни.
Подумайте только: я знал несколько лет и любил замечательного нашего ученого и романиста Юрия Николаевича Тынянова. Что могу я сделать, чтобы почтить его память? Написать о нем статью? И только. Но ведь из этой статьи читатель получит приблизительное, смутное представление о нем, а Ираклий Андроников, идучи со мной по дороге, вдруг дернул шеей, взглянул на меня по-тыняновски и до такой степени превратился в Тынянова, что я чуть не закричал от испуга: это был живой Юрий Николаевич, пронзительно умный, саркастический, грустный и гордый, словно я и не присутствовал при его погребении.
II
Все эти редкие таланты Андроникова сказались и в его произведениях, конечно, не вполне, но отчасти.
Чтобы так возрождать к новой жизни давно отошедших людей, нужны не только памятливое, зоркое зрение, не только безошибочный слух, не только переимчивый, гибкий, обладающий сотнями тональностей голос, – нужно раньше всего проникновенное знание души человеческой, то, что прежде называлось сердцеведением.
Литературное творчество Андроникова почти так же самобытно, как и его лицедейство. Такого писателя до сих пор никогда не бывало. Как не похож он на других литературоведов, каких я знал в своей жизни! Знал я Семена Афанасьевича Венгерова, Павла Елисеевича Щеголева, Петра Осиповича Морозова, Мстислава Александровича Цявловского – благословенные имена, незабвенные труженики! – все это были раньше всего домоседы, отшельники, кабинетные люди, словно цепью прикованные к своим книжным полкам и огромным столам, заваленным грудами старинных фолиантов и рукописей.
А Ираклий Андроников, каким мы знаем его в последние годы благодаря радио, кино, телевизору, – это новый, небывалый тип литературоведа XX века: всегда на ходу, на бегу, вечно спешит с чемоданом то в Нижний Тагил, то в Георгиевск, то в Северную Осетию, то в Кабарду, то в Актюбинск, то в Штутгарт, то в Мюнхен, то в замок Хохберг, то в замок Вартхаузен, – литературовед-скороход, путешественник, странник. Бросает дом и семью и в вагоне, в самолете, на пароходе, в авто мчится без оглядки за тысячи километров ради старой бумажки, на которой сто двадцать или сто тридцать лет тому назад было начертано хоть несколько слов рукою Глинки, Василия Пушкина, Вяземского или безмерно им любимого Лермонтова.
И так жарок его интерес к этим неведомым строчкам, что кажется, узнай он, что одна из этих бумажек лежит на дне океана, он, ни секунды не медля, нырнул бы в океанскую пучину и вынырнул с этой бумажкой в руке. Или кинулся бы в кратер любого вулкана.
И что всего замечательнее: во время всех этих экспедиций и розысков он встречается с бездной народа, – с инженерами, советскими служащими, немецкими баронами, профессорами, старосветскими барынями – с великим множеством разнообразных людей, и в нем просыпается мастер портрета, художник, артист, сердцевед, которым мы так восхищались, когда он изображал перед нами Фадеева, Алексея Толстого, Пастернака, Маршака, Соллертинского.
Поэтому его книги о тех литературных сокровищах, которые он добывает для нас, – не только об этих сокровищах. Они доверху набиты людьми, с которыми встречался Ираклий Андроников во время своих неистовых странствий за разбросанными по всему свету драгоценностями русской культуры.
До сих пор литературоведы сообщали читателям лишь результаты своих разысканий. Андроников – именно потому, что он портретист и художник, – первый решился поведать о самих разысканиях и о тех персонажах, с которыми ему в это время довелось повстречаться.
А так как эти подвиги и приключения Андроникова рассказаны им очень бравурно, занятно, художественно, со свойственными ему блестками юмора, превосходным живописным, живым языком, иным читателям может почудиться, что книги его совсем не научные, так как многие все еще считают научными лишь тяжеловесные, мрачные, беспросветно унылые книги, написанные мутным, казенным, напыщенным стилем.
Но в том-то и дело, что при всей своей блестящей художественности книги Андроникова – это книги большого ученого.
III
Охота за рукописями и рисунками великих людей не была бы так плодотворна, если бы в книге Андроникова азартный охотник не сочетался с подлинным ученым-исследователем, добывшим колоссальную свою эрудицию многолетним усидчивым, упорным, кропотливым трудом. Забывают, например, что, перед тем как пуститься на поиски утерянных реликвий Лермонтова, Андроников сиднем просидел десятки лет, изучая чуть ли не во всех книгохранилищах нашей страны его удушливую и злую эпоху, его жизнь и титанически гениальное творчество. Когда, бывало, ни войдешь в рукописный отдел Ленинградской публичной библиотеки, или в Пушкинский дом, или в научный отдел нашей Ленинской библиотеки здесь, в Москве, непременно увидишь Андроникова, погруженного в изучение рукописей, книг и газетных листов, имеющих хотя бы самое отдаленное отношение к поэту.
Хотя в посвященной ему книге Андроникова разбросано много мельчайших деталей, книга касается не периферийных, но важнейших, центральных проблем лермонтоведения. В настоящее время уже нельзя написать о великом поэте научную работу, диссертацию, трактат или самый обыкновенный биографический очерк, не пользуясь трудами Андроникова. Эти труды – самая заметная веха в истории лермонтоведения.
Считалось, например, прочно установленным, что вся экзотика «Мцыри» и «Демона» – абстрактная, книжная, заимствованная русским поэтом у Томаса Мура и Байрона, дань модному литературному веянию, подражание европейским образцам. Книга Андроникова кладет этим заблуждениям конец и доказывает десятками фактов, не замеченных другими исследователями, что Лермонтов как великий поэт-реалист заимствовал экзотику своих бессмертных поэм из конкретных впечатлений кавказской действительности.
Прочитав Андроникова, нельзя не прийти к убеждению, что в «Мцыри» Грузия совершенно так же, как и в последних редакциях «Демона», не условно-романтическая декорация, а реальная страна, конкретно воспринятая и воплощенная одним из самых передовых людей своего времени.
Здесь речь идет о творческом методе Лермонтова. Точно так же, когда Андроников при помощи ряда хитроумных изысканий, раздумий, сопоставлений, догадок установил подлинный образ той женщины, в которую Лермонтов был так самозабвенно влюблен в 1831–1832 годах, дело не ограничивается одной констатацией факта. Исследователь опять-таки рельефно вскрывает творческий метод Лермонтова: оказалось, что десятки его стихотворений, которые до настоящего времени относились литературоведами в разряд отвлеченных литературных упражнений в байроническом духе, на самом-то деле обращены к реальному лицу и отражают в себе подлинные, совершенно конкретные переживания поэта.
IV
В книге Андроникова «Рассказы литературоведа» ученость опять-таки сочетается с бурным сердцебиением, с азартом. У какого другого историка старинной словесности вы могли бы прочитать по поводу его литературных исследований такие, например, горячие и нервные строки:
«я прямо задохнулся от волнения…»
«я чуть не захохотал от радости…»
«я ахнул…»
«вся кровь в голову…»
«сердце испуганно ёкнуло…»
«даже в жар бросило…»
«я остолбенел…»
«я был ошеломлен…»
«…внезапное удивление… испугало, обожгло, укололо, потом возликовало во мне, возбудило нетерпеливое желание куда-то бежать, чтобы немедленно обнаружить еще что-нибудь».
Можно подумать, что дело идет не о мирных поисках старинных бумаг и портретов, а по крайней мере о битве с пиратами или об охоте на тигров.
Примечательно здесь слово «бежать». Спокойно, хладнокровно, степенно совершать свои литературные поиски Андроников, конечно, неспособен. Не тот у него характер. Он нетерпелив, динамичен, стремителен. Не может ни на миг остановиться, покуда не добьется своего. Поэтому в его книге мы так часто читаем: «я прибежал», «я кинулся», «опрометью бегу», «бегу на Новинский», «вбегаю в редакцию», «помчался во Внуково» и т. д.
И куда только не бегает он. ради облюбованной им литературной добычи!
В очерке «Личная собственность» он говорит:
«…я бегал из Института рыбной промышленности в медицинский, из педагогического – в Театр юного зрителя, из Товарищества художников – в клиническую больницу, в Общество по распространению знаний».
Этот азарт, эта страсть, эта жгучая любовь к памятникам литературного прошлого понемногу заражают и нас, и мы начинаем с увлечением следить за каждым новым усилием неутомимого автора, стремящегося во что бы то ни стало дознаться, изображает ли Лермонтова старинный портрет какого-то молодого военного и кто такая была неведомая Н. Ф. И., которой юноша Лермонтов посвятил цикл любовных стихов.
Мы участвуем всей душой в бесконечно разнообразных приключениях Андроникова, мы горюем при каждой его неудаче и радуемся, когда его долгие хлопоты наконец-то увенчаются успехом.
Рассказывая так увлекательно о своих литературных находках, о тех надеждах, разочарованиях, восторгах, с которыми связаны поиски неведомых рукописей, таящихся в частных архивах, Андроников тем самым доводит до сознания широких читательских масс, как драгоценна для советской культуры деятельность ученых, литературоведов, музейных и архивных работников, посвящающих всю свою жизнь отысканию, добыванию, изучению памятников великого прошлого нашей многонациональной словесности.
Для того чтобы разгадать загадку Н. Ф. И., Андроникову пришлось посетить около двадцати человек, и при всякой встрече он – это так характерно! – попадал в атмосферу задушевной приветливости, благожелательства, добрых улыбок.
В рассказе мы то и дело читаем: «Николай Павлович… улыбнулся», «Улыбается Корин…», «Улыбается Елена Панфиловна», «…гостеприимно, с любезной улыбкой…», «Яков Иванович… усмехается…», «Криминалисты смеются…».
Чуть не на каждой странице мелькают такие слова: «приятная встреча», «шутливый тон», «радушное гостеприимство», «дружелюбный смех» и т. д.
Эти строки характеризуют не только людей, с которыми встречался Андроников, но и его самого.
Там, где появляется он, – всюду сами собой возникают и «дружелюбный смех», и «радушное гостеприимство». Ибо в числе его талантов есть и этот – умение привлекать к себе сердца, которое дается лишь тем, кто и сам одарен очень нелегким искусством – любоваться людьми, восхищаться людьми, преклоняться перед их высокими душевными качествами.
Вот типичные фразы Андроникова, где сказывается его любовное отношение к людям:
«Был в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков… великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта… Память у него была удивительная…»
И дальше идет рассказ о «необыкновенной щедрости» и «отзывчивости» этого «чудесного старичка», и тут же умелой рукой нарисован его милый, озаренный улыбкой портрет.
С таким же восхищением пишет Андроников о покойном историке литературы Б. Л. Модзалевском, создавшем «настоящее чудо библиографии», и о директоре Пушкинского музея в Москве, редком энтузиасте, почитателе Пушкина, блистательном организаторе Александре Зиновьевиче Крейне. и о сестрах Хауф, небогатых немецких старушках, которые не пожелали продать за хорошие деньги «бесконечно дорогой» им портрет своей замечательной родственницы, но, подчинившись благородному порыву, пожертвовали его в советский музей.
Андроников не устает восхищаться духовной красотой этих «радушных, доброжелательных, тонко-интеллигентных» женщин, и можно не сомневаться, что они, эти милые немки, с таким же восхищением вспоминают теперь своего благодушного советского гостя, который глубоко постиг всемирный закон нашей жизни: «Если хочешь, чтобы тебя полюбили, – люби».
Но, как и всякий, кто умеет любить, Андроников умеет ненавидеть. Прочтите его «Личную собственность», и вы почувствуете, с какой неприязнью относится он к той черствой мещанке, которая из-за мелкой корысти украдкой разбазаривала по разным рукам письма Петра Первого, Кутузова, Чехова. Андроников не говорит о ней ни одного сердитого слова, но на каждой странице, где он изображает ее, чувствуется презрение и сдержанный гнев.
С таким же гневом изображает Андроников в рассказе «Сокровища замка Хохберг» заезжего ловкача бизнесмена, для которого реликвии Лермонтова стали предметом международной торговли.
Поэтому его «Рассказы литературоведа» представляются мне своеобразным учебником. Они учат бескорыстно, самозабвенно и страстно любить высокие ценности нашей культуры и ненавидеть презренных людишек, которые ради своих низменных выгод кощунственно третируют их как ходкий товар.
16 июня 1968 года.
Корней Чуковский

ПОРТРЕТ
Знакомое лицо
Я хочу рассказать вам историю одного старинного портрета, который изображает человека, давно умершего и тем не менее хорошо вам знакомого. История эта не такая старинная, как самый портрет, но, хотя она началась совсем недавно, это все-таки целая история.
От одного московского издательства я был как-то командирован в Ленинград и пробыл там несколько дней. Событие это, само по себе ничем не примечательное, не стоило бы даже и упоминания, если бы другое событие – или, попросту, совершенно ничтожный случай, о каких мы забываем ровно через минуту, – не положило начала целому ряду приключений.
Итак, я был командирован в Ленинград – город, особенно близкий моему сердцу. Там я учился и окончил университет, вступил на литературное поприще, обрел там первых друзей – словом, был счастлив.
Какое это удивительное, какое радостное чувство – вернуться на несколько дней в город, где прожил лет десять! А уж если вам случалось бывать в Ленинграде, да еще в белые ночи, вы, конечно, поймете меня.
Прямота набережных. Неподвижный строй бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов и их опрокинутые отражения в зеркально-черных водах окантованной гранитом Невы. Ажурные арки мостов на фоне розово-желтой зари. Лиловые контуры башен, колонн и скачущих бронзовых коней в этом обманчивом полусвете. И кажется еще прямей, чем всегда, прямота проспектов и набережных. Будто легче и ближе один от другого стали мосты, будто теснее сдвинулись купола и шпили в этой прозрачной, загадочной тишине. Словно все уменьшилось вокруг, но город стал еще лучше, прекрасней, если только может стать еще прекраснее этот великий город! Впрочем, я совершенно отвлекся от предмета своего повествования.
По приезде в Ленинград я не преминул наведаться в Пушкинский дом Академии наук СССР.

Пушкинский дом на набережной Макарова в Ленинграде.
Посвятив себя изучению жизни и творчества Лермонтова, я, приезжая в Ленинград, никогда не упускаю случая побывать в Пушкинском доме, где собраны почти все рукописи Лермонтова, где можно видеть его портреты, картины и рисунки, сделанные его рукой, где целая комната уставлена шкафами, в которых хранятся решительно все издания сочинений Лермонтова и литература о нем.
Когда-то я даже служил в Пушкинском доме – по старой памяти пользуюсь там полной свободой и по-прежнему имею доступ в рабочие комнаты.
Так и на этот раз я явился в музейный отдел, к Елене Панфиловне Населенно, и получил от нее разрешение хозяйничать: просматривать каталоги, перелистывать инвентарные книги, самому доставать с полок тяжелые альбомы и папки. И вот, пользуясь ее гостеприимством, я уже расположился в рабочей комнате музея, заставленной шкафами, письменными столами и шифоньерками.
Бывают же такие неудачи! Не успела Елена Панфиловна отвернуться, как я, пробираясь мимо ее стола, смахнул рукавом какую-то разинутую папку с незавязанными тесемками. Папка шлепнулась на пол, и тут же высыпалось из нее чуть ли не все содержимое: штук пятнадцать портретов известного педагога Ушинского, гравированный портрет митрополита Евгения, составившего словарь русских писателей, несколько изображений Ломоносова с высоко поднятой головой и бумагой в руке, Бестужев-Марлинский в мохнатой кавказской бурке, фотография: Лев Толстой рассказывает сказку внуку и внучке, памятник дедушке Крылову, поэт-партизан Денис Давыдов верхом на белом коне и вид южного побережья Крыма…
– Как это меня угораздило! Прямо слон… – бормочу я, ползая по полу. – Простите, Елена Панфиловна, не сердитесь!
– Ну уж ладно, что с вами делать! – улыбается Елена Панфиловна. – Давайте-ка папку сюда.
Но я медлю отдать ей.
– Простите, – говорю. – Разрешите мне еще разок взглянуть на эти картинки…
– На что они вам?
– Сейчас… – отвечаю я и уже роюсь и роюсь в папке. – Сейчас!..
Неужели это мне только почудилось? Нет, конечно, я видел и упустил какое-то ужасно знакомое лицо. Оно мелькнуло, когда папка упала.
– Одну минуту… секундочку… Вот!
И я быстро выхватил из кучи картинок небольшую пожелтевшую любительскую фотографию, изображавшую молодого военного.

Лицо, о котором идет речь.
Никогда в жизни не видел я этого портрета. Но откуда же я тогда знаю это лицо? Темный блеск задумчивых глаз, чуть вздернутый нос, тонкие темные усы над пухлым детским ртом, упрямый подбородок, высоко поднятые, словно удивленные брови и ясный, спокойный лоб будто совсем и не согласованы между собой, а лицо между тем чудное, необыкновенное. Из-под накинутой на плечи распахнутой тяжелой шинели виднеется эполет.
Перевернул. На обороте – надпись карандашом: «Прибор серебряный». И все! Кто же это?
Это, конечно, он! Я узнал его сразу, словно знаком с ним давно, словно видел его когда-то вот точно таким. Так неужели же это Лермонтов? Неужели это неизвестный нам лермонтовский портрет?
И сразу удивление, и радость, и сомнение: Лермонтов?! Среди каких– то случайных картинок… А вот уверен, что он был такой, каким изображен на этой выцветшей фотографии, хотя, по правде сказать, и не очень похож на другие свои портреты. Но все-таки кто это?
– Елена Панфиловна, это, случайно, не Лермонтов?
– Считается почему-то, что Лермонтов, – отвечает Елена Панфиловна, и мне уже нечем дышать, – только почему так считается, в точности никому не известно.
И вот смотрю я – и ведь еще неизвестно, кто это, а уже кажется, словно короче стали сто лет, которые отделяют нас от него, и Лермонтов словно ожил на этой старенькой фотографии. И какая заманчивая тайна окружает его лицо! Сколько лет ему на этом портрете? В каком он изображен мундире? Как попала сюда эта выцветшая фотография и где самый портрет? И на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов?
– Елена Панфиловна, на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов?
– Эта фотография, – говорит Елена Панфиловна, – попала к нам в Пушкинский дом из Лермонтовского музея при кавалерийском училище, очевидно, в 1917 году. Наверно, там ее и считали репродукцией с лермонтовского портрета. А уж коли вам кажется, что это действительно Лермонтов, вам надо заняться этим вопросом и найти самый портрет. Портрет интересный, – с улыбкой заключила она и, выдвинув ящик каталога, взялась за перо.