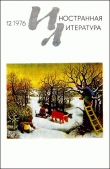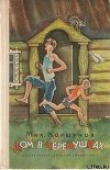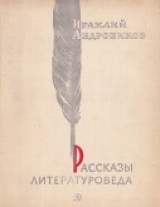
Текст книги "Рассказы литературоведа"
Автор книги: Ираклий Андроников
Соавторы: Орест Верейский
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)

СОКРОВИЩА ЗАМКА ХОХБЕРГ
Друзья
В Москве, на Малой Молчановке, близ нынешнего проспекта Калинина, сохранился маленький деревянный дом с мезонином, отмеченный в наше время мемориальной доской. В этом мезонине жил Лермонтов с 1830 по 1832 год, когда учился в Благородном университетском пансионе, а потом стал московским студентом.
Напротив, у слияния Большой Молчановки с Малой, жили друзья поэта, самые близкие, – Лопухины: Алексей, его сверстник и задушевный друг; старшая сестра Алексея, Мария (ей шло тогда уже к тридцати), – тонкая, умная, но глубоко несчастная девушка, горбатая и хромая. И младшая Лопухина – Варвара, или, как ее звали в ту пору, Варенька. Лермонтов полюбил ее, когда стал забывать свое увлечение Ивановой. Но и это глубокое чувство – к Лопухиной – не принесло ему счастья, а заставило страдать до конца жизни.

Дом на Малой Молчановке.
По соседству, позади домика, где Лермонтов жил вместе с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, в каменном доме, выходившем фасадом на Поварскую, жили Столыпины – семья покойного брата бабушки: генеральша Екатерина Аркадьевна Столыпина с детьми и с племянницей – Сашенькой Верещагиной (потом ее стали именовать Александрой Михайловной). Это была девушка образованная, живая, умная, острая, тоже близкий друг Лермонтова, четырьмя годами старше его. Лермонтов называл ее кузиной, иногда «благоверной кузиной». На самом деле кровного родства между ним и племянницей вдовы бабушкиного брата быть не могло. Но в первой половине прошлого века, да еще в дворянской Москве, где родством считались чуть ли не до седьмого колена, они были все равно что двоюродные.
Верещагина рано угадала в Лермонтове великий талант, умела влиять на его трудный и пылкий характер. В ту пору они виделись ежедневно, то на Поварской, то на Молчановке у Лермонтова, у Лопухиных, которым она и точно приходилась двоюродной.
В альбомы Верещагиной Лермонтов вписывал стихи, рисовал в них карикатуры, картинки, портреты общих друзей. В 1831 году посвятил ей поэму «Ангел Смерти». Когда переехал в Петербург и поступил в кавалерийскую школу, они переписывались…
В 1836 году – в то время ей было уже двадцать шесть лет – Верещагина поехала с матерью за границу. В салоне русского посла в Париже графа Поццо ди Борго познакомилась с молодым немецким дипломатом бароном Карлом фон Хюгелем. А летом следующего года уехала за границу вторично и вышла за него замуж. В Россию она уже больше не возвращалась. Жила в Германии: то в Штутгарте, то в фамильном замке баронов Хюгелей – Хохберг, близ Людвигсбурга.
Она увезла с собой свои девические альбомы со стихами и рисунками Лермонтова, и автограф «Ангела Смерти», и письма поэта… Два года спустя с ней свиделась там, в Германии, ее кузина Варвара Александровна Лопухина… Нет, уже не Лопухина, а Бахметьева! Она вышла замуж, но, увы, не за Лермонтова. Когда до Москвы дошел слух, что Лермонтов в Петербурге увлекся другой, она в отчаянье отдала руку Бахметьеву, сломала свою судьбу. Ее муж, человек немолодой, посредственный и ревнивый, не желавший слышать имени Лермонтова, грозился уничтожить рукописи поэта, его письма, рисунки, которые она хранила с сердечным трепетом. Опасаясь, что он исполнит это свое злонамерение, Варвара Александровна все лермонтовское отдала Верещагиной. Так, за Рейном, еще при жизни Лермонтова оказались его бумаги.
Время шло. Лермонтова не стало. Десять лет спустя умерла Лопухина – изнемогла от тоски по нем. Связи Верещагиной с родиной таяли. Но дружбе с Лермонтовым она оставалась верна. С ее помощью в Германии был впервые напечатан по-русски «Демон»: в России не пропускала цензура.
Спустя сорок лет
В конце 70-х годов историк русской литературы профессор Павел Александрович Висковатов стал собирать первые материалы для биографии Лермонтова, выяснял, у кого могли сохраниться его неизвестные сочинения. Ему сказали, что в Германии, в Штутгарте, живет Верещагина, дружившая с Лермонтовым в его юные годы. Висковатов ей написал.
Ответ пришел по-немецки. Отвечала дочь Верещагиной, графиня фон Берольдинген: мать скончалась в 1873 году. Ее пережила бабушка – Елизавета Аркадьевна. Она умерла всего лишь три года назад. Бабушка хорошо помнила Лермонтова и многое могла рассказать: теперь уже поздно! Перед смертью, разбирая семейный архив, бабушка обнаружила связку писем поэта. Она уничтожила их. Письма показались ей саркастичными и задевали многих знакомых. Случайно два письма уцелели. Эти письма графиня фон Берольдинген Висковатову посылала в подарок. В замке Хохберг сохранились верещагинские альбомы и в них – восемь стихотворений Лермонтова и двадцать семь его рисунков и шаржей. Но нет, графиня писала, что не может расстаться с реликвиями, которыми так дорожила ее покойная мать. Эти альбомы она могла бы одолжить только на время, для изучения…
Сохранился автопортрет, на котором Лермонтов изобразил себя в мохнатой бурке, на фоне кавказских гор. С ним графине тоже никак невозможно было расстаться – этот портрет очень любила мать. Поэтому и его она могла бы послать только для ознакомления, на время. Кстати, фамилию Лермонтова графиня писала неправильно: «Лерментов».
Это было в 1882 году.
Висковатов боготворил Лермонтова. Это был человек пылкий, настойчивый, энергичный. Если б не он, мы бы знали о Лермонтове меньше раз в десять. Но и недостаток у Висковатова был: материалы, взятые в долг, возвращал неохотно.
Так решил поступить он и тут. Получив материалы от графини Берольдинген, он не стал торопиться с возвратом. Но графиня фон Берольдинген оказалась женщиной педантичной и не преминула напомнить, что положенный срок прошел и вещи пора вернуть.
Тогда Висковатов стихи из альбомов выписал, а рисунки решил скалькировать (фотографирование документов в ту пору не применялось). Он взял листы папиросной бумаги и, наложив на рисунки, обвел контуры жестким карандашом.

Рисунок из верещагинского альбома.
Это были самые слабейшие творения художества, какие я только видел. Кстати, они пропали во время последней войны. Так что мы теперь лишены возможности обсуждать вопрос даже о том, насколько они были плохи.
Что касается акварельного автопортрета, то здесь Висковатов прибег к более совершенному способу: пригласил художницу и поручил ей исполнить акварельную копию.
Когда работа была изготовлена, Висковатов по краю овала чернилами написал: «Копия сделана в точности госпожою Кочетовою. Пав. Висковатов».
После этого все предметы, полученные от графини Берольдинген, были упакованы и отправлены по назначению в Германию. С тех пор никто из русских исследователей их не видал.
Утерянный след
Прошло тридцать лет.
В начале нынешнего столетия «Разряд изящной словесности» Академии наук приступил к изданию полного собрания сочинений Лермонтова. В надежде получить верещагинские альбомы обратились к графине Берольдинген. Но оказалось, что она уже умерла. А потом началась первая мировая война, потом – блокада Советской России…
В начале 30-х годов профессор Борис Михайлович Эйхенбаум приступил в Ленинграде к подготовке нового полного собрания сочинений поэта. Издательство «Academia» направило тогда в Берлин, в наше посольство, просьбу: поискать потомков баронов Хюгелей и графов Берольдинген. Но тут произошел нацистский переворот. Дело пришлось отложить. И, как выяснилось, надолго.
Начав заниматься Лермонтовым еще в 30-х годах, я мог только воображать, что шагаю по улицам Штутгарта в поисках потомков Верещагиной-Хюгель и роюсь в библиотеке средневекового замка Хохберг. А на деле довольствовался тем, что складывал в две папиросные коробки решительно все, что вычитывал в книгах про Штутгарт, про Хохберг, про Баден-Вюртембергское королевство. Встретится в книге план города Штутгарта – справку кладу в коробку. Мелькнет фамилия Хюгель – в коробку. В посольской церкви в Штутгарте тех времен служил русский протоиерей Базаров – тоже в коробку!
Когда кончилась вторая мировая война, я разложил на столе скопившиеся в коробках бумажки и написал в руководящие инстанции докладную записку с предложением предпринять поиски лермонтовских реликвий в замке Хохберг, близ Людвигсбурга, и в Штутгарте.

Замок Хохберг.
Ответ не замедлил. Меня вызвали и попросили обосновать едва ли не каждую фразу моей докладной, дабы можно было проверить основательность моего предложения. К своей докладной я написал примечания со ссылкой на немецкие и русские книги, газеты, архивные материалы. Вышло решение: направить сотрудника Министерства иностранных дел СССР, офицера Контрольной комиссии и литературоведа такого-то в Штутгарт и в Хохберг, снабдив их валютой.
Но Штутгарт входит в американскую оккупационную зону. И прежде чем успели договориться об этой поездке, изменилась международная обстановка. Поездку пришлось отложить.
Когда в 1950-х годах международные отношения стали благоприятствовать, я снова уселся писать докладную, разложил на столе бумажки из папиросных коробок… Но тут наш известный ученый, член-корреспондент Академии наук СССР искусствовед Виктор Никитич Лазарев сообщил мне, что возвратился только что из Стамбула, где происходил конгресс византологов; на конгрессе он встретился с известным немецким искусствоведом профессором Мартином Винклером. И этот профессор передал ему два цветных диапозитива с принадлежащих ему лермонтовских работ. Одна из них представляет собою лермонтовский автопортрет в бурке. При этом Винклер будто бы называл ему мое имя. Но, не будучи знаком со мной лично, он, Лазарев, передал эти диапозитивы лермонтоведу Пахомову Николаю Павловичу. Адреса Винклера Лазарев точно не помнил, но помнил, что Мюнхен. И посоветовал писать по адресу мюнхенской Пинакотеки.
Все осложнилось. Стало понятно, что верещагинское собрание или какая-то часть его переместилась из Штутгарта в Мюнхен. И мне уже незачем хлопотать о поездке в Штутгарт и в Хохберг. Прежде надо было узнать, куда ехать. Я написал профессору Винклеру. Ответа от него не последовало. Как я узнал потом, мое письмо его не нашло.
А тут еще примешалось новое обстоятельство.
Деловой человек из Нью-Йорка
Позвонили мне со Смоленской площади, из «Международной книги», и сказали, что в Москву приехал американский библиограф мистер Симон Болан, который говорит, что в его руках находится несколько автографов Лермонтова и множество лермонтовских рисунков, представляющих чуть ли не двадцать пять процентов всего существующего количества.
Я встревожился. Заниматься Лермонтовым целую жизнь – и упустить четвертую часть рисунков?! При этом я никак не мог представить себе, где же и у кого могло храниться их такое количество. К тому же – за рубежом!

Первое издание «Демона».
Я почти не сомневался, что речь идет об альбомах Александры Михайловны Верещагиной.
Свидание с мистером Воланом устроилось без труда. Он жил в московской гостинице «Метрополь». Предупредил, что он очень занят и будет торопиться, но на несколько минут встретиться все-таки сможет.
Это оказался деловой человек, небольшого роста, немолодой, свободно владеющий русской речью, хотя и с английским акцентом. Иногда в его разговоре встречались выражения и обороты, для нас непривычные.
– Я не имею много времени, – сказал он, когда я вошел в его номер. – Я канцелировал тэкси-кэб, чтобы поехать. Завтра я буду уже в Ленинграде и сегодня еще немного часов в Москве. Я располагаю рисунками Майкла Лермонтова. Это количество много.
– Мне сказали, – начал я с удивлением, – что у вас двадцать пять процентов общего числа всех рисунков? Я как-то не могу представить себе, чтобы в настоящее время в одном месте хранилось такое множество…
– Вам не надо представить, я сам хорошо представляю, потому что все у меня, – коротко пояснил мистер Болан. – Что вы думаете теперь?
– Я думал, что их может быть двадцать семь…
– Нет, двадцать пять.
– Чего? Рисунков или процентов?
– Рисунков.
– Ну, тогда, – сказал я, не в силах скрыть удовольствия от того, что мне удалось угадать, – тогда два рисунка из альбомов кто-нибудь вырезал.
– Я не сказал: альбомы.
– А я решил, что в ваши руки попали альбомы Александрины Верещагиной-Хюгель. И что, может быть, к ним имел отношение профессор Винклер из Мюнхена.
– Да, я приобрел у него, – помолчав, подтвердил мистер Волан. – Три альбома. Там ничего не вырезано. Я уже хорошо осмотрел. Могу смотреть еще один раз свои карточки.
Он быстро вытащил из огромного своего портфеля стопку карточек, быстро их перебрал.
– О-о!.. Двадцать семь! Это правильно! Я знаю – вы специалист, мистер Энденоников. Я держал вашу книгу…
Теперь, убедившись, что в его руках подлинные верещагинские альбомы, я, наоборот, стал выражать некоторое сомнение: мне же необходимо было их посмотреть, а он не показывал.
– Да, – сказал я вялым голосом. – Но специалист должен видеть все своими глазами. Ведь за пушкинские, за лермонтовские рукописи часто принимают написанное вовсе не ими и даже в другое время. А рисунки особенно…
– Вы – специалист, я – тоже специалист, – сухо сказал мистер Болан. – Я много держал в своих руках и много передал через свои руки. Я не терплю ошибки. Можете смотреть фотостаты!
Он быстро вынул из портфеля пачку фотографий на тонкой бумаге…
Ух, какие рисунки!.. Фотографии воспроизводят даже пожелтевшие чернила, передают шероховатость альбомных листов!.. Вот жених и невеста, преклонив колена, стоят на подушечке. Их венчает священник. Какая-то старуха утирает слезу, военный закрутил ус… На другой – офицер, развалясь в кресле, читает афишку концерта. Возле каждого лица написаны французские реплики… Ведь все это – шаржированные портреты каких-то знакомых Лермонтова! Такая досада: Болан торопится и нельзя внимательно рассмотреть их…
– В альбомах имеются стихи руки Лермонтова. Его манускрипты, – сказал мистер Болан.
– Восемь стихотворений?
– Да, правильно это.
– Но они давно напечатаны.
– Как это может быть? – Волан удивился. – Альбомы не находились в России. Лермонтов подарил эти стихи, когда еще не был известный поэт.
– Альбомы в России были, – возразил я. – Стихи напечатал профессор Висковатов еще в прошлом веке. Если хотите, я могу назвать эти восемь стихотворений…
– Я уже не имею моего времени, – ответил мне мистер Болан. – Я допускал, чтобы предложить обмен этих альбомов на книги, которых не имеется в университетских библиотеках у нас, в Соединенных Штатах. Но это поздно. Завтра – Ленинград. И еще опять несколько часов, когда мы не сумеем говорить…
Нет, не везет!
От Болана я кинулся в Академию наук, в Иностранный отдел. Созвонились с Ленинградом. Условились, что дирекция Пушкинского дома встретит американца и договорится о совершении обмена.
Его встретили и привезли в Пушкинский дом. Список, который он передал, был необъятен. Мистера Болана интересовали журналы, альманахи, сборники и пушкинской поры, и некрасовской, и выходившие в первые годы Советской власти… Пушкинский дом мог бы отдать ему дубликаты, то есть лишние экземпляры из своего обменного фонда. Но такого количества старинных, а главное, редких журналов и альманахов в дублетном фонде, разумеется, не было. Три крупнейшие ленинградские библиотеки кооперировались, чтобы подобрать необходимый комплект, – работали напряженно, быстро, но, когда все было сделано, оказалось, что мистер Болан не дождался и уже покинул пределы Советской страны.
Альбомы поступили в Колумбийский университет в Нью-Йорке.
С тех пор тщетно пытаюсь я получить фотографии с лермонтовских рисунков.
В Колумбийский университет обратился Пушкинский дом.
Отказ.
Союз писателей СССР предложил совместную советско-американскую публикацию.
Отказ.
Редактор выходящего в Бостоне журнала «Атлантик» Эдвард Уикс задумал выпустить номер, посвященный русской культуре. Я был намечен в качестве автора статьи о фольклоре. Я отвечал, что не специалист по фольклору, но взамен могу написать советско-американский литературоведческий детектив: нужны только фотографии из альбомов, хранящихся в Колумбийском университете.
Редактор ответил, что это проще простого…
Отказ.
Сол Юрок, менеджер нашего Большого театра в Соединенных Штатах; по моей просьбе обращался в Колумбийский университет…
Молчание.
Это досадно тем более, что с толком обнародовать эти рисунки можно только в том случае, если ученый сумеет «узнать всех в лицо» – ведь изображены-то конкретные люди, знакомые Лермонтова, московский круг начала 30-х годов! А в этой работе должны быть использованы для «узнавания» сотни портретов, хранящихся в наших музеях; в Америке эту работу не проведешь: не с чем сравнивать!
Но как бы там ни было с Колумбийским университетом – деловые основания для поездки в Западную Германию мне самому стали казаться неясными. Куда ехать? В Штутгарт?
Там ничего нет.
В Мюнхен, к Винклеру?
Винклер не отвечает. А принадлежавшие ему альбомы уплыли за океан. И я прекратил хлопоты.
Но тогда стал проявлять интерес сам владелец – профессор искусствовед Мартин Винклер.
Подарок из Фельдафинга
Не получая из Советского Союза ответа, профессор Винклер приехал в наше посольство в Бонне и, обратившись к тогдашнему нашему послу в ФРГ Андрею Андреевичу Смирнову, сообщил, что у него имеются лермонтовские автографы и художественные работы поэта и он хотел бы передать их на деловых основаниях в Советский Союз. Рассказал, как они попали к нему.
В 1934 году, после смерти внука Верещагиной-Хюгель полковника графа Эгона фон Берольдинген, в замке Хохберг была объявлена распродажа. Профессор Винклер, неоднократно бывавший там при жизни владельца, сразу понял, что с молотка идет Лермонтов. Он приехал и сумел купить лермонтовские бумаги. Документы самой Верещагиной – переписку по русским имениям, переписку с русской родней – на распродажу не выставляли, а выбросили как хлам. Понимая, однако, что для биографов Лермонтова важно будет и это, профессор Винклер этот «хлам» подобрал. Теперь он просил прислать к нему в городок Фельдафинг возле Мюнхена кого-нибудь из посольства, дабы можно было начать деловой разговор.
А. А. Смирнов направил к нему секретаря посольства Владимира Ильича Иванова. (Побольше бы нам таких Ивановых!) Профессор Винклер показал ему то, что хранил с 1934 года.
Не надо быть самому особым специалистом, чтобы понять, что тут нужен специалист. Иванов это хорошо понял. И обещал сообщить о том, что увидел, в Советский Союз. Когда же стали прощаться, профессор Винклер вручил ему тяжелый пакет и сказал:
– Господин Иванов, милый-милый, пошлите это в Москву Ираклию Андроникову и передайте ему приглашение приехать в Федеративную Республику Германии в качестве моего персонального гостя.
Тут молодой дипломат поинтересовался, откуда профессор Винклер знает Андроникова.
Профессор ответил, что не знает Андроникова. Но знает изданную во Франкфурте библиографию трудов советских лермонтоведов. Открыв ее, он увидел, что лучший советский лермонтовед – профессор Борис Эйхенбаум (Ленинград). И он уже хотел пригласить профессора Эйхенбаума, но тут узнал, что Эйхенбаум скончался. Тогда он снова обратился к библиографии, где сказано: «Следующий, гораздо ниже его, Ираклий Андроников». Тогда он решил пригласить Андроникова.
Вернувшись в Бонн, Владимир Ильич Иванов отправил пакет в Москву, в Министерство культуры СССР. Министерство передало его в Литературный музей. А меня пригласили посмотреть присланные бумаги.
Их много. И они интересные. Очень. Прежде всего – копии лермонтовских стихов и письма родных к Верещагиной, особенно то, в котором мать сообщает ей о гибели Лермонтова: «…Мартынов… попал ему прямо в грудь, бедный Миша только жил 5 минут, ничего не успел сказать, пуля навылет…»

Письмо к А. М. Верещагиной-Хюгель о гибели Лермонтова.
И все-таки это было не главное. Самое главное, писанное и рисованное лермонтовской рукой, осталось у Винклера. То, что он подобрал, что ему досталось бесплатно, он подарил. А то. что купил… Об этом надо было договориться.
Мудрое решение вопроса
Затеялись хлопоты о командировке моей в ФРГ. И когда уже была получена виза и паспорт в кармане и куплен билет, от Винклера получилось письмо: «Прошу привезти мне в обмен русские книги. Это обязательное условие».
Тут следовал список – не такой, конечно, обширный, как тот, что передал нам мистер Болан, но тоже надежд не внушающий… В нем значились русские летописи, научные труды по истории, археологии, по искусству… И, как нарочно, всё редкие. Даже и те, что вышли в советское время. А уж где достать книгу «Инок Зиновий. Истины показание к вопросившему о новом учении», напечатанную в Казани в 1863 году да еще в малом количестве, – этого мне не могли сказать даже самые крупные книговеды.
Я устремился в Министерство культуры с просьбой выделить книги из дублетных фондов крупнейших библиотек. С резолюцией «Выделить» побежал в Историческую библиотеку…
Нету!
В Ленинскую, к директору Кондакову Ивану Петровичу.
– Нету. Мы изготовим микрофильмы для вас. Но из книжных фондов послать в подарок не можем…
Но ведь микрофильмы мне не помогут! Это же все равно, что менять фото для паспорта на живописный портрет Сарьяна!
Какой же это обмен? Неравноценно!
Кондаков понимает это лучше меня. И все же договорились на том, что повезу микрофильмы.
Прихожу в назначенный день.
– Не приготовили.
– Как же так?
– А директор Иван Петрович поручил выяснить, по скольку экземпляров книг, нужных профессору Винклеру, стоит на полках библиотеки.
Оказалось, что по три.
А сколько их выдавалось на руки?
Выдавались только первые экземпляры.
Тогда И. П. Кондаков собрал ученый совет и решили: третьи экземпляры всех этих книг списать и отправить профессору Винклеру, с тем чтобы автографы Лермонтова, которые будут доставлены из Федеративной Германии в Советский Союз, поступили в Ленинскую библиотеку.
Это, я понимаю, решение!
Вот почему я улетал с Шереметьевского аэродрома, имея с собой на борту сто тридцать килограммов редчайших книг. Летел я до Амстердама. А там должен был совершить пересадку и уже другим самолетом следовать до Кёльна, или, как говорится, «нах Кёльн аб».
По прибытии в Кёльн был встречен секретарем Владимиром Ильичом Ивановым, доставлен в Бонн, а в Бонне – это было уже дня через два – за руль сел другой секретарь, Николай Сергеевич Кишилов, тоже весьма приятный и обходительный, и покатили мы втроем в Мюнхен по знаменитому автобану.
Эта езда стоит того, чтобы о ней рассказать.
Движение двухрядное. Встречного ты не видишь. В правом ряду машины мчатся со скоростью 100–120. Хочешь ехать быстрей – выходи в левый ряд. Сигналит тебе другая машина, сзади, требует уступить дорогу – юркни вправо, мимо тебя мелькнет что-то с быстротой самолета, и снова можешь выходить на левую сторону.

Мюнхен. Ратуша.
Машины идут вереницей – одна за другой. На таких скоростях сразу не остановишь. И если с одной случается что-то, то идущие сзади влетают одна в другую и бьются. Называется это «карамболяж». Поэтому, едучи по западногерманскому автобану, испытываешь странное смешение чувств: природной для всякого русского пассажира страсти к скорой езде – с предощущением смертной казни.
Наша машина принадлежала к числу тихоходных: больше ста сорока километров взять не могла. Но сто сорок держала точно. Число километров, примерно равное расстоянию Москва – Ленинград, мы одолели за четыре с половиной часа.