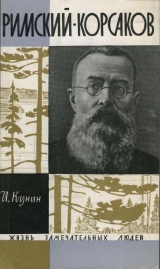
Текст книги "Римский-Корсаков"
Автор книги: Иосиф Кунин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
К началу девяностых годов колоссально возросло влияние Чайковского. Миновало время, когда Кругликов, рецензируя его новые сочинения, мог писать: «Жалости подобно, на что теперь Чайковский разменивает свой большой и прекрасный талант», а «Итальянское каприччио» называть «позорным». Мировая слава Чайковского была в своем апогее. Исполнение в Петербурге Третьей сюиты, симфонии «Манфред», оперы «Пиковая дама», музыки к балету «Щелкунчик» было каждый раз настоящим событием. Не было причин обходить Чайковского при составлении программ Русских симфонических концертов. 12 декабря 1888 год а он сам в одном из них продирижировал своей оркестровой фантазией «Буря». Возобновилось знакомство с Корсаковым, завязалась дружба с Глазуновым.
В чуть застоявшуюся, чуть грубоватую атмосферу беляевского содружества он внес свежую струю непринужденного дружелюбия и мягкого изящества.
Недаром профессор Петербургской консерватории, прославленный скрипач Л. С. Ауэр называл его маркизом XVIII века. Еще более пленяла непредвзятость и свобода его музыкальных вкусов. Молодежь, воспитанная в строгих балакиревских и корсаковских традициях, от всей души восхищалась безбоязненным отношением Чайковского ко всему легкому, доступному и даже тривиальному. Довольно скоро Петр Ильич перешел на «ты» с Глазуновым и Лядовым (Корсаков говорил «ты» только членам семьи, товарищам времен Морского корпуса и Ф. А. Канилле).
Восхищение личностью и музыкой московского композитора имело и оборотную сторону. «Начиная с этого времени, – писал Корсаков в своих воспоминаниях, имея в виду самый конец 1880-х и начало 1890-х годов, – замечается в беляевском кружке значительное охлаждение и даже немного враждебное отношение к памяти «Могучей кучки» балакиревского периода. Обожание Чайковского и склонность к эклектизму[15]15
То есть к беспринципному, как полагал Корсаков, смешению художественных понятий, выработанных «Могучей кучкой», с понятиями Чайковского и А. Рубинштейна.
[Закрыть], напротив, все более растут». «Новые времена – новые птицы… новые птицы – новые песни. Хорошо это сказано! Но птицы у нас не все новые, а поют новые песни хуже старых», – жалуется он Кругликову в мае 1890 года. С болью и негодованием говорил он позднее: «…Новая русская школа, как таковая, совершенно распалась, и даже слово «кучкист», некогда бранное в устах врагов, стало чуть ли что не бранным в глазах тех лиц, которых эта школа, что говорится, вскормила и вспоила, как, например, Лядов и Глазунов». Для Римского-Корсакова этот поворот его ближайших музыкальных друзей был одним из самых тяжелых ударов, какие ему выпадали на долю. Почва уходила у него из-под ног, дело всей жизни лишалось смысла.
В конце 1892 года получило широкую огласку намерение Чайковского поселиться в Петербурге. Короткое время спустя Римский-Корсаков принимает решение перебраться в Москву. Ни то, ни другое не осуществилось: Чайковский скончался в самом начале концертного сезона 1893/94 года, Корсаков еще ранее свое решение отменил. Отношения их до самого конца оставались дружескими. Петр Ильич в этих нелегких условиях вел себя безукоризненно, не скрывая глубокой симпатии к собрату, которого искренне уважал. И все же глубокая тень легла на все, связанное в памяти Корсакова с Чайковским. Он был слишком художник, чтобы не воздать дани высокого уважения Шестой симфонии, а потом «Пиковой даме» и другим произведениям покойного композитора, когда собственное музыкальное развитие Корсакова привело его к новому соприкосновению с ними. Он был в достаточной мере рыцарем долга, чтобы последовательно включать в программы Русских симфонических концертов не только все посмертные произведения Чайковского, но и незаслуженно редко исполняемые его пьесы. Труднее расходилась горечь. Прошли годы, прежде чем она смягчилась. След, ею оставленный в воспоминаниях композитора, заметен сильно.
Последним в списке утрат стоит имя Балакирева. Их разлучила не смерть: Милий Алексеевич пережил Корсакова. Но то, что произошло, было страшнее смерти. Н. Д. Кашкин, видный московский критик, вспоминая о своей встрече с Балакиревым в 1906 году, в концерте памяти Глинки, писал: «…В то время, когда я разговаривал с Балакиревым, Римский-Корсаков, увидев меня издалека, направился ко мне с дружеской улыбкой, но когда он подошел почти вплоть и увидел, что я разговариваю с Балакиревым, то выражение его лица вдруг изменилось на гневное и он круто повернул в сторону, очевидно чтобы не встречаться с Балакиревым; отношения прежних друзей очевидно совершенно изменились». Вероятно, это была последняя встреча двух людей, так тесно связанных между собой в прошлом.
Причин для такой размолвки было немало, решающую роль сыграла все же совместная служба в Придворной капелле, где они, постепенно все труднее перенося друг друга и все менее друг от друга скрывая свою неприязнь, прослужили бок о бок с 1883 по 1894 год. Вместе они переустроили быт и обучение малолетних воспитанников капеллы, внесли в их жизнь светлое, осмысленное начало. Вместе – и в непрестанном внутреннем, пусть мелочном, несогласии. Терпеть деспотизм, вздорность, капризность можно, пока любишь. Милия Алексеевича было за что любить, даже в его ущербную вторую половину жизни. Но Корсаков не любил и не прощал. Он ненавидел теперь в Балакиреве смесь елейного смирения с жестокостью и злоязычием, мелочной уязвленности со злобным шовинизмом. Вероятно не вполне отдавая себе в этом отчет, Римский-Корсаков ненавидел в нем весь тяжелый дух официального лицемерия и ханжества, сгустившийся над Россией в восьмидесятые годы, в темное царствование Александра III.
Оба они по долгу службы были в Москве на коронации нового императора. Празднично разукрашенная первопрестольная пестрела военными и придворными мундирами, гремела полковыми оркестрами, церковными и сиротскими хорами, из конца в конец гудела колокольным звоном. Все было аляповато, помпезно, лживо и высокоторжественно. Облаченные в шитые золотом мундиры придворного ведомства Балакирев и Римский-Корсаков присутствовали при обряде коронования в кремлевском Успенском соборе. От всей этой роскоши, от золота и фольги, кумача и алого бархата, от медно-красного лица помазанника, протодьяконских возглашений и жандармских «осади!» оставалось гнетущее впечатление грандиозного, не в меру затянувшегося маскарада.
В последние годы службы Корсакова в капелле отношения с Балакиревым колебались между ледяной официальной вежливостью и вулканическими взрывами, в пылу которых о справедливости уже не думали и друг друга не жалели. Балакирев даже был порою терпеливее и мягче. Сколько все это отняло у обоих сил и жизни, нельзя и счесть.
«ЛЕТОПИСЬ»
Все трудности, все горести творческой и семейной жизни Римского-Корсакова стянулись узлом в начале девяностых годов. Умерла мать, умер одиннадцатилетний сын, тяжело захворала младшая дочь. Неожиданно обнаружилось беспечное равнодушие Глазунова, Лядова и Беляева. Запомнилась дикая, в холодном гневе брошенная фраза Балакирева: «Мне до вашего семейства дела нет». Один Стасов оставался верным, заботливым другом. Над всем простиралась безмерная усталость человека, почти не знавшего, что такое отдых или перерыв в работе.
В 1891 году возникает у Корсакова состояние нервного возбуждения, искавшее исхода в лихорадочной работе мысли. Он начинает писать книгу с необъятно расплывчатым содержанием. В ней должны были найти место, общие вопросы эстетики, проблемы эстетики музыкальной, далее – мысли о композиторах «Могучей кучки» и обстоятельный разбор собственных сочинений. Набросав некоторые разделы, композитор обратил свое беспокойное внимание к темам философским, принялся за чтение «Истории философии» Дж. Льюиса, а потом и трудов Спенсера, Спинозы, торопливо занося на поля книг свои соображения, уже не умея остановить все ускоряющийся ход испортившихся часов. Появились навязчивые мысли о религии, о примирении с Балакиревым – признаки переутомления психики. Забывчивость и рассеянность временами доходили до мучительной остроты. Доктора настойчиво рекомендовали отдых.
По счастью, это состояние не препятствовало Николаю Андреевичу вести занятия в консерватории и капелле. Понемногу оно начало рассеиваться и к 1894–1895 годам прошло бесследно. Значительную часть своих эстетических набросков композитор уничтожил; сохранившиеся, несомненно, интересны, хотя изложение действительно страдает сбивчивостью.
В эти мучительные годы мысль художника обращается к прошлому. Начатая им еще ранее музыкальная автобиография значительно подвигается вперед в 1893 году, когда возбуждение уступило место упадку и подавленности. За лето этого года было написано около трети всей «Летописи моей музыкальной жизни», как назвал композитор свои воспоминания.
Интерес их очень велик. Искренность и нелицеприятная правдивость делают «Летопись» выдающимся исключением среди массы артистических и художественных мемуаров. Но многие суждения несут печать тяжелых лет, когда эта книга обдумывалась и писалась. Мы имеем в виду не только 1893 год, но и лето 1906 года, когда, спеша и опуская многое, композитор дописывал воспоминания. «Летопись» – документ, запечатлевший не только мужественную, презирающую все полуправды личность Римского-Корсакова, но и сумрачное, горькое настроение, в каком он находился в начале девяностых годов и снова на последнем этапе своей жизни, перед «Золотым петушком».
При своем появлении в печати в 1909 году «Летопись» вызвала и злорадные попреки врагов и малодушные отречения иных друзей. Тем дороже оценка, какую дал ей прямодушный и взыскательный судья Танеев. «Я считаю «Летопись», – писал Сергей Иванович, – за одно из самых интересных и поучительных автобиографических сочинений, какие мне приходилось читать. Чрезвычайно ценными являются для меня и многие мысли, специально относящиеся к вопросам чисто музыкальным, высказанные простым, ясным и определенным языком и обильно рассыпанные по всей книге».
ГЛАВА VIII. ВОСТОК И ЗАПАД
ПАРИЖСКОЕ ЛЕТО
Всемирная выставка. Над Парижем простерлось летнее голубовато-сиреневое небо. Аллеи выставочного городка пестреют жадной до новинок, веселой, насмешливой толпой. Многочисленные любители музыки раздираемы музыкально-политическими страстями. Руководитель Национальных концертов Э. Колонн – признанный друг русской музыки, уже знакомивший парижан с произведениями Чайковского. Другой вождь оркестра, Ш. Ламуре, – энергичный пропагандист Вагнера. В Париже это имя звучит как смелый призыв к чему-то великому, туманно-грандиозному, как протест против умеренного, измельчавшего искусства. Беда, что рядовому посетителю театров и концертных зал как раз это измельчавшее, никого и ничего не тревожащее искусство дороже всего. Та же общедоступная красивость, тот же культ «хорошенького» и «нарядного» царят и на выставке, хотя она приурочена к столетию могучей и кровавой французской революции 1789 года. Повсюду кокетливо улыбаются гигантские гипсовые красавицы – аллегории республики, промышленности, искусства, городов, рек и торговых предприятий. Повсюду легкая позолота. Привлекательнее других – турецкие киоски, алжирские кафе, индокитайские пагоды. За ними высятся псевдомавританские замки, норвежские деревянные домики, греко-латинские портики. И над всем пестрым скопищем взлетает к небу Парижа трехсотметровая стальная башня Эйфеля, только что скинувшая леса и представшая во всем своем суховатом инженерном великолепии. Точно архитектура грядущего бросает дерзкий вызов разливанному морю подражаний и прикрас, архитектурной косметике конца века. За кем останется победа? Куда устремится поток живого искусства?
Небольшое репетиционное помещение. Оркестр готовит программу из произведений русских композиторов. Посторонних – никого. Только у дверей примостился на шатком стуле Глазунов да изредка заглянет Беляев. На его средства, по его настоятельному желанию организованы русские концерты на парижской Всемирной выставке 1889 года. Жарко. Высокий дирижер в узком жилете, с засученными по локоть рукавами рубашки сосредоточенно отрабатывает увертюру к «Руслану и Людмиле». Объясняться с оркестром ему не так-то легко: Николай Андреевич не силен во французском языке. Однако по мере необходимости он разъясняет свои намерения и требования при посредстве стука палочки и немногих общепонятных слов. Очень скоро оркестранты приходят к заключению, что имеют дело с художником не только спокойно-требовательным, но и выдающимся. Оттенки и темпы схватываются с намека. Несмотря на духоту, оркестр работает без положенного перерыва и дружным постукиванием по пюпитрам выражает одобрение автору «Антара». Хуже идет дело у стеснительного Глазунова, когда он сменяет Корсакова для разучивания своего «Стеньки Разина». Но Римский-Корсаков умеет вовремя подсказать молодому дирижеру все нужное. Программа двух концертов выучена твердо и сравнительно быстро.
Теперь все это – произведения Глинки, Бородина, Мусоргского, Балакирева и других – надо перенести на публику. Завоевав уважение оркестра, завоевать любовь этой таинственной особы.
Громадный, вмещающий более пяти тысяч слушателей зал выставочного дворца Трокадеро наполовину пуст: большинству слова «русская музыка» мало что говорят, а на рекламу гордый Беляев не израсходовал и гроша. Отсутствуют и праздношатающиеся русские парижане, не угадывающие, что отечественная музыка станет со временем величайшей гордостью русской земли. Зато налицо передовые музыканты, все, кому противна рутина, кто ищет возрождения музыки у незамутненных ключей, у глубоких корней народного искусства. Под управлением Корсакова одна за другой исполняются оркестровые пьесы, в большинстве своем еще никогда не звучавшие в Париже. Особенный успех имеют произведения восточного характера: «Половецкие пляски» и «В Средней Азии» Бородина, «Антар» Римского-Корсакова. Жаль, нет среди живых Сальвадор-Даниеля: он расстрелян версальцами вместе с другими участниками Парижской коммуны в мае 1871 года. Мелодия, когда-то записанная им в Алжире, вернулась теперь во Францию в новом наряде – как музыкальный образ сказочно-прекрасной пери Гюль-Назар, подруги Антара. В этой светлой неге, в этой свободной грации танца по-иному, чем в первобытной мощи и диком одушевлении половецких плясок, воплотилось нечто гораздо большее, чем пряная экзотика. Молодые французские композиторы, с энтузиазмом аплодировавшие «Антару», хорошо почувствовали органическую враждебность музыки Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова прозе буржуазного быта и пошлости буржуазного искусства. Здесь пробились из земли источники, которые утоляли их жгучую жажду.
«Молодая французская школа и Новая русская школа сразу узнали друг друга и побратались», – писал выдающийся музыковед, тогда еще молодой критик, Жюльен Тьерсо. «Я думаю, – проницательно добавлял он, – что той и другой принадлежит будущее». Еще никому не ведомый, присутствовал в зале Клод Дебюсси. Затерянный в толпе, впервые слушал русскую музыку четырнадцатилетний Морис Равель. Каждый из них отозвался годы спустя на эти впечатления.
«Это не дебют русской музыки, а ее торжество!» – заявил с глубоким удовлетворением постоянно живший в Париже славный ваятель М. М. Антокольский. Отзывы в печати были почти единодушно восторженны. При отсутствии кассового успеха налицо был успех художественный. Э. Колонн пригласил Корсакова продирижировать двумя концертами весной будущего года. И хотя намерение Колонна не осуществилось, зато в следующем году под управлением русского композитора состоялся концерт в Брюсселе почти с той же программой, имевший решительный успех. Медленнее, чем литература, но не менее глубоко русская музыка входила в культурный обиход Франции и стран ее «сферы притяжения». Парижские концерты 1889 года были в этом отношении событием исторического значения.
СКАЗКИ ШЕХЕРАЗАДЫ
Среди сочинений, показанных в 1889 и 1890 годах, не было того, которому в дальнейшем предстояло стать самым известным и любимым из оркестровых произведений Корсакова. Не было «Шехеразады». Сейчас она не сходит с концертных эстрад Франции, Арабского Востока, Англии, Германии и Америки. А между тем ко времени концертов в Трокадеро она уже существовала, исполнялась и даже одобрялась Глазуновым, хотя не совсем одобрялась тем, кому была посвящена, – Стасовым.
Первая мысль о ней, по-видимому, возникла у композитора еще зимой 1887/88 года, среди работ над «Князем Игорем» Бородина. Вполне возможно, что заунывно-чарующие напевы половецкой девушки, так полно выразившие томительную прелесть бескрайной, солнцем выжженной степи, пробудили в его сознании образ иной музыки, более утонченной и узорчатой, образ Востока арабских сказок, уже раз пленивший композитора. Много воды утекло за эти двадцать лет после «Антара», прибавилось мастерства и опыта, убыло веры в свои силы.
Летом 1888 года в Нежговицах под Лугой зимние мысли оттаяли и пошли в рост. Корсаков был невесел. Писать он себя заставлял и ничего особенно хорошего от «Шехеразады» не ждал. «Сначала шло туго, – признавался он Глазунову, – но потом пошло довольно скоро и, во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь». Смутное стеснительное чувство шевелилось в нем. Ему не захотелось показывать свое произведение даже самым близким друзьям, даже Глазунову. Они услышали «Шехеразаду» только на репетициях Русских симфонических концертов.
Ромен Роллан как-то заметил, что искусство не всегда отражает жизнь художника, нередко оно восполняет то, чего не хватает в действительности. К сказкам Шехеразады это имеет прямое отношение. Уже в караван-сараях и кофейнях Каира или Дамаска волшебные рассказы о диковинах южных морей, о потаенных сокровищах, девушках дивной красоты, таинственных дворцах и могущественных духах – джиннах уносили воображение слушателей далеко от невзгод и тревог повседневного бытия. Их сказители были не только поэтами и несравненными повествователями. Они были зодчими и живописцами. Они воздвигали великолепные здания, украшали их бесценными мозаиками и коврами, населяли их отважными молодыми красавцами и коварными искусителями. Появившись в начале XVIII века во Франции в свободном переложении А. Галлана, переведенном затем на главные европейские языки, сказки «1001 ночи» стали для Запада выражением самого духа восточной фантазии и поэзии. Ирвинг и По, Гауфф и Гюго, Сенковский и Уайльд пленили новых читателей отблесками и переливами огня, зажженного легендарной рассказчицей, прекрасной и мудрой Шехеразадой. Но еще ближе, чем стихам и романтической прозе, этот дух был родствен музыке. Летом 1888 года, в пыльной атмосфере российской действительности, отображенной и заклейменной Чеховым, под пером усталого, обремененного заботами профессора консерватории возникло творение, благоуханное и сверкающее, как росинка на лепестке розы, – симфоническая сюита по сказкам «1001 ночи».
С «Шехеразадой» соединялись у композитора глубоко личные переживания. Согрет теплом сердца и несет частицу авторской души мотив сказительницы, пронизавший и скрепивший все четыре части. Чуть печальный, задумчивый ее напев звучит в светлом высоком регистре скрипки, всегда одной, всегда одинокой. И тем же чувством окрашены незабываемые картины теплого моря, то любовно покачивающего корабль на волнах, то грозно-взмятенного. Они возникают сразу после вступления. Вся первая часть – морская, и теми же солеными брызгами окроплен заключительный раздел финала. Ослепительно синими, темно-сапфировыми маринами окаймил композитор всю пьесу. Юношеское воспоминание о плавании под южными звездами сгустилось в музыкальный образ. Но таково волшебство гармонии, такова сила филигранно тонкой игры тембрами, что морской пейзаж «Шехеразады» и скользяще-легкое движение корабля в голубую даль стали таинственными и необычайными, стали первым из чудес старинной сказки.
Вторая часть вносит в повествование иной, тревожный и горестный оттенок. Корсаков думал назвать ее «Рассказом». От певучих интонаций веет покорностью судьбе. Намеком на роковые события, похоронившие былое великолепие, звучат яростные возгласы труб – не то воинские сигналы полчищ, сошедшихся для кровавой встречи, не то перекличка злых духов, мчащихся в песчаных ураганах Аравийской пустыни.
«Грезой» хотел назвать третью часть художник. О чем грезили тысячи слушателей восточных сказок и даже сам казнелюбивый деспот, султан Шахриар, внимавший нежному голосу Шехеразады? О красивейшем цветке на древе человеческих чувств, о прекрасной розе без шипов… Негромкая песня влюбленного, нежная истома восточной девичьей пляски; бубен, чуть слышный; хрустальный всплеск фонтана. Не пожирающий огонь страсти, а лучезарное тепло, не самозабвение, а любование. Словно пройдя грань волшебного кристалла, обаяние чувственной любви утратило вес и тяжесть.
Контрастом к этому уголку земного рая, к этой тишине, напоенной дыханием цветов, возникает в последней части бурное ликование народного праздника. «Багдадский карнавал», – шутливо пишет композитор в одном письме, очевидно намекая на родство этой части с известным «Римским карнавалом» Берлиоза. Но в отличие от всех музыкальных карнавалов багдадский праздник на вершине стихийного веселья срывается в стихию бедствия. Среди завывания ветров и разгула морских валов гибнет, разбиваясь о волшебную магнитную скалу, на мгновения появившийся утлый корабль. И снова бегут волны, стирая следы катастрофы, восстанавливая своим умиротворяющим ритмом великий порядок мироздания. И снова звучит сладостный голос, уже не раз звучавший в сюите, внося в нее покой, печаль и созерцательную ясность, – голос юной сказительницы, смягчившей жестокое сердце Шахриара.
В творчестве русских композиторов Восток занимает выдающееся место. От Алябьева и Глинки до наших современников. У Бородина он исполнен мощи и простодушного лукавства, у Мусоргского трагичен, у Чайковского времени «Щелкунчика» и «Иоланты» изысканно тонок, напоен ароматом древней мудрости. В русскую музыку, по тонкому наблюдению музыковеда Т. И. Соколовой, восточные интонации, восточные попевки вошли не только в своем прямом значении, для обрисовки Востока, но и как выражение известного душевного состояния: сладостной задумчивости, неги, любовного томления, полета мечты. «Шехеразада» Римского-Корсакова счастливым образом соединяет оба значения. Характерные черты восточной мелодии и напевного говора, характерные сложные ритмы танца, типичные звучания инструментов восточного оркестра претворены в «Шехеразаде» с чуткостью изумительной. И одновременно «Шехеразада» – произведение истинно лирическое, сообщающее нам с силой непосредственного вдохновения ту мечту, ту тоску, тот властный порыв к недостижимому, какие владели композитором не в одно только лето 1888 года, но во всю его жизнь.
Римский-Корсаков уклонился от иллюстрирования отдельных сказок. Музыкальные темы, являясь, как он сам потом писал, при различном освещении, выражая различные настроения, соответствуют не одним и тем же образам, а разным. Программность музыки приняла в «Шехеразаде» гораздо более субъективный характер, не требуя и даже не допуская распространенного литературного изложения. Форма, оставаясь совершенно своеобразной, сближалась в то же время с традиционной, эмоционально стройной и уравновешенной формой симфонии. В ряду оркестровых произведений Корсакова «Шехеразада» – сочинение наиболее симфоничное.
Быть может, живо ощутимый лиризм, непривычная открытость чувств стесняли автора и мешали ему оценить свое создание, как должно. Вероятно, такова причина, почему до Парижа и Брюсселя оно дошло с многолетним опозданием. «Шехеразада» и в Петербурге за все двенадцать лет до конца века была исполнена четыре раза.








