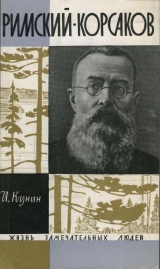
Текст книги "Римский-Корсаков"
Автор книги: Иосиф Кунин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ГЛАВА II. НА СУШЕ И НА МОРЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК
В истории России 1861 год – переломный. В истории русской музыки – это канун больших событий. Пройдут немногие месяцы, и Антон Рубинштейн откроет в Петербурге консерваторию, а Милий Балакирев – Бесплатную музыкальную школу. Уже создано, действует, вызывает нарекания и хвалы Русское музыкальное общество. Все области художественной жизни вовлекаются в процесс глубоких и быстрых изменений. Новая эпоха вызывает к деятельности поколение новых людей.
Поздней осенью 1861 года молодой чиновник министерства юстиции Чайковский поступает в музыкальные классы. Годом позже химик и любитель музыки Бородин начинает писать свою первую симфонию. Пробуют силы в симфоническом роде Балакирев, Цезарь Кюи, Мусоргский. Пришла пора появиться на свет русской симфонической школе.
Со своими наивными композиторскими попытками, необыкновенной восприимчивостью и юношеской влюбленностью в музыку Римский-Корсаков, едва переступив порог Балакирева, оказался в самом средоточии музыкальной «молодой России». Народа в кружке было немного: кроме самого Милия Алексеевича, только Мусоргский и Кюи, да еще два любителя, дипломат Лодыженский и почвовед Гуссаковский; оба внезапно появлялись у Балакирева и еще внезапнее исчезали, много обещали и мало делали. Зато жизнь здесь кипела. Без обиняков обсуждались старые и новые произведения. Суд был скорый, приговоры выносились решительные. Были тут и односторонность, и свежесть чувства, и мальчишеский задор. Была огромная, еще искавшая выхода и форм одаренность. Была гениальная чуткость к новым задачам искусства.
Рутина, школярство, посредственность высмеивались жестоко. Дружным презрением встречалось все, что казалось похожим на сентиментальность или отзывалось дешевой красивостью. На оперных сценах царила в то время мелодичная и виртуозная итальянская опера, приводившая в безграничный восторг петербургских меломанов. Для балакиревцев слово «итальянщина» означало предел пошлости. Антон Рубинштейн, человек бурной энергии и музыкальный деятель первого ранга, стремился укоренить у нас первые начатки музыкального образования и новые для русских композиторов элементы сонатно-симфонической формы. Немецкой формы, ибо она в конце XVIII века сложилась в странах немецкой культуры. В концертных программах руководимого им Русского музыкального общества видное место заняли Гайдн, Моцарт, Вебер, Мендельсон. К симфонической форме на свой лад тянулись и балакиревцы. Однако эти воинственные музыканты немедленно окрестили Русское музыкальное общество «немецким музыкальным департаментом», а его главу «Тупинштейном» и «Дубинштейном». Была та любопытная пора, когда веселее, интереснее, нужнее было говорить «нет», чем «да». Весело было наперекор знатокам считать Баха – педантом, Моцарта – деревянным и пустым, Шопена – салонным и сладким, Мендельсона – кислым, Вагнера – бесталанным, Даргомыжского – нескладным. Избытком почтительности балакиревцы не грешили. У своих любимых композиторов – Бетховена, Шумана, Берлиоза, даже у восторженно ценимого Глинки – они охотно находили слабости самые непростительные, подлинные или мнимые. Таково было характерное веянье эпохи, бросившей смелый вызов авторитетам и легко доводившей этот вызов до преувеличения.
По кружку и вождь. «Молодой, с чудесными подвижными, огненными глазами, с красивой бородой, говорящий решительно… и прямо; каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, помнящий каждый известный ему такт, запоминающий мгновенно играемые ему сочинения…» таким на всю жизнь остался в памяти Корсакова Балакирев шестидесятых годов. «Технический критик, – подчеркивает Корсаков, – он был удивительный. Он сразу чувствовал техническую недоделанность или погрешность, он сразу схватывал недостаток формы… и тотчас, садясь за фортепиано, импровизировал, показывая, как следует исправить или переделать сочинение».
Принесенные Корсаковым с собою музыкальные наброски получили неожиданное одобрение. Что-то сразу расположило к нему Балакирева, обладавшего счастливым даром с первого взгляда горячо и глубоко привязываться к симпатичным ему людям. Уже очень скоро отцовская нежность и забота стали сквозить в его дружбе с пытливым и застенчиво-восторженным морским кадетом.
Занятия с Канилле продолжались, но уже неясно было, кто кого учит: даровитый пианист – способного ученика или молодой композитор – даровитого пианиста. Из отрывочных набросков оркестровой пьесы, показанных Балакиреву, Корсаков по решительному требованию Милия Алексеевича развивал и вырабатывал теперь «форменную» симфонию. Каждый новый кусок он приносил Балакиреву, выслушивал энергичную критику и дельные советы, переделывал по нескольку раз, пока, наконец, все не становилось на место. И с каждым шагом вперед рос опыт юного композитора и росла его вера в свои силы.
На встречах у Балакирева исполняли в четыре руки поздние квартеты Бетховена, симфонии Шумана, играли музыкальные новинки. Участники кружка честно показывали друг другу все наработанное ими за неделю. Критика бывала резкой и нелицеприятной. Обижаться не полагалось. В кружке господствовала чудесная творческая атмосфера доверия, требовательности и доброжелательства. Младшие по силе таланта, пожалуй, даже превышали старших, но безоговорочно принимали превосходство их опыта, знаний и вкуса. Старшие, даже рубя сплеча, с горячей заинтересованностью относились ко всему, что приносили на суд Мусоргский, Гуссаковский, Корсаков, Лодыженский. Счастливая мысль, интересный замысел, удачный сюжет легко делались общим достоянием, их дарили без сожалений и принимали без обиды.
Встречи у Балакирева хоть и держались музыкой, но ею не ограничивались. Живой интерес привлекала литература. Известный художественный критик Владимир Васильевич Стасов выразительно читал вслух отрывки из «Одиссеи» Гомера. Как-то художник Мясоедов прочел «Вия» Гоголя. Впечатления, как семена, западали в душу, чтобы когда-нибудь взойти и всколоситься.
Тем временем состоялось назначение Воина Андреевича начальником Морского корпуса. Готовились серьезные преобразования в либеральном духе. Впрочем, младший из братьев был так увлечен музыкой, что уже как-то мало вникал во все это. Перед ним открывался путь ясный и счастливый. В следующем музыкальном сезоне Балакирев твердо обещал найти случай исполнить его близившуюся к окончанию симфонию.
Вдруг все переменилось. Тяжело заболел отец. Ника, поехавший вместе с Воином лошадьми в Тихвин, уже не застал его в живых. Осталась только память о чрезвычайно спокойном, кротком и правдивом человеке, о его бескорыстии и справедливости. В последний раз юноша увидел старинные стены Большого монастыря и кладбище, где прибавилась к прежним новая могила. Простился с домом и садом. Софья Васильевна переехала в Петербург к Воину, ставшему отныне главой семьи, «отца вместо».
Свою власть ему пришлось проявить очень скоро. Весною Ника кончил корпус и был выпущен во флот гардемарином. Ему предстояло (в числе лучших по успехам воспитанников) длительное заграничное плавание. Столкнулись две воли. Столкнулись два жизненных идеала. Младший боялся прервать свое музыкальное развитие, предпочитая немедленный выход в отставку без чина и скудный заработок человека без специальности. Старший решительно воспротивился. Он не верил ни в исключительность дарования Ники, ни в реальную возможность жить в России на музыкальные заработки.
Еще осенью 1860 года он запретил брату продолжать уроки у Канилле, но потом смягчился. Теперь он, несомненно, жалел о допущенной слабости. Из приятного развлечения музыка грозила превратиться в цель всей жизни Ники. Это внушало брату глубокую тревогу. Взгляды Воина Андреевича, человека, несомненно, выдающегося, океанографа, просветителя, педагога, одного из лучших представителей «эпохи реформ», сложились давно и были продуманы до конца. «Специальность, очерчивая с самого начала предел карьеры человека, умеряет его честолюбие. Отдаляя от его воображения все помыслы о случайном и, следовательно, редко вероятном возвышении, – писал он еще в 1851 году, словно предвидя соблазны, встающие на пути молодых людей вроде Ники, – она примиряет человека с его судьбой и, исцеляя от бесполезных мечтаний и воздушных замков, направляет весь ум, все способности его к практической существенности… Специальный человек[3]3
Теперь мы бы сказали – «специалист».
[Закрыть] стремится к тому только, чтобы дарованный талант не зарыть в землю, а извлечь из него все, что может служить к лучшему исполнению обязанности и к устроению своего личного благосостояния». Музыкальный талант не мог служить к лучшему исполнению обязанностей, скорее он был поводом для бесполезных мечтаний. Мать вполне согласилась с доводами Воина.
Напрасно встревоженный Балакирев предлагал хлопотать об оставлении гардемарина Римского-Корсакова в Петербурге. Против определенно выраженного требования семьи Ника не пошел. 19 октября 1862 года на пристани в Петербурге он простился с пришедшими проводить его Балакиревым, Кюи и Канилле. Двумя днями позже клипер «Алмаз» поднял паруса и покинул внешний рейд Кронштадта. Глубокая трещина пролегла в отношениях Николая Андреевича к брату и матери. Кажется, что изгладиться вполне она уже не смогла никогда.
В ПЛАВАНИИ
Ушел в плавание мальчик, вернулся взрослый. Пережито, передумано было за два с половиной года больше, чем за все восемнадцать лет перед тем.
Ушел музыкант, вернулся моряк. Правда, командира из Ники не получилось. Он так и не выучился приказывать по-военному, покрикивать, ругаться, ободрять И взыскивать. А между тем нравы на флоте были жестокие. «То время было – время линьков и битья по морде, – вспоминал Николай Андреевич. – Мне несколько раз, волею-неволею, приходилось присутствовать при наказании матросов 200–300 ударами линьков по обнаженной спине в присутствии всей команды и слушать, как наказуемый умоляющим голосом выкрикивал: «Ваше высокоблагородие, пощадите!» Отвратителен стал Корсакову капитан «Алмаза» П. А. Зеленой – ханжа, грубый с офицерами, жестокий с матросами, елейный перед начальством; страшен и гадок – адмирал С. С. Лесовский, как-то в приступе бешеного гнева откусивший провинившемуся матросу ухо. Среди офицеров, даже молодых, значительную часть составляли откровенные крепостники, дурно воспитанные тупицы, чванящиеся своим невежеством и своим дворянством.
Борозда врезалась в сознание навсегда. Сорок три года спустя, узнав о восстании на броненосце «Князь Потемкин», он немедленно откликнулся в письме к жене: «А все это плоды мордобития, сечения, расстреляний и повешений».
На многое открылись у юноши глаза. Привычный заурядный офицерский и чиновничий быт показался постыдным. Кто повел Корсакова по пути познания? Белинский? Шекспир? Шиллер? Их он читал усиленно в годы плавания. Нет, прежде надо назвать здесь Гоголя и Герцена. Первый показал жалкую пошлость «существователей» и «приобретателей», подарил будущему композитору драгоценное оружие юмора со всеми оттенками и переходами от легкой шутки и насмешливого понимания до гневной иронии и скорбного, страдальческого смеха. Второй сорвал покров лицемерия с трагедии русской истории, бросил резкий свет-обличитель на государственную и частную жизнь. «Мы хотим быть протестом России, ее криком освобождения, ее криком боли», – писал Герцен.
Когда в письме к брату мы находим строки «одного русского писателя» и узнаем пламенное перо издателя «Колокола», становится понятно, как вырос недавний кадет Римский-Корсаков. «…От всего склада жизни народной дворянство упорно сохранило все дурные ее стороны, – писал Герцен; – бросая за борт вместе с предрассудками строгий чин и строй народного быта, оно осталось при всех грубо барских привычках и при всем татарском неуважении к себе и к другим. Тесная обычная нравственность прежнего времени не заменилась ни аристократическим понятием чести, ни гражданским понятием доблести, самобытности; она заменилась гораздо проще немецкой казарменной дисциплиной во фрунте, подлым унижением, подобострастным клиентизмом в канцелярии и ничем вне службы»[4]4
Корсаков извлек эти строки из «Концов и начал» Герцена, из «Письма пятого». Оно появилось в «Колоколе» 22 октября 1862 года.
[Закрыть]. Переписывал с величайшим одобрением эту тираду отпрыск старинного дворянского рода – черта, характерная для шестидесятых годов прошлого века. А сейчас же за беспощадным осуждением дворянства в статье Герцена следовало восторженное слово о декабристах.
Вожаком молодых вольнодумцев на «Алмазе» был штурманский кондуктор П. А. Мордовин – горячий герценист, усердный читатель и распространитель «Колокола». «Все симпатии мои были к Мордовину», – вспоминал Римский-Корсаков. Вольная газета, издаваемая Герценом, посвящала довольно много заметок флотским делам и безобразиям. Читали «Колокол» на флоте с жадностью даже люди весьма далекие от радикальных политических взглядов его издателя.
С началом польского восстания положение изменилось. Герцен решительно стал на сторону повстанцев, спас этим, как он сам потом говорил, честь русского имени, но зато сразу оттолкнул от себя всех патриотов по привычке и демократов по недоразумению. В марте 1863 года клипер «Алмаз» был спешно направлен в крейсерское плавание между Либавой и Полангеном[5]5
Лиепая и Паланга.
[Закрыть], дабы пресечь возможный подвоз оружия восставшим. Споры на «Алмазе» между «прогрессистами» и «ретроградами» доходили теперь до открытых ссор. Но по-прежнему дорого и свято было Корсакову дело польской революции, или, как он написал в воспоминаниях, «дело свободы самостоятельной и родственной национальности, притесняемой ее родной сестрой – Россией». Год-два назад вольномыслие могло казаться модой, сейчас, в разгар шовинистической реакции, когда Чернышевский был в каземате, а Герцен почти одинок, оно становилось пробой чистоты. Эти настроения и веяния еще более отдаляют Корсакова от родных.
«С матерью и братом у меня стало так мало общих интересов, – писал он Балакиреву 23 ноября 1863 года; – мать для меня стара, а брат очень мало может мне дать, как я вижу из его писем; это служащий, деловой человек. Мать мне пишет боговдохновенные письма, жалеет об упадке молодого поколенья, просит молиться богу, не говорить с вольнодумцами и проч. Если б она взглянула мне в душу, то не перенесла бы. Бедная мама! А брат, да что брат?..»
Беда, что даже увлечение музыкой с течением времени начало как-то тускнеть. Первые месяцы в самых неблагоприятных условиях морского плавания и портовых стоянок он продолжал жить музыкальными интересами. Написана и оркестрована была третья часть симфонии и оказалась ее лучшей частью. Роились в голове музыкальные темы, планировались, как любил выражаться Балакирев, новые симфонии и симфонические пьесы. При малейшей возможности, на более длительных стоянках, Корсаков спешит в концерт и оперный театр, покупает и с упоением читает партитуры Бетховена. В частых письмах Балакиреву и Кюи делится впечатлениями, чутко ловит вести о музыкальных новинках Петербурга, замыслах членов балакиревского кружка. Но время идет. Из-за нередких перемен почтового адреса слабеет связь с петербургскими друзьями. Глохнет источник музыкального творчества. Воспоминания смешиваются с раскаянием. «Зачем я не– остался в Питере; извольте видеть: убоялся скудости материальных средств! – пишет он Балакиреву. – Нет, нужно было бросить службу и жить кое-как, пока не выучился бы порядочно играть; для такого дела, как быть композитором, нужно жертвовать всем, а то ничего не выйдет».
Но и боль становится привычной, следовательно, притупляется. А между тем кругосветное плавание возобновляется. После подавления польского восстания клипер покидает Балтику и берет курс на Нью-Йорк. Впервые Корсаков видит океан. Путь «Алмаза» лежит к берегам Северной, а потом и Южной Америки. Громадное, ни с чем не сравнимое впечатление осталось от Ниагары. На всю жизнь сохранился в памяти морской переход в Рио-де-Жанейро.
Он стоит на мостике, спокойный и зоркий – недавно произведенный мичман. Ночная вахта только началась. Воздух чист и мягок. Светящиеся голубоватые полосы за кормой струятся и переплетаются, как пряди шелковистых волос. Темная синева неба сбрызнута крупными алмазами и запорошена звездной пылью. Поскрипывают, покачиваются снасти, упруго несут ветер паруса. Корабль скользит, стремительно раздвигая форштевнем твердь океана. Безмолвный восторг охватывает вахтенного. Ему странно близка эта сияющая южная ночь, ему томяще сладостна колыбельная волн и снастей. Ничто не ускользает от него. Какой-то таинственный процесс совершается в нем, бесценные сокровища ложатся в память. Придет срок, и сверканье звезд взойдет в его музыке, раскинется во всю ширь влажная пустыня океана, волны и ритмически покачивающиеся мачты запоют свою песню. А пока худощавый мичман с внимательным, чуть замкнутым выражением лица, не допускающим фамильярности, исправно несет вахту. На клипере все в порядке.
«Чудные дни и чудные ночи! Дивный, темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось. Какое сияние Млечного Пути с созвездием Южного Креста, какая чудная звезда Канопус… Сириус, известный нам по зимним ночам, казался здесь вдвое больше и ярче… Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесны тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете…» – писал потом Николай Андреевич. Как сильны были впечатления, чтобы так ярко вылиться тридцать лет спустя!
С восторгом вспоминал он Бразилию, далекие прогулки в окрестностях Рио-де-Жанейро, пальмовые и бамбуковые аллеи, диковины Ботанического сада. Предстоял поход к мысу Горн и заманчивое возвращение через Тихий и Индийский океаны, вокруг Африки, обратно в Европу. Но, как поговаривали в офицерской кают-компании, не этого хотел капитан. Умышленно вызванная им во время двухдневной бури течь вынудила «Алмаз» вернуться в док для починки. Вслед за тем Зеленой, ссылаясь на ненадежность судна, добился приказа об отзыве клипера. 21 мая 1865 года «Алмаз» бросил якорь в Кронштадте, пробыв в плавании два года и семь месяцев.
Сам Николай Андреевич так подвел итоги своему путешествию: «Много неизгладимых воспоминаний о чудной природе далеких стран и далекого моря; много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы… А что сказать о музыке и моем влеченье к ней? Музыка была забыта, и влеченье к художественной деятельности заглушено…. Я сам стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку; мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно, и не было мне жаль тех разлетевшихся мечтаний».
ГЛАВА III. МОГУЧЕЕ СОДРУЖЕСТВО
ТРИ ОТЗЫВА
Первый: «С тех пор как мне случается по временам говорить о явлениях музыкальной жизни Петербурга, я в первый раз берусь за перо с таким удовольствием, как сегодня. Сегодня мне выпала действительно завидная доля писать о молодом, начинающем русском композиторе, явившемся впервые перед публикой со своим крайне талантливым произведением, с первой русской симфонией[6]6
Была ли Первая симфония Корсакова действительно первой русской симфонией? На этот вопрос ответить мудрено. Ранее 1865 года написаны три симфонии А. Г. Рубинштейна, однако в них не видно черт русской симфонической школы. Много раньше написана симфония Глинки, но она не была завершена и не исполнялась. Сам Николай Андреевич относился впоследствии к своему формальному первенству с нескрываемой иронией.
[Закрыть]. Публика слушала симфонию с возрастающим интересом… И когда на эстраде явился автор, офицер морской службы, юноша лет двадцати двух… все встали, как один человек, и громкое единодушное приветствие начинающему композитору наполнило залу…»
Второй: «Эта музыка действительно переносит нас в глубь волн – это что-то «водяное», «подводное» _ настолько, что никакими словами нельзя бы выразить ничего подобного… Это произведение принадлежит таланту громадному в своей специальности – живописать при помощи музыки. Вот «музыкальная картина», которая действительно заслуживает свое название…»
Третий: «Можно смело сказать, что во всех отношениях наш молодой композитор в течение двух лет, протекших между появлением его симфонии и исполнением в Москве «Сербской фантазии», значительно подвинулся вперед… Вспомним, что г. Римский-Корсаков еще юноша, что пред ним целая будущность, и нет сомнения, что этому замечательно даровитому человеку суждено сделаться одним из лучших украшений нашего искусства».
Три оркестровых произведения Римского-Корсакова, вызвавшие столь живой отклик, – Первая симфония, музыкальная картина «Садко» и «Фантазия на сербские темы». Три рецензента – Кюи, Серов, Чайковский. Еще раз все переменилось: молодой Римский-Корсаков вопреки благоразумию вступил на тернистое поприще сочинителя.
Он не оставил флота, не снял формы. Но зимняя береговая служба не отнимала много времени, а в летние учебные плавания его вскоре перестали назначать. С осени 1865 года возобновились встречи с Милием Алексеевичем, Кюи, Мусоргским. Постоянным, неизменным их участником был Стасов. Все в нем отзывалось щедростью природы, не пожалевшей на Владимира Васильевича ни роста, ни дородства, ни безграничной, чисто юношеской восторженности и отзывчивости, ни задора, торопящегося каждое теоретическое положение довести до крайнего предела. Знания Стасова были так же велики, как его страстное желание обратить их на службу молодому искусству. Он лично знал Глинку, дружил, а потом раздружился с А. Н. Серовым, оказал влияние на Балакирева, бесил Тургенева, обожал Толстого.
С ним на сборищах кружка было празднично, определения «бесподобно», «тузово», «капитально» так и гудели в воздухе, то попадая в цель без промаха, то шумно проносясь мимо. Без него становилось как-то пусто. Корсаков сперва дичился Владимира Васильевича (Стасову было уже за сорок, и зеленой молодежи он казался стариком), потом привык и оценил его – смелого вожака и верного друга художников.
За время отсутствия Николая Андреевича появился в кружке совсем новый и на редкость симпатичный собрат – молодой профессор химии Александр Порфирьевич Бородин, человек большого ума и спокойного, почти никогда и ничем не колеблемого добродушия. Корсаков стал захаживать к нему в лабораторию, где Александр Порфирьевич колдовал над колбами и ретортами, не прерывая беседы на музыкальные темы. Его мягкие, чуть восточные глаза, его неторопливые движения, его богатая одаренность, светящаяся в разговоре и ощутимая даже в молчании, производили неотразимое впечатление.
Иногда беседы заканчивались запоздно, уже не в лаборатории, а на квартире Бородина, расположенной в том же здании. Извлекались из футляров флейта и гобой, на которых наигрывал хозяин, показывая гостю, какие тут приемы могут быть пущены, в дело. Присаживалась за рояль приветливая хозяйка. Домовито кипел самовар; на колени Корсакову тяжело вспрыгивал кот Васенька и располагался поудобнее. На минутку отлучившийся в лабораторию Бородин возвращался, оглашая коридор причудливыми последованиями звуков, благо соседей не было. Незаметно наступала глубокая ночь.
Совсем иным был второй из друзей Корсакова, заменивших ему в эти годы семью, увлечения, заморские страны – все на свете. Модест Петрович Мусоргский – молодой гвардейский офицер в отставке, самобытный пианист и певец-любитель, твердо обещавший стать столь же самобытным композитором. Ни в ком из балакиревцев не давала себя знать с такой силой свобода от штампов, от готовых художественных решений, от условной, благообразной красоты. «Мусоргский и в самом своем безобразии говорит языком новым. Оно некрасиво, да свежо», – признавал Чайковский, весьма далекий по своим художественным идеалам от автора «Годунова» и «Хованщины». «Мусоргский был враг всякой рутины и обыденности не только в музыке, но и во всех проявлениях жизни, даже до мелочей», – писала одна из постоянных участниц музыкальных сборищ кружка.
Раз увидев, невозможно было его забыть. Все в нем было необычно – манера говорить вполголоса, странно переиначенные словечки, острые замысловатые шутки, порою ставившие в тупик. Его ненависть к рутинерству, школярству, к «немецкой музыкальной партии» доходила до предела. Как и Балакирева, его сильно коснулась мутноватая волна вражды к полякам (она оставила след в польских сценах «Бориса Годунова»), А рядом жили в нем глубокое сочувствие к обездоленным и любовь к «могучему и бессильному» русскому народу. Доверчивый, мучительно обидчивый, самоуверенный, робкий, это был подлинный самородок, весь из золота и кварца, металла и глины, весь из острых углов, твердый и хрупкий. Беречь его хрупкость было некому, да и никто, кажется, не понимал, что надо беречь. Близость со Стасовым пришла позже, но и тогда осталась скорее творческим и горячим содружеством, чем дружбой равных. Пока же Мусорянина, как он сам себя называл, считали в кружке, с легкой руки Балакирева, необыкновенно талантливым недотепой, относились к нему, что касается старших, доброжелательно, но несколько свысока.
Одним из таких старших в кружке был или считался офицер инженерных войск, талантливый, но неглубокий композитор, насмешливый, любезный и слегка себе на уме Цезарь Антонович Кюи. Бойкий, язвительный полемист, зоркий, хотя не всегда дельный критик, он стал начиная с 1864 года признанным глашатаем идей и оценок, созревавших в балакиревском кружке и благодаря Кюи получивших выход на страницы газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Отчасти в силу его личных особенностей кружок быстро встал в резко враждебные отношения к большинству русских музыкальных деятелей. Особенной пользы это обособление никому не принесло. Самому же Кюи выпало на долю пережить и почетную роль глашатая, и свою известность, и всех без исключения членов кружка: он умер в марте 1918 года.
Другим, и на этот раз безоговорочно старшим, был Балакирев. Прирожденный вождь и воитель, он увлек за собой на новые пути национального искусства весь кружок. Первостатейный композитор, отмеченный и как бы благословленный на подвиг самим Глинкой, деятельный дирижер, пианист, организатор. Балакирев в те годы являлся единственным музыкантом-профессионалом среди своих друзей, еще не сбросивших скорлупку любительства. Его страстная убежденность и непоколебимая уверенность безотчетно передавались окружающим и создавали совершенно особую, магнетическую атмосферу доверия и подчинения. «Он поражал смелостью своих независимых суждений и образа действий и очарованием своей необыкновенной личности… Он был беспощаден и иногда очень резок в спорах, не допуская пи в чем никаких компромиссов, но это не мешало его необыкновенной доброте сердца проявляться везде, где к тому представлялся случай», – писал его любимый ученик и друг С. М. Ляпунов. Добавим все же, что, как у многих горячих и крутых людей, доброта Милия Алексеевича уживалась со злобой, убежденность в своей правоте – с неумением уважать чужое мнение и чужую личность. Он был пристрастен. И Корсакову привелось полной чашей испить сперва сладость, потом горечь этого пристрастия. «Если Балакирев любил меня, как сына и ученика, то я был просто влюблен в него, – вспоминал Римский-Корсаков. – Талант его в моих глазах превосходил всякую границу возможного, а каждое его слово и суждение были для меня безусловной истиной». Множество музыкальных пристрастий и навыков, художественных притяжений и отталкиваний, вплоть до излюбленных гармонических ходов и отдельных приемов оркестровки, пришло к ученику от учителя, вплелось в ткань музыки Корсакова, стало ее неотделимой частью, как перешедшие от отца к сыну цвет глаз, привычный жест, привычное присловье.
Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский. Римский-Корсаков был последним в алфавитном порядке и младшим по возрасту. Их было пять. «Пятеркой» их и стали называть во Франции и Германии, когда они получили там известность. Кюи предпочитал тактически удобное, гибкое наименование – Новая русская школа. Но подлинным именем композиторов балакиревского кружка стало почетное – «Могучая кучка». Так сказал о них в 1867 году Стасов, верный друг, вдохновитель и защитник в газетной перепалке. Крылатое слово подхватил А. Н. Серов, превратил его в издевку, в ироническую кличку, но ирония отпала, а кличка обернулась именем.
После польского восстания 1863 года, подавленного беспощадно, после одинокого, как крик, выстрела Каракозова и запрещения некрасовского «Современника» атмосфера русской жизни существенно меняется. Постепенно спадает, так и не смыв до конца крепостнических порядков, волна преобразований. Реакция переходит в наступление, успешно используя и подогревая враждебные полякам националистические настроения, отвлекая внимание полуобразованной массы от коренных вопросов жизнеустройства и настоящих бед. А меж тем идет распад устойчивого дореформенного быта, неотвратимо разоряется и нищает деревня, ограбленная при «освобождении». Аудитории университетов, галерки театров, дешевые места в концертных залах заполняет разночинная молодежь обоего пола, жадно ищущая ответа на «проклятые вопросы», настороженно чуткая ко всякой новизне, ко всякому горячему и убежденному слову. Кое-кто в порыве увлечения отвергает музыку как праздную барскую забаву. Зато для других она становится правдой в звуках, неподкупным голосом народного страданья и народных чаяний, могучим резонатором чувств, глубокой душевной потребностью. Из тесного круга музыка выходит на простор.








