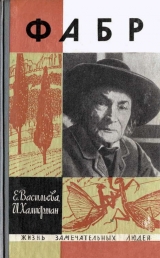
Текст книги "Фабр"
Автор книги: Иосиф Халифман
Соавторы: Евгения Васильева
Жанры:
Зоология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
«…Аммофила, парализуя гусеницу, тоже производит уколы, передвигаясь вдоль туловища, но делает это постепенно, колет кольцо за кольцом. Точность ее действий легко объяснить однообразием внутреннего строения добычи. Тахит же после первого укола совершает настоящий скачок. Он действует так, словно знает, где именно помещаются грудные узлы богомола».
Но даже вооруженный пилами богомол с его оригинальной дислокацией нервных узлов не идет ни в какое сравнение с дичью, какую заготовляет для потомства кольчатый помпил или каликург. Эта оса почти с шершня величиной охотится на чернобрюхого тарантула, чей укус смертелен для воробья и крота, небезопасен для человека. Изучив строение этого паука, Фабр решает, что осе потребуется всего один удар – в слитный нервный узел добычи в ее головогруди.
Увидеть единоборство четырехкрылого каликурга и восьминогого тарантула в природе не удалось, наблюдения под стеклом дали мало, и Фабр решает провести опыт на арене «более близкой к естественным условиям».
Широкая чашка наполнена песком. В нем углубление – норка тарантула; рядом положено пропитание – две кобылки. В песок воткнуты головки чертополоха, на которые Фабр капнул меда для каликурга. Прикрыв чашку колпаком из металлической сетки, исследователь впускает под нее паука и осу.
Проходит день за днем. Каликург мирно пасется на цветах, тарантул сосет свою кобылку. В искусственной норке тишь и благодать.
Значит, надо еще приблизить условия опыта к природным, устроить каликурга у входа в настоящее жилье тарантула. Сказано – сделано! Расчищенная вокруг норки площадка прикрыта вместе с каликургом металлической сеткой. Однако упрямец ползает по сетке, никак не реагируя на норку, со дна которой блестят глаза тарантула.
Тогда Фабр заменяет металлическую сетку стеклянным колпаком. По гладкой поверхности каликургу не подняться, а вынужденный бегать по земле, он натолкнется на норку паука. Так и есть! Но каликург проявляет неожиданную прыть. Он сразу спускается в логово страшилища. Из глубины слышен шум… Наконец наверх выбирается тарантул. А каликург? Убит?! Ничего подобного, выходит следом, и тогда тарантул снова шмыгает в норку.
Так три раза. Тогда Фабр меняет не только место действия, а и исполнителей. В опыт взяты каликург пестрый, почти такой же громадный, что кольчатый, а к нему паук эпейра, самый большой в Провансе после тарантула.
Здесь пора вкратце напомнить: в этом, как и в большинстве других случаев, Фабр описывает поведение только самок, потому что в основном они одни строят гнезда, охотятся, заготовляют корм, охраняют расплод. Самцы же лишь иногда попадают в поле зрения натуралиста, и ему впоследствии поставят это в минус. Так или иначе его внимание отдано главным образом широкому кругу явлений, связанных с материнскиминстинктом.
Но вернемся к опыту. Оса одолела паука, она подгибает брюшко и выпускает жало.
«…Минутку, читатель! Куда вонзится стилет? – спрашивает Фабр. – Судя по тому, чему нас научили другие осы, – в грудь, чтобы уничтожить движение ножек. Не краснея за наше общее невежество, признаемся: оса знает больше нас». Около рта эпейры есть два ядовитых крючка, два острых отравленных кинжала. И каликург производит два укола: «первый – в рот паука, чтобы обезопасить самого себя, второй – в грудной узел для безопасности личинки».
Фабр еще долго занимается другими помпилами и их дичью, а также гнездами помпил. Он устанавливает, что некоторые из них усердно роют для потомства норки, помпил же черный – верх коварства! – затаскивает парализованного паука в его же паучью воронку и в этом шелковом гамаке, сплетенном жертвой, откладывает на ее брюшко яйцо. Кольчатый каликург норы не роет, он прячет потомство в случайную щель в стене, только закрывает вход двумя-тремя крошками штукатурки.
Другие осы, например гиганты сколии, с размахом крыльев больше десяти сантиметров тоже обходятся без гнезд. Сколия роется в перегное, в навозе, пока не найдет личинку жука бронзовки. Нервные узлы личинки слиты, и парализатор ограничивается одним ударом. Но нанести его не просто: дичь сильна, а ее нервный узел очень мал, к тому же сколия действует в тесном подземелье. На брюшко парализованной добычи сразу откладывается яичко, и все. Оса отправляется на поиски следующей жертвы.
В отличие от бездомовки и бродяги сколии мелкие осы эвмены тщательнейше сооружают уютные, даже комфортабельные детские. Попадаются они прямо на камнях, висят на тоненьких ветках, на сухих травинках. Когда гнездо на плоскости, оса начинает с колечка фундамента. Строительный материал она добывает на ближайшей тропинке, на укатанных дорогах. Почва тверда как камень, оса скоблит ее концами челюстей и, смочив слюной, уносит. Получившийся цемент водоустойчив. Потом оса ищет песчаные зерна, вертит в челюстях прозрачные блестящие крупинки, отбирает подходящие по весу, втыкает их в еще мягкий цемент строительной основы. Потом снова цемент и снова камешки; наружу они могут выступать как угодно, зато внутри стенка совершенно гладкая. Вскоре сооружение принимает форму правильного купола. На его вершинке оса оставляет круглое отверстие, а над ним возводит расширенное горлышко – воронку. Оно «слеплено из чистого цемента и похоже на изящное горлышко вазы». Когда в ячейку будет положена провизия, а там и яичко, оса закроет отверстие цементной пробкой, в которую воткнет камешек. Только один.
Эвмены Амедея часто утыкают сооружение крохотными пустыми побелевшими на солнце раковинками улиточки полосатой. Такие постройки напоминают Фабру «штатулки, сделанные терпеливой рукой». Другой эвмен, яблоковидный, пристраивает горшочек размером с вишню на ветке. Он из одного цемента, без камешков и тоже с горлышком на вершине.
Для своих личинок эвмены заготовляют мелких гусеничек, их в гнезде по нескольку штук, и они не вполне парализованы: бьются, едва до них дотронешься. Но мать и не откладывает яичко на провизию. Оно подвешено к верхушке свода на тоненькой паутинке. Провизия же сложена кучкой под яйцом.
Наступает «второй акт чудесного спектакля. Личинка вылупилась. Как и яичко, она подвешена к потолку камеры, висит головой вниз. Но паутинка, придерживающая ее, стала длиннее и состоит не только из тонкой нити, но также из продолжения, подобного кусочку ленты. Личинка обедает, вися головой вниз: роется в брюшке одной из гусениц. Соломинкой я заставляю ее прикоснуться к еще не тронутым гусеницам. Они шевелятся, и тотчас личинка удаляется от кучи. Но как? То, что казалось лентой, на самом деле оболочка яйца, сохранившая продолговатую форму; это трубка, и личинка втягивается в нее задом, как в футляр, и поднимается к потолку, становясь недоступной для копошащихся внизу гусениц. Едва все успокоится, личинка спускается и опять принимается за еду».
Пока личинка подрастает и крепнет, собранные матерью для ее пропитания гусеницы, напротив, слабеют. Приходит время, будущий эвмен падает на оставшуюся дичь и доедает ее уже запросто, без всяких маневров.
Изучая инстинкты и нравы одиночных ос, Фабр выделяет и тех, кто никак не парализует добычу, а сразу убивает ее жалом. Таков знакомый нам бембекс, изо дня в день доставляющий личинкам свежую пищу. Таков и филант – пчелиный волк, выкармливающий личинок свежими трупами медоносных пчел. Но, убив пчелу, филант не тотчас уносит ее в гнездо, а сначала выдавливает из брюшка и зобика жертвы нектар или мед, жадно его выпивает и лишь потом отдает личинке мясную пищу.
Фабр пробовал кормить личинок филанта медом, они его не брали. Он предложил обмазанных медом пчел. Личинки едва пригубили корм и все-таки через несколько дней погибли – то ли от голода, то ли отравившись каплей сладкого.
Медовая приправа принесла гибель и другим плотоядным личинкам – бембекса, тахита, церцерис.
«Но почему знает филант, что сироп, которым он лакомится сам, вреден его личинкам? На этот вопрос мы еще не имеем ответа. Мед, говорю я, опасен для личинки. Пойманную пчелу необходимо лишить меда, но так, чтобы не попортить самой дичи; она нужна личинкам свежей. Пчелу нельзя парализовать, иначе сопротивление внутренних органов не позволит выдавить мед. Пчела должна быть убита. И действительно, пораженная жалом в головной мозг, она мгновенно превращается в труп».
Подобно бембексу и филанту, оса пелопей, любитель полумрака, тоже убивает свою дичь – пауков. Ячейка пелопея только что достроена, и охотница доставляет первого паука. Она вносит его в гнездо и, прикрепив к брюшку жертвы яичко, улетает. Пока пелопей где-то рыщет в поисках второго паука, Фабр извлекает из гнезда первого с отложенным на него яичком. Оса появляется с новым пауком, старательно укладывает его в гнездо и улетает. «Потом приносит третьего, четвертого, пятого… И каждый раз входит в пустую ячейку. Два дня продолжаются попытки наполнить эту бездонную ячею, из которой один за другим изымались принесенные пауки». Только после двадцатого охотница, устав, запечатала пустую норку.
Фабр, однако, не прекращает допроса. Обычно пелопей, выстроив ряд из нескольких ячеек, наполненных кормом и запечатанных, покрывает все общей крышей из грязи. Застав пелопея при начале этой работы, Фабр снимает с оштукатуренной стены весь ряд ячеек.
«…Когда я снял гнездо, то на стене осталась лишь тоненькая полоска, обрисовывавшая контур снятых сооружений… Прилетает пелопей с комочком грязи. Без колебаний, сколько я заметил, садится на пустое место, где было гнездо, прилепляет сюда принесенную грязь и немного расплющивает комочек. Эта работа и на самом гнезде была бы такой же… Тридцать раз оса прилетала со все новыми и новыми комочками грязи и каждый раз безошибочно прикрепляла их внутри контура бывшего гнезда».
Какая слепота! Продолжать кладку стен уже не существующего дома, дома, от которого сохранился только след, контур…
Новые и новые факты ложатся в фундамент теории инстинкта. Собирать их куда труднее, чем те крохотные песчинки, сверкающие крупицы, что Фабр вылавливал когда-то на прудке с помощью соломины. И мгновенным взрывом, которым он мечтал открыть путь в глубь горы, тут ничего не добьешься. Десятилетия непрерывной работы пройдут, прежде чем Фабр посчитает себя вправе дать общее заключительное толкование всей серии наблюдений.
«…Насекомое строит, ткет ткани и коконы, охотится, парализует и жалит точно так же, как переваривает пищу, выделяет яд, шелк для кокона, воск для сотов, – не отдавая себе отчета в цели и средствах. Оно не сознает своих чудных талантов, точно так же как желудок ничего не знает о своей работе ученого-химика».
К такой трактовке инстинкта подходил молодой авиньонский натуралист, изучая сфекса и церцерис в окрестностях Карпантра. Этот вывод подтверждал зрелый ученый, когда вел опыты с халикодомами и галиктами в Оранже. Ту же точку зрения развивал исследователь из Сериньяна, уже три четверти века отдавший биологии. Взвешивая по степени важности значение «маленьких открытий, которыми энтомология ему обязана», он размышлял:
«Философ, занятый природой инстинкта, отдаст пальму первенства операциям парализаторов… И я разделяю такой взгляд… Я без колебаний готов отбросить весь энтомологический багаж ради этой находки, кроме всего, первой по времени и самой дорогой по воспоминаниям. Ни в чем не проявляется столь отчетливо, так ярко и выразительно врожденный характер инстинктивного знания, ни в чем трансформистская теория не сталкивается с таким количеством запутанных трудностей…»
Дальше мы увидим, что автор теории, которую Фабр именует трансформистской, Чарлз Дарвин в общем согласился со своим оппонентом по обоим пунктам: и в оценке содержательности явления парализации и по поводу трудности анализа инстинкта с позиций теории, развиваемой им в «Происхождения видов».
Но об этом позже, а сейчас вспомним, что писал академик И. П. Павлов в предисловии к вышедшей в русском переводе книге Цур-Штрассена «Поведение человека и животных». Основоположник учения о высшей нервной деятельности одобряет попытку автора исследовать « жизнь в ее крайнем пределе» – так характеризует поведение И. П. Павлов – и указывает, что активный ум, проникая на этот крайний предел, вновь видит перед собой жизнь «необозримо сложной и величественной, но вместе с тем постоянно воспламеняющей его энергию на неизбежное, неукоснительно подвигающееся вперед углубление в ее механизмы».
Именно эти глубоко запрятанные механизмы вскрывал И. П. Павлов, изучая ответы своих собак на самые необычные сигналы. Сами по себе подобные сигналы в нормальных условиях не требуют реакции, какую производят. Ее вызывает только искусственно воспитанная связь с существенными для животного воздействиями, в опытах чаще всего с кормом. И в ответ на стук метронома, которого обычная собака, по сути, и не заметит, у подопытной каплями начнет сбегать в пробирку слюна, как если б собака почуяла или увидела корм. Здесь в условном рефлексе, по Павлову, вскрыты та его шаблонность, тот его автоматизм, которые рассмотрел Фабр в инстинкте.
Разве в опыте с пелопеем оса не покрывала крышей контуры бывшего гнезда? Пелопей, по сути, производил работу такую же бесполезную, бессмысленную, какая совершается слюнными железами при стуке метронома.
Рассматривая жизнь насекомых как деятельность в окружающей среде, во взаимосвязях со всем живым и неживым, Фабр видит необозримую сложность и величественность предмета, и это постоянно воспламеняет его энергию, помогает углубляться во внутренние, сокровенные механизмы поведения.
Вспомним еще маленькую заметку по поводу книги профессора Б. Н. Шванвича «Цветы и растения». Книга представляет обзор трудов о поведении насекомых на цветах. И. П. Павлов писал в связи с рассматриваемыми в книге опытами о «стереотипной, врожденной, так называемой инстинктивной деятельности» и о «деятельности, имеющей в основе своей индивидуальный опыт». Он подчеркивал, что и у насекомых два вида поведения; высшее и низшее, индивидуальное и видовое. Павлов находил весьма полезным расширять круг объектов, вовлекать в исследование «новые районы животного мира», в частности насекомых, добавляя, что в этом «существенный ресурс» для решения всей проблемы. Вместе с тем главное, по его мнению, в анализе именно первого, то есть высшего, индивидуального поведения. Фабр – мы уже отчасти выявили обстоятельства, которые привели его к такому выводу, – рассматривал как неотложную задачу изучение именно видового, низшего, по И. П. Павлову, поведения.
Таким образом, Фабр и Павлов шли к одной цели, изучали две стороны процесса.
И нельзя сказать, что Фабр не представлял себе значения и места своих работ.
Размышляя по поводу опытов над пелопеями, он писал: «Стоит ли, действительно, тратить время, которого у нас так мало, на собирание фактов, имеющих небольшое значение и очень спорную полезность? Не детская ли это забава, желание как можно подробнее изучить повадки насекомого? Есть слишком много куда более серьезных занятий, и они так настойчиво требуют наших сил, что не остается досуга для подобных забав. Так заставляет нас говорить суровый опыт зрелых лет. Такой вывод сделал бы и я, заканчивая мои исследования, если бы не видел, что эти вопросы проливают свет на самые высокие вопросы, какие только нам приходится возбуждать.
Что такое жизнь? Поймем ли мы когда-нибудь источник ее происхождения? Сумеем ли мы в капле слизи вызвать те смутные трепетания, которые предшествуют зарождению жизни? Что такое человеческий разум? Чем он отличается от разума животных? Что такое инстинкт? Сводится ли эти две способности к общему фактору или они несоизмеримы? Связаны ли между собой виды общностью происхождения, существует ли трансформизм? Или виды лишены способности существенно изменяться и время воздействует на них только так, что рано или поздно их уничтожает?
Эти вопросы тревожат всякий развитый ум…»
Неустанно мобилизуются факты, подтверждающие категорическое заключение о природе инстинкта, но одновременно всю жизнь с тем же тщанием, добросовестностью и трудолюбием регистрируются и другие, свидетельствующие, как могло казаться, против сформулированного толкования. Мы говорим о примерах, освещающих не тупость инстинкта, а, наоборот, его гибкость, не видовой шаблон, а индивидуальные отличия, не постоянство, а, как искра, вспыхивающие изменения. Подобные факты не упускал из виду и молодой натуралист из Авиньона, их регистрировал зрелый ученый из Оранжа, их обдумывал седовласый исследователь из Сериньяна.
…Желткокрылый сфекс, принеся своего сверчка к норке, спускается туда один, оставив дичь у входа. Можно сколько угодно раз отодвигать, прятать сверчка – и Фабр делал это! – сфекс все равно будет спускаться в галерею один, рискуя добычей. Горький опыт ничему его не учит. Но вот встретилась Фабру еще одна бургада желтокрылых сфексов, и опыты с ее обитателями меняют прежний «слишком узкий взгляд». В этом селении в отличие от других всесфексы способны к быстрому научению. Потеряв по два-три сверчка, сфекс больше не позволяет себя обмануть: он садится на спину принесенного третьего или четвертого сверчка, схватывает его челюстями за усики и теперь уже прямым ходом втаскивает в гнездо.
Эта большая или меньшая легкость приспособления, зародыш рассудка, проблески способности к опыту, к научению пусть и редки, но они есть, и нельзя их не принимать во внимание, нельзя с ними не считаться.
…Лангедокский сфекс оставил эфиппигеру на земле у стены дома, а сам взлетел на крышу. Там под изгибом черепицы он за четверть часа вырывает в пыли норку. Вернувшись за дичью, он отправляется с нею вверх, карабкается по стене. Нелегкая это работа: эфиппигера тяжела, нить усика вот-вот вырвется из жвал, но сфекс преодолевает все. Положив добычу на край крыши, он отправляется к норке. В это время ветер сдувает неподвижную дичь, и она падает на землю…
И второй раз то же: вскарабкавшись с добычей к норе, оса кладет эфиппигеру у входа, но та снова скатывается вниз. Втащив тяжелую тушу по стене в третий раз, сфекс теперь не оставляет ее, но сразу уносит в норку под изгиб черепицы.
…А щетинистая аммофила? Наблюдения под стеклянным колоколом позволили Фабру уточнить детали схватки. Оса быстро жалит грудь гусеницы. После этих уколов добыча не столь подвижна, и аммофила – кольцо за кольцом – парализует остальные нервные узлы, наконец, мнет жвалами головной ганглий. «Так бывает обычно, – напоминает Фабр, – но не всегда. Насекомое не машина, колеса которой всегда работают одинаково. Ожидающий увидеть все акты описанной операции именно такими может ошибиться. Нередки случаи большого или меньшего уклонения от общего правила».
…Пчелы мегахилы вырезают для постройки гнезда кружочки и овалы из листьев некоторых деревьев и кустарников. У каждого вида мегахилы свой ассортимент растительных форм, из листьев которых они заготовляют строительный материал для дна, стенок, крышки. А что, если предложить им совершенно незнакомые растения?
Интересный опыт – загорается Фабр.
В саду, где летают мегахилы серебристая и зайценогая, привлекаемые сюда больше всего сиренью и розами, высажены эйлант из Японии и физостегия из Северной Америки. Эти зеленые переселенцы, конечно, не знакомы провансальским мегахилам, но пришлись им по вкусу. Мегахила немощная как ни в чем не бывало вырезает свои кружочки и овалы из лепестков герани, хотя это растение лишь недавно привезено, а родом оно из Южной Африки. Мегахила «портила цветки герани так, словно все ее предки всегда имели дело именно с геранью».
Видимо, в повадках мегахил шаблон не так устойчив, во всяком случае, строительный материал для гнезда они сменяют легко. Конечно, выбирается растение, сходное с привычным, но и тут какая-то перестройка поведения неизбежна.
«Полагают, – писал Фабр, – что инстинкты развиваются чрезвычайно медленно, что они результат многовековых однородных действий. Мегахилы доказывают мне противное. Они говорят, что их искусство, неподвижное в основном, способно к нововведению в мелочах».
Фабр регистрирует случаи не только отступления от стереотипа повадок, но и, смену пищи. Вспомним замеченного им сфекса, который ловил вместо сверчков кобылок. Ведь здесь сопряженно изменяются и охотничья повадка самок и кормодобывательные – личинок. Здесь перестраивается не одно какое-то звено цепи, но сразу несколько. Изучение подобных резких наследственных изменений – их впоследствии назовут психическими мутациями – составит целый раздел так называемой генетики поведения.
Широко известно, что иногда насекомые и вовсе не строят новое гнездо, а выбирают готовое – чужую норку, ход в земле, в дереве, трещину в камне, пустую раковину улитки…
Пелопей как раз пример того, что может меняться не только пища для личинок или строительный материал, но и самое место гнездования. Сейчас эти осы чаще всего селятся под навесом над печью, у теплого очага, «и чем сильнее он закопчен, тем охотнее занимает его пелопей». А где же они устраивали гнезда до того, как люди приручили огонь, до того, как вообще появился на земле человек?
Итак – еще одно итак! – Фабр, убежденный в автоматизме инстинкта, столь же убежденно утверждает: насекомое не машина!
Натуралист, неустанно возводивший здание учения об инстинкте, не считал его возведенным, а, наоборот, тщательно выделял все, что не укладывалось в общий ряд.
Изучая поведение насекомых, их «познавательные способности», нравы, обычаи, разрабатывая естественную историю инстинктов, Фабр добывал материал не только для себя, но и для будущих исследователей, их он имел в виду, «собирая факты для сравнения». Чернорабочий и архитектор, он протягивал руку тем, кто когда-нибудь использует его труд и пойдет дальше.
Ализариновый мираж
Миновали годы исканий, когда жажда знания всего обо всем бросала Фабра на штурм математики, геометрии, географии, химии, физики. Сейчас эти дисциплины поставлены на службу одному. Фабр действует без строгого плана, но целеустремленно, ведет работу на собственный страх и на личный кошт. Помощи не получает, ассигнований не имеет. Однако с каждым выходом в лес или на плато, с каждым подъемом в горы или спуском в долины число проблем умножается, поле зрения растет.
Похоже, миллиарды клеток под черепной коробкой безотказно фиксируют выхваченные из процессов разрозненные моментальные снимки увиденного, молекулы фактов, кванты явлений и реакций. Иногда насекомое знакомо Фабру сначала только по внешнему виду, в лицо. Иногда, ни разу не видев какой-нибудь гусеницы или жука, он опознает их по «почерку», по оставленным на растении отметинам. И все же в конце концов виновник найден, определен, изучен. Через годы, через десятилетия, случалось, через тридцать-сорок лет великолепный аппарат памяти приводит в систему разрозненные сведения, монтирует из них цельную картину, восстанавливает факты в естественной последовательности так, как они связаны в природе.
Рассказывая о своих наблюдениях, Фабр редко сообщает год, ограничивая обычно датировку указанием сезона. Зато говорит не вообще о весне, лете, но всегда уточняет: «в начале апреля», «в середине июня», «через две недели», «на следующий день», «не прошло и двух часов», «спустя десять минут». Перешагнув порог обжитого людьми мира, Фабр общается с созданиями, для которых важны в первую очередь показатели фенологические. Здесь свои циферблаты, свои стрелки часов.
«…В конце июня пятнистый ларин занимается семейными делами. Он пристраивает потомство в цветочные головки мордовника, еще зеленые, величиной с горошину, самое большое – с вишню. Две-три недели продолжаются хлопоты, и за это время колючие шарики становятся все больше и все синее…»
«…Галикты начинают рыть норки в апреле. Жилье готово ко времени, когда матери пора собирать мед и откладывать яйца. Тут уж не до строительных работ. Наступает веселый ясный май, и апрельские землекопы превращаются в собирателей жатвы. Пчелы испачканы желтой цветочной пылью. Каждую минуту садятся они на свои земляные бугорки вокруг входов в гнезда…»
«…На земле под дерезою среди упавшей и засохшей листвы бегает личинка в одеянии, красивее которого я ничего не знаю. Это маленькое создание, эта капелька молока, скрывающаяся в песке, как только хочешь ее схватить, совершенно очаровательна. Волнистый мех из великолепного белого воска, выделяемого кожей, придает личинке вид крошечного пуделя. Так ее и называли старые натуралисты. Сохраним это имя… В середине июня пудели, воспитанные в неволе, забиваются в складки сухих листьев и превращаются в ржаво-красных куколок. Они наполовину скрыты своим волокнистым одеянием. Две недели спустя появляется взрослый жучок. Это черная-пречерная божья коровка, слегка покрытая пушком и с большим красным пятном на каждом надкрылье…»
«…В семь-восемь утра раздаются первые звуки песни. Она не смолкает до поздних сумерек, часов до восьми вечера. Но если небо покрыто тучами или дует холодный ветер, цикада молчит. Другой вид – ясеневая цикада – ростом вдвое меньше, носит в нашей местности название „кан-кан“, что довольно верно передает ее манеру петь… Они сидят рядами на коре платанов, все обращены головой вверх. Впившись хоботками, неподвижные, они сосут. По мере того как солнце, а за ним и тени перемещаются, они так же медленно переползают по стволу или ветке и всегда усаживаются на самом припеке. И когда сосут и когда движутся – не переставая поют…»
…Рассматривая в полутьме подвала в лицейской лаборатории пробирки с красноватой жидкостью, Фабр думает о пении цикад и кузнечиков, выражающем, как он подозревает, радость жизни под ясным небом и жарким солнцем. Пора бы уже и ему если и не затянуть беззаботно веселую песенку, то, во всяком случае, иметь возможность спокойно трудиться в той области, которая его влечет.
Вместо этого помощнику преподавателя химии приходится совершенствовать технологию приготовления краски из марены. Рубиновая красящая, по-латыни – рубия тинктория, многолетник из семейства мареновых, возделывается в Провансе еще с XVI века, а сейчас это одна из наиболее распространенных здесь культур. Фабр помнит о марене еще с Эколь Нормаль. Это был любимый объект школьного химика, видимо, он тоже возлагал на нее большие надежды. Сколько раз потом, навещая отца на ферме Роберти, видел Жан-Анри на плантациях медленно продвигающиеся вдоль желто-зеленых рядков зонтичных растений пестрые шеренги рабочих и батрачек: они пропалывали или окучивали посевы. В сезон копки он встречал на дорогах чудовищные телеги с высокими бортами. Запряженные шестью парами мулов, они грохотали по булыжнику, высекая искры железом оковки и лязгая цепями, которые использовались как постромки.
Размолотые и измельченные в порошок корни – этот порошок называют «гаранс» – идут для окраски и шелка, и ситца, и других тканей. Горы его расходуются каждый год на материю, из которой шьют шаровары для французской пехоты.
В свое время Наполеон восстановил на знаменитых предприятиях Гобеленов школу окраски тканей. Но Фабр, еще только начав исследования, быстро обнаружил, что фабричная краска представляет грубую смесь всякой всячины: жуликоватые дельцы подмешивали в нее кто толченый кирпич, кто красную пыльцу растений, кто просто не поймешь какую дрянь. Фабр вызвал настоящий переполох, напечатав в 1859 году мемуар об анализах гаранса и подсыпаемых в него чужеродных веществ. С тех пор Фабр значительно усовершенствовал получение красящего начала – промышленники называют его краппом, а химики определяют как глюкозид ализарин с пигментами пурпурином и рубиадином. Правда, в корнях марены всего от трех до четырех процентов красящего вещества, но можно поставить добычу краппа на научную основу, можно освободить от ненужных человеку примесей то, что природа производит для себя.
Марена кормит добрую треть Прованса, и, если упростить и удешевить получение краски, работа десятков тысяч батраков, крестьян и мастеровых сразу станет производительнее.
Персу Альтену, он завез марену в Прованс и начал ее здесь выращивать, воздвигнут в Авиньоне памятник. Нет сомнений, что человека, который усовершенствует способ извлечения красящего начала, ждет богатство.
Это и был вывод, сделанный из разговора с инспектором-крокодилом после урока черчения.
Марена даст ему независимость, он сможет полностью посвятить себя любимым насекомым, любимой науке!
Почему не мечтать о таких заманчивых вещах химику, квартирующему на улице Тейнтюрье, что по-французски значит – Красильщиков? И он уже добился успехов. Деловые люди смотрели образцы краски, хвалили, прикидывали возможности использования. Правда, сам он еще не вполне доволен. Вот и приходится вновь и вновь с упорством античного раба, который копит гроши на свой выкуп, повторять анализы, промывать массу в поташе, отцеживать, менять фильтры…
Увлекшись, он не услышал скрипа двери. Только громко произнесенное приветствие заставило его оглянуться. Если бы руки не были так густо выкрашены мареной, он стал бы протирать глаза. Как этот человек оказался здесь? И один!
Гостю следовало предложить стул, но стулья колченогие, изодранные. Пришлось вести разговор стоя. Вошедший, сняв цилиндр, расхаживал по лаборатории, а Фабр то утирал фартуком красные руки, то помешивал деревянным веслом бурлящее крошево, от которого поднимался пар с приятным слабым запахом.
Если, описывая встречу с каким-нибудь перепончатокрылым или жуком на Пустой дороге, Фабр часто не называет год, ограничиваясь упоминанием сезона, то здесь в случае с неожиданным посетителем имеет значение именно год.
Год – 1867-й. Человек, спустившийся в подвал Сен-Марциала, в лабораторию, – не кто-нибудь из администрации лицея или муниципалитета, а Виктор Дюрюи, министр просвещения.
О том, что привело Дюрюи в темный подвал, где Фабр трудился над мареновыми отжимами, следует сказать подробнее. Надо хотя бы коротко объяснить и то, как случилось, что нелюдимый Фабр знал в лицо министра, занимавшего видное положение в Париже, и, как говорили, приближенного к самому Луи-Наполеону.
Говоря об эпохе второй империи, когда Луи-Наполеон возглавлял французское правительство, В. И. Ленин особенно подчеркивает, что для нее характерны «необходимость внешнего блеска», подслащивание реакции, напыщенная декламация «о равенстве, братстве, свободе, чести и достоинстве родины, о традициях великой революции…» Наполеон III положил не мало труда на «заигрывание с рабочими». внушал эксплуатируемым, что правительство стоит выше классов, что оно служит интересам не дворян и буржуазии, а интересам справедливости, что оно неустанно печется о защите слабых и бедных.








