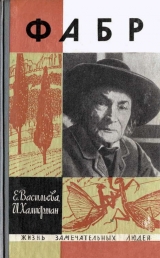
Текст книги "Фабр"
Автор книги: Иосиф Халифман
Соавторы: Евгения Васильева
Жанры:
Зоология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Глава VI
Конец и начало
Прощай, корзинки, собран виноград…
Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Ф. И. Тютчев
Великое счастье для энтомологии, что этот опытный и терпеливый наблюдатель отдал столько лет изучению насекомых и так талантливо описал их поведение.
Коммюнике о кончине Фабра, почетного члена Американского общества энтомологов, 1915 г.
Сто лет спустя
Нелегко было Фабру в свое время отказаться от мысли о факультете. Такой удар! Такое поражение! Но не откажись он от заветной мечты, не видеть бы ему Гармаса, где созданы обессмертившие его «Сувенир». Именно благодаря тому же он, правда посмертно, переступил порог факультета. Однако произошло это не скоро, не просто, не гладко.
Фабр изучал насекомых и рассказывал о своих исследованиях, как находил нужным, не считаясь с принятыми условностями и порядками. В результате «широким кругам его имя еще не стало известно, а он уже восстановил против себя ученый мир», – сокрушенно заметил один из биографов энтомолога.
Прежде всего трезвых и уравновешенных специалистов настораживала «неуместная восторженность Фабра», применяемые для характеристики инстинкта превосходные степени: «чудесное искусство», «безошибочное знание», «высшая логика». В таких эпитетах часто видели дань спиритуализму. «Иногда кажется, слово „бог“ вот-вот готово сорваться из-под его пера, хотя он его и не произносит», – обличали здесь Фабра. Клерикалы же, наоборот, считали его еретиком, которому в эпоху инквизиции не миновать бы костра.
В большой минус ставили Фабру небрежное определение видов. Конечно, подобные ошибки никого не украшают. Говоря об этих родимых пятнах, оставленных на самоучке его школой, вернее, отсутствием систематической школы, Легро пожимал плечами: «Разве что меняется, если скарабей, которому посвящены мемуары Фабра, был не скарабеус пиус, похожий на того, как родной брат, или что сфекс, именуемый у Фабра желтокрылым, на самом деле есть сфекс максиллозус. Будто от перемены названия приспособленность сфекса, или жука, умеющего скатывать шары и формовать груши, выглядит менее совершенной, не столь восхитительной».
Ортодоксы дарвинизма не видели в фабровских «Сувенир» ничего, кроме антиэволюционистских фраз, забывали об оценках самого Дарвина. С другой стороны, наиболее рьяные антидарвинисты не жаловали Фабра потому, что он положительно высказывался о великом биологе, не скрывал своего восхищения его преданностью науке.
Многих коробило, что Фабр, нарушая традиции, не дает в своих мемуарах ни библиографии, ни обзора научных трудов и упрямо избегает общепринятой терминологии, что его отчеты полны эмоций, что пишет он не только об объекте, но и о том, как работает сам, что перечувствовал, а не только передумал.
То, что сегодня представляется особенно привлекательным в «Сувенир»: свободный разговор будто на двух языках сразу, на языке науки и на языке поэзии, – казалось непонятным и неестественным. Ведь не разрабатывают же математики теорию чисел в одах, химики не объявляют об открытии элементов или соединений в сонатах, физики не пишут стансов о новых свойствах рентгеновых лучей!
Фабра корили и за то, что он при анализе движущих сил поведения насекомых позволяет себе прибегать к антропоморфизму.
Еще при жизни натуралиста оспаривались, отрицались и вся его философия энтомологии и представления о природе инстинкта. По этому-то поводу Фабр и писал: поднимаемые им вопросы не могут быть решены словесным спором.
Наиболее резкие выступления совпали с отмечавшимся во Франции столетием со дня рождения Фабра. В приуроченной к юбилею пространной статье Ш. Фертон ставил под вопрос порядочность Фабра как ученого и человека. Один из наиболее непримиримых оппонентов, профессор Этьен Рабо, на протяжении ряда лет печатавший в газетах и журналах статьи против Фабра, опубликовал целый сборник, в котором доказывал, что Фабра вообще нельзя считать ученым.
Разбор коронного критического аргумента Рабо сделан недавно французским энтомологом профессором Реми Шовеном в книге «Жизнь и нравы насекомых».
«Итак, – писал Шовен, – Фабр восхищался хирургической точностью уколов, производимых парализатором, указывая, что оса аммофила, не колеблясь, вонзает жало именно в те зоны, которые расположены над нужными ганглиями.
Позже Рабо, ненавидевший Фабра, возобновил наблюдения над аммофилой и обнаружил нечто противоположное тому, что когда-то открыл сериньянский отшельник. Нападая на жертву, сообщал Рабо, аммофила вонзает жало где придется. Это подлинное избиение, и длится оно до тех пор, пока полумертвая, отравленная осиным ядом жертва не перестанет оказывать сопротивление… Все вульгарные механицисты тридцатых годов возликовали, им не хватало язвительных слов для осмеяния Фабра.
Но проходит еще лет десять, и за изучение той же аммофилы берется Молитор, подошедший к проблеме без предвзятости. Вот что он установил: сначала события идут так, как излагает Рабо. Но едва противник ослабел, в ход пускаются приемы, описанные Фабром, и оса с безукоризненной меткостью вонзает жало…»
К слову, рисуя схватку аммофилы с будущей жертвой, Фабр говорит и о первом этапе – беспорядочной драке, правда, коротко, почти мельком, но подробно анализирует второй, состоящий из точно нацеленных ужалений. Однако и тут Фабр предупреждает, мы уже приводили эти слова: «Так бывает обычно, но не всегда. Насекомое не машина, колеса которой всегда работают одинаково. Ожидающий увидеть все акты описанной операции именно такими, может ошибиться. Нередки случаи большего или меньшего уклонения от общего правила».
Отстаивавшие честь Фабра биологи находили необоснованной и критику «превосходных степеней» в его описаниях: «Совершенство Фабром не вымышлено, а взято из природы, оно существует как одна из граней действительности».
Подводя итог всей дискуссии, академик Жан Ростан заключил: «Ошибки Фабра – кто их не совершает? – абсолютно незначительны, если принять во внимание всю огромность его труда!»
Однако судьба учения Фабра об инстинкте может стать иллюстрацией того, насколько запутан и противоречив бывает процесс становления истины в науке.
Еще в начале XX века французский биолог Жорж Бон решительно утверждал: «Представление об инстинкте – только пережиток прошлого, наследие средневековья, теологов, метафизики. Следует ли нам принимать его? Что такое инстинкт?.. Слово… Это понятие не выдерживает научного осмысления. Его никто не подвергал философскому разбору. Кондильяк, прозванный „отцом философского анализа“, дал инстинкту определение, которое я считаю лучшим из множества существующих: „Инстинкт – это ничто“».
Жорж Бон не первый и не последний среди биологов отрицал самое существование инстинкта. То было целое течение, целая школа.
И вот середина XX столетия, встреча биологов в здании Парижского факультета на бульваре, носящем имя химика и революционера Распая…
– Термин «инстинкт», особенно во Франции, имеет, прямо скажем, сомнительную репутацию, – открывает коллоквиум председательствующий. – В университете, где я учился, считалось хорошим тоном избегать этого слова. Раскройте хотя бы курс психологии Жоржа Дюма. Здесь не нашлось места ни для одной главы об инстинкте. Но сознательное игнорирование научной проблемы не может привести ни к чему хорошему. Раньше или позже явление встает перед исследователями, и они вынуждены разобраться в связанных с ним теоретических концепциях. Так произошло и с понятием инстинкта. Отрицаемая одними, высмеиваемая другими, проблема выдержала и атаки и поношения. Наша встреча здесь не служит ли тому доказательством?
Речь внимательно слушают сидящие вокруг стола двадцать два ученых: академики, руководители стариннейших университетских кафедр, авторы уникальных трудов. У них вместе за плечами свыше пятисот лет работы в разных областях зоологии – эндокринология, биохимия, нейрофизиология, генетика, экология. Каждый в своей сфере – звезда первой величины!
– Соединенными усилиями психологов и физиологов добыты факты, породившие уверенность, что инстинкт – реальное явление, если понимать под ним врожденную способность без предварительного обучения и в совершенстве выполнять при определенных условиях внешней среды и определенном состоянии организма некоторые специфические действия, – продолжает оратор. – Сегодня понятие об инстинкте восстановлено в правах!
Пока председательствующий заканчивает вступительное слово, познакомимся поближе с некоторыми из присутствующих.
Доктор М. Аутуори представляет биологический институт в Сан-Паулу, Бразилия. Свыше тридцати лет изучает Аутуори повадки муравьев грибоводов атта. Вереницы их, извиваясь, бегут сквозь джунгли трав, подстилающих влажный сумрак южноамериканской гилеи. Над каждым муравьем, как знамя, поднят зажатый челюстями тугой обрезок живого, еще не успевшего привять зеленого листа. Это не корм, а удобрение для грибниц, растущих в глубине гнезда и поставляющих пропитание обитателям всей колонии…
Аутуори привез с собой цветной фильм, заснятый в гнездах грибоводов атта. Собравшиеся увидят роение муравьев, их брачный полет – «ревоаду» по-испански, рост подземной грибницы – рассадника, откуда пойдут будущие грибные сады-гнезда, увидят их пухлую губчатую массу, постепенно заполняющую камеры муравейника…
Но перейдем к следующему участнику коллоквиума.
Парижанин Жак Бенуа тридцать лет изучает физиологию и поведение птиц перед гнездованием и сразу после него. Бенуа демонстрирует коллекцию анатомических препаратов: железы птиц на разных стадиях брачного периода.
Страсбургский доктор Ж. Вио – специалист более широкого профиля: его занимает поведение разных живых существ. Ж. Вио интересуется пауками, когда они плетут орбитальную паутину, и лягушками во время охоты на насекомых, он с одинаковой тщательностью исследует миграции рыб, леммингов, саранчи, роение термитов…
Роение термитов исследует также профессор Пьер Грассе, и не только in vitro – под стеклом, но и in vivo – в природе, под солнцем тропической Африки. Грассе выяснил, как эти слепые насекомые снабжают свои кишащие жизнью колонии кормом и как строят свое обиталище. Он описал гнезда воинственных термитов белликозитермес, имеющие диаметр свыше ста метров.
Доктор Эдуард-Филипп Делеуранс из Марселя изучает не гигантские прочные, как гранитная скала, сооружения, что в течение десятилетий возводят африканские термиты. Нет, он занимается небольшими изящными гнездами ос полист, сформованными из массы, похожей на слоистый картон. Безделушки из осиного папье-маше вырастают за два-три месяца в теплую пору года. Висящие на ножке-стебельке округлые плоские соты состоят из открытых книзу ячеек.
В сооружении гнезда участвуют все полисты семьи. Каждая прибавляет или переносит с места на место здесь – пластинку, там – крупицу. Как же связывается воедино распыленная во времени и в пространстве масса отдельных, казалось, мимолетных действий? И как, в частности, ножка-стебелек, несущая в первые дни только легкий, словно сухой листик, комочек из 4–6 мисочек-начатков, выдерживает затем груз десятков ячеек – уже не пустых, а доверху заполненных грузными телами белесых личинок и начинающих темнеть куколок? Делеуранс установил, что распорядок работ каждой осы складывается из трех регулярно чередующихся действий. Это цикл из трех шаблонных операций, так сказать, поведенческий триплет. Сопоставляя среднюю продолжительность составляющих его фаз, Делеуранс вывел математическую модель общей строительной стратегии полист. Выражается она совсем несложной формулой.
Швейцарский натуралист из Цюриха Г. Едигер, известный своей монографией о диких животных в неволе – «Очерк биологии зоологического сада», – изучает и способы, какими животные размежевывают в природе жизненное пространство: территорию отдельных особей, пар, выводков, гнезд…
До сих пор участники коллоквиума перечислялись по алфавиту, но сейчас, поскольку речь зашла о жизненном пространстве и гнездах, придется нарушить порядок, представить читателям доктора Т. К. Шнейрла. Его специальность – виды, не знающие ни постоянных гнезд, ни ограниченной территории. К ним относятся и эцитоны, гроза американских джунглей. Походные марши и лагерные привалы колонн всепожирающих муравьев-кочевников подробно описаны. На магнитофонных лентах с помощью специальной аппаратуры зарегистрированы наводящие ужас на зверей и птиц голоса муравьиных колонн, их сигналы. Физиологическое распределение функций между особями колонны в походе и на отдыхе позволяет говорить о пестрых спектрах повадок, друг друга дополняющих и сливающихся так, что колонна представляет некую целостность, живущую общим импульсом.
То же в общем обнаружил у медоносных пчел мюнхенский профессор Карл Фриш. Почти совсем глухой, он первым из людей услышал и расшифровал речь пчел, подобно тому как задолго до него слепой швейцарский натуралист Франсуа Губер первым из людей проник взором во многие секреты жизни улья. Фришу принадлежит честь открытия смысла и назначения танцев, совершаемых рабочими пчелами на прилетной доске и на сотах. В результате чуть ли не сорокалетних исследований Фриш доказал, что танцы и представляют язык, код, средство информации о месте, куда не занятые делом крылатые сборщицы пыльцы и нектара – фуражиры семьи – должны отправиться за кормом. В своем мобилизующем танце пчелы способны, открыл Фриш, сообщать даже детали летной обстановки: к примеру, ветер встречный, попутный или боковой, и детали топографии: где находится корм – на уровне земли или высоко на дереве.
Известный английский ученый, член Королевского общества, то есть тоже академик, ныне уже покойный Д. Б. С. Холдейн – генетик, биохимик, математик, – прибыл сюда, чтоб поделиться соображениями о физико-химических аспектах поведения живых существ. Работы Фриша, которые он считает шедевром человеческого разума, позволили ему совместно с госпожой Спарвей-Холдейн изучить графики пчелиных танцев. Вскрыта простая линейная зависимость между количеством виляний брюшком, совершаемых пчелой во время танца, и расстоянием от улья до места взятка, откуда прилетела танцующая сборщица. Что касается ритма танца, то есть числа кружений, совершаемых пчелой в единицу времени, оно представляет линейную функцию от логарифма расстояния…
Послушал бы Фабр, который столько занимался математикой, физикой, химией и чувством дома, как теперь, сто лет спустя после опубликования его работы о церцерис, все эти науки сплетаются с биологией. Послушал бы, как участники коллоквиума говорят о формуле Делеуранса, открывающей новую сферу приложения математики в биологии, первую ступень зоологической эконометрии – науки, которая пока еще не создана! Послушал бы, что говорят о пчелиных танцах и об исследованиях Фриша, положивших начало математической лингвистике животных, науке, которая уже создается!..
Книга участника встречи австрийского ученого Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона» как раз и повествует о человеке, понимающем язык животных. Многолетние наблюдения над жизнью зверей и птиц в естественных условиях и бесчисленные опыты над ними признаны даже теми, кто не согласен с Лоренцем, спор вызывают не факты, в них никто не сомневается, так строго они выверены, а толкование, трактовки.
Доктор Лоренц воспитал без матери-наседки выводок гусят, и те, едва став на лапки, начали вереницей, гуськом тянуться за своим воспитателем-кормильцем. Впрочем, они семенили за ним не совсем как за гусыней, а чуть поотстав. Они явно сохраняли в своих странствиях за профессором пафос дистанции, хотя где им знать о мировой славе Лоренца, о страстях, которые уже второе десятилетие совсем не по-академически кипят вокруг работ Лоренца и его единомышленника, шведского натуралиста, профессора из Оксфорда Н. Тинбергена.
Лоренц полагает, что расстояние между ним и первым гусенком в цепочке, поспешающей следом, объясняется особенностями зрения птиц и их врожденной потребностью видеть впереди себя ведущую. Они соблюдают такой интервал, что эта фигура приобретает для них размеры взрослой гусыни. Похоже, так оно и есть. Едва Лоренц решает искупаться и входит в реку, гусята бесстрашно покидают берег и устремляются за доктором. Пока он в воде по колено, цепочка гусят уже приближается. Вода поднялась до пояса, гусята почти его догнали. А вскоре над водой видна только голова доктора – седой ежик, и тогда гусята теснятся вокруг, пищат, щекочут щеки перьями, царапают плечи коготками перепончатых лапок.
Как истолковать действие выращенной Лоренцем галки, которая никогда не видела себе подобных? Она так привязана к своему воспитателю, что пытается даже кормить его червями, пробует засовывать их ему в уши, в ноздри.
С разных сторон обсуждаются на коллоквиуме повадки двуногих – пернатых, четырехногих, шестиногих – насекомых, восьминогих – паукообразных, а также каких-нибудь многоножек и вовсе безногих, червей например.
…Теперь уже нет спора, существуют ли инстинкты. Со всей объективностью, какую гарантирует современный уровень науки, установлено: врожденное поведение есть! Но надо еще дознаться, как оно возникает, чем закрепляется. Живое можно рассматривать в определенном смысле как венец творения. В поведении живых существ, в их взаимодействии с окружающей средой и друг с другом словно растворены гармония и противоречия, полярные заряды, простые и сложные математические функции, логарифмические зависимости, обратные связи… Познание их вооружает человека иногда самым неожиданным образом, помогает ему тверже стоять на земле, точнее ориентироваться в воде и воздухе.
…Пилот сидит у штурвала аэроплана, летящего сквозь арктическую ночь. Солнца нет, небо покрыто облаками, сквозь которые не пробиться свету звездных ориентиров, магнитные компасы в этой зоне отказывают. Тут-то штурманская служба включает кисточки Гейдингера. Прибор построен и работает по принципу фасеток пчелиного глаза. В самый пасмурный день, когда солнце скрыто плотным слоем туч, установил Фриш, фасетки воспринимают в полете и интегрируют для ориентировки по-разному поляризованный свет разных секторов неба. Открытие Фриша стало тем зерном, из которого выросли кисточки Гейдингера, направляющие слепой полет. На одном из отрезков авиатрассы Париж – Нью-Йорк, вблизи Северного полюса, летчики уже не первый год пользуются показаниями таких приборов.
Именно этим примером проиллюстрировал прикладные аспекты науки о поведении парижский профессор Анри Пиерон, закрывая коллоквиум.
Вот она в действии, предвиденная Фабром « наука, наученная животным»!
Но на встрече прозвучали и еще некоторые любопытные высказывания, обмен мыслями, как бы скрытые диалоги о Фабре. Перескажем сокращенно один из них.
П. ГРАССЕ: То, что мы слышали об инстинкте, возвращает к идеям наших старых энтомологов, и прежде всего Фабра. В сущности, уже он открыл многое, к чему на новом уровне пришла современная наука. Но, разумеется, без его финалистской наивности, без его антропоморфистских трактовок.
Д. ХОЛДЕЙН: Антропоморфизм, антропоморфизм… А не находите ли вы, что это только первый, начальный этап сравнительной этологии?
По докладам Аутуори, Грассе, Делеуранса, Фриша, Шнейрла и по обсуждению этих сообщений можно убедиться, что место насекомых в жизни природы и человечества выявлено теперь несравненно полнее и отчетливее, чем во времена Фабра. И роль их в опылении цветковых растений, и их санитарная и почвообразовательная функция, и участие их в бесчисленных сложных цепях питания – эти направления были намечены Фабром – теперь уточнены, обросли множеством важных подробностей, обосновывающих и подкрепляющих ведущую идею всего десятитомника Фабра: идею о космической роли насекомого на нашей планете.
…Об ученом, о его месте в истории науки мы привыкли судить в значительной мере по тому, сколько у него было учеников, последователей, какую школу он создал. Фабру пришлось работать одному, без преемников, которым из рук в руки можно бы передать начатое дело.
Но школу он все же создал, создал так же, как переступил порог факультета.
Откликаясь на звучащий со страниц его книг страстный призыв к поиску, к развитию учения об инстинкте, к выявлению роли насекомых в экономике природы, за последние десятилетия в энтомологию пришло такое количество молодых умов, столько разных талантов, что есть все основания говорить о фабровском наборе в науку, о мобилизации сил, которая Фабром сто лет назад начата и по сей день продолжается.
Запоздалые скрипки
За десятым томом «Сувенир» последовал мемуар о капустнице, потом о светляке. Фосфоресцирующие грибы и светящиеся насекомые, органические создания, выдающие свое происхождение от солнечного света – источника всякой жизни на Земле, давно занимали натуралиста.
«Мягкий свет этих грибов опрокидывает многие наши понятия. Он не подчиняется законам преломления, пройдя через линзу, не дает отображения, не оставляет следа на обычной фотографической пластинке», – объясняет Фабр в письме к Легро причины своего интереса.
Уже весь дом, включая теплицу, заполнен коробочками, стеклянными и решетчатыми садками, везде растут выкармливаемые с руки личинки и гусеницы, спят куколки, живут взрослые насекомые.
«Наступает ночь, дровосек торопится увязать последние вязанки… Вот и я у порога своих дней, скромный лесоруб в лесу науки, хочу навести порядок на своей просеке», – пишет Фабр.
Ежедневно с утра он в лаборатории. Шаги его стали тяжелее и медленнее, он опирается на палку, но глаза зорки, голова ясна. Руки – увы! – дрожат, и манипуляции с насекомыми проводят Поль или Аглая. Здесь и на заповедном участке Поль под наблюдением отца снимает сцены из жизни насекомых. Куплены самый совершенный фотоаппарат, наиболее светочувствительные пластинки; начаты съемки и для синематографа (многие кадры до сих пор печатаются в новых изданиях «Сувенир» в качестве иллюстраций).
Фабру не хватает рук. Младшие дочери вышли замуж и уехали. Сейчас ассистентами у него только жена, Аглая и Поль. На встречи и беседы с когда-то многочисленными добровольными сотрудниками уже не остается времени. Переписку ведет Аглая. Сам Фабр редко берет перо с этой целью.
Он пишет брату, схоронившему одну за другой жену и дочь:
«…Столько раз пережита горечь утраты и так остро мне знакома никчемность подобных утешений, чтоб пользоваться ими даже для самых близких! Лишь время постепенно рубцует эти раны. И еще работа. Так за дело же! И давай трудиться сколько есть сил! Нет лучших лекарств для сердца…»
И Фабр трудится, радуясь и ужасаясь: «лопата роет в забое неисчерпаемом», а силы тают.
Между тем в дом снова входит нужда. Главную опору бюджета на протяжении почти трех десятилетий составляли научно-популярные книги, расходившиеся во многих изданиях. «Их влияние на целый ряд поколений было огромным», – писал известный английский ученый Давид Шарп. Было…
Теперь автор стар, не имеет возможности следить за прогрессом знаний во всех областях, вносить изменения, диктуемые новыми открытиями. Спрос на книги уменьшается, Делаграв теряет к ним интерес. А «Сувенир» печатаются во Франции пока небольшими тиражами и не приносят достаточного дохода, хотя отрывки публикуются в переводах уже чуть не во всех научно-популярных журналах мира.
Фабр завоевывает славу, оставаясь неизвестным. Распространенный в дореволюционной России «Вестник знания», его издавал В. В. Битнер, печатая отдельные мемуары, подписывал их «проф. И. Г. Фабр» (вместо Жан-Анри), а «Энтомологическая библиотека Хаггенса» в Англии выпустила томик, назвав автора Жозефом-Луи.
«Небо падает, склоняясь над моею головой, и уж ясно видно стало, что наличных слишком мало кошелек содержит мой». Беранже припас ему стихов на все случаи жизни, невесело шутит Фабр.
Даже те, кто хотел облегчить жизнь Фабру, не всегда представляли себе, как и что надо делать. Префектура Воклюза вдруг постановила передать ему оборудование химической лаборатории, которую решили закрыть. Такой подарок должен осчастливить старика, полагали местные власти. Но громоздкие приборы теперь совершенно ни к чему в Гармасе: они здесь только обуза.
Созданный Мистралем «Арлатен» подыскал мецената: для этого краеведческого музея он готов купить у Фабра его 700 акварелей, изображающих «все грибы края олив».
– Чего вы колеблетесь? Кто рисует – продает, – напоминая старую провансальскую поговорку, уговаривает художника Мистраль.
Но Фабр не смог заставить себя пойти на эту коммерческую операцию, хотя деньги нужны позарез. Продать альбом? Все равно что содрать с себя лоскут кожи! Рисунки остались в Гармасе, остались для Гармаса.
На помощь старику пришел доктор Легро из Луар-э-Шер. Его давно мучили забвение и заброшенность Фабра. Когда-то Ламартин и Дюма, обеспокоенные несоответствием между общественным положением Ребуля и его заслугами перед литературой, выступили в поддержку булочника из Нима. То, правда, были столичные знаменитости, мэтры. Легро всего лишь скромный советник провинциального департамента, но он убежден: если Франции показать во весь рост отшельника из Гармаса, если полным голосом рассказать о его трудах, о его жизненном подвиге, страна оценит его по заслугам. Легро счел себя обязанным сделать для этого все, что в его силах. Свыше шестидесяти видных научных, литературных, общественных и политических деятелей объединил он в комитет друзей и почитателей Фабра, центр, подготовляющий чествование натуралиста.
Почетным председателем согласился стать министр просвещения, впоследствии президент Французской республики Гастон Думерг; председателем – академик Эдмон Перрье – директор Национального музея естественной истории; выступая как член комитета, Перрье каждый раз оговаривал, что он в данном случае лицо приватное и высказывает только личное мнение. Литературу представляли Морис Метерлинк, Фредерик Мистраль, Эдмон Ростан, Ромен Роллан. Науку – математик Анри Пуанкаре, минералог Альфред Лакруа, зоологи Поль Маршал, Эжен Бувье и Ксавье Распай – сын знакомого нам карпантрасца, а также сэр Джон Леббок из Англии; профессор Карло Эмери из Италии; автор известных книг о насекомых, швейцарский врач Август Форель; руководитель отдела сельскохозяйственной энтомологии департамента земледелия США доктор Л. О. Говард, бельгийские, шведские ученые…
В комитет не ввели ни одного немца. Легро знал, что их участие не доставило бы удовольствия Фабру, в чьем сердце события 1870 года оставили кровоточащую рану. Не случайно он упорно отклонял предложения о переводе «Сувенир» на немецкий язык.
Не было в комитете и русских ученых. Теперь уже трудно выяснить, почему так получилось. У Фабра в России было много друзей. Русское энтомологическое общество еще 3 декабря 1901 года – задолго до других организаций подобного рода, в том числе английских и американских, – присвоило Фабру звание почетного члена общества. Предложение это выдвинул президент общества П. П. Семенов-Тян-Шанский. Письмо Фабра в Русское энтомологическое общество – ответ на сообщение об оказанной ему чести – свидетельствует, что он был тронут вниманием русских коллег и признателен за высокую оценку его работ.
Но если даже не говорить о П. П. Семенове-Тян-Шанском, в чествовании с радостью принял бы участие классик русской энтомологии профессор Н. А. Холодковский.
«Я лично ожидал появления каждого выпуска его восхитительных „Сувенир энтомоложик“ с тем же нетерпеливым интересом, как в детстве встречал, бывало, каждую новую сказку Андерсена, – писал Н. А. Холодковский. – И точно! „Сувенир энтомоложик“ Фабра – такие же чудесные, великолепно рассказанные и глубокие по содержанию сказки, но из области действительности. В них он показал себя не только несравненным наблюдателем, как назвал его Дарвин, несмотря на постоянные выпады Фабра против эволюционного учения, но и гениальным экспериментатором». Н. А. Холодковский восторгался и характером, силой воли, страстностью исследователя.
В комитет, бесспорно, вошел бы один из русских основателей зоопсихологии, профессор В. А. Вагнер. Он понимал драму «гениального таланта», скрыто и сильно переживающего непризнание и неприязнь. «Влиятельный мир ученых, которому так легко и просто было бы осуществить мечты Фабра, – писал В. А. Вагнер о плане создания лаборатории живой энтомологии, – не приходил к нему на помощь, и он, в свою очередь, встал к этому миру в оппозицию».
По ряду вопросов теории В. А. Вагнер был не согласен о Фабром, но считал, что никакими критическими замечаниями нельзя «умалить огромные заслуги этого выдающегося натуралиста и значение его наблюдений над жизнью насекомых и опытных исследований этой жизни, которые навсегда похоронили крикливые, но вздорные повествования о жизни насекомых бесчисленных любителей, меривших и, к стыду нашему, продолжающих мерить психологию жуков, бабочек, муравьев и пчел масштабом человеческой психики…
Сердечное спасибо за лучи света, которые он бросил в темное царство, полное интереса и значения для тревожных вопросов о душе человека и животных! Сделанные им открытия требовали оригинальных, очень остроумных приемов исследования, им же изобретенных. Его описания проникнуты интересом к жизни животных, им изучаемых, и любовью к природе… Его рассказам внимали тысячи людей, вместе с автором отдыхая глаз на глаз с великой правдой природы».
Авторитетным представителем русской науки в юбилейном комитете явился бы, конечно, и Иван Петрович Павлов.
Павлова живо интересовали работы Фабра. Об этом рассказывал сотрудникам академик Л. А. Орбели. Люди, бывавшие в доме Павловых на Введеновской улице, вспоминают, что русское издание «Сувенир» – двухтомник «Инстинкт и нравы насекомых» лежал на рабочем столе ученого.
Развивая идеи Павлова о физиологии высшей нервной деятельности, Л. А. Орбели взял шефство над исследованием ленинградского энтомолога Л. Е. Аренса. Оно проводилось в Колтушах, затем на биостанции Борок. То были опыты над мечеными одинерами, которых в свое время изучал в Провансе Фабр. И обитали подопытные одинеры в тростинках – в экспериментальном улье системы Фабра. Л. Е. Аренс показал, что в летно-ориентировочном поведении насекомых инстинктивные, врожденные акты сплетаются с научением, с условными рефлексами по Павлову.
Наряду с русскими учеными в работах комитета за честь почли бы принять участие последователи Фабра из среды народных учителей.
«Имя Фабра должно быть особенно дорогим для провинциальных деятелей науки, – писал пензенский педагог М. М. Коновалов. – Ведь как часто приходится слышать, что в провинции невозможна никакая научная работа вследствие отсутствия музеев, оборудованных лабораторий и других необходимых для работы образовательных учреждений. Пример Фабра, сумевшего без всяких дорогих и сложных приспособлений, в самой скудной деревенской обстановке принести огромную пользу науке, показывает с совершенной очевидностью, что такая работа возможна и, следовательно, должна выполняться…»








