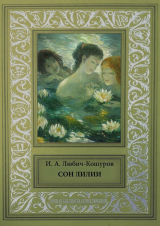
Текст книги "Сон Лилии (Легенды и сказки)"
Автор книги: Иоасаф Любич-Кошуров
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Глава IV

 ня через два после описанного происшествия хозяйка мастерской действительно поймала скворца…
ня через два после описанного происшествия хозяйка мастерской действительно поймала скворца…
Она пробралась к нему ночью, когда он спал в своем скворечнике, и без особого труда схватила его.
Потом она посадила его в клетку, которую приготовила еще заранее.
Клетка была очень просторная и очень красивая, с железными прутьями и окрашенным в зеленый цвет верхом.
Но скворец, когда его посадили в эту клетку и захлопнули за ним дверцу, едва только очутился за решеткой, сейчас же выругал хозяйку дурой, а про ее клетку сказал, что это не клетка, а застенок.
Потом он добавил, что с удовольствием запер бы в эту клетку самое хозяйку.
Затем еще раз выругался, как следует, сел на жердочку, нахохлился и зарыл нос в перья на зобу.
И он весь день просидел так молча, не двигаясь с места.
Только вечером, когда к клетке подошла Лилия, скворец спрыгнул с жердочки на пол клетки и, подбежав к решетке, просунул голову между прутьями.
– Лилия, Лилия! – закричал он из клетки и замахал крылышками.
Больше он ничего не сказал ей.
Но по тому, как он махал крыльями и смотрел ей прямо в глаза долгим пристальным взглядом, Лилия поняла, чего он хочет от нее.
Ей казалось, что скворец ни на одну минуту не потерял надежды вырваться на свободу.
И потому-то он так махал крылышками и смотрел на нее так долго и пристально.
О, он верил в свое освобождение!
И именно Лилия должна выпустить его на свободу.
Сейчас же, как только раздался ее голос, он вспрыгнул на жердочку и, махая крыльями, громко и радостно запел.
А Лилия смотрела на него и говорила:
– Погодите, погодите, потерпите немного – я вас выпущу.
Скворец слушал ее, утвердительно качал головой и пел еще громче, еще радостней.
– Выпущу, выпущу, – говорила ему Лилия.
Вдруг скворец оборвал свое пение, спрыгнул с жердочки и крикнул:
– Ду-ура!
В то же время Лилия почувствовала на своем плече чью-то руку… Жесткие, тонкие, длинные пальцы больно сдавили плечо и повернули Лилию спиной к клетке.
Лилия увидала черное платье, лаковый пояс на длинной, узкой талии и ножницы, привязанные к этому поясу…
Она стояла, не смея поднять глаз, и молча глядела на этот лаковый пояс с черной пряжкой.
А жесткие, цепкие пальцы все сильней сдавливали ее плечо.
Затем она услыхала знакомое ей шипенье:
– Что? Что ты сказала? Ась, негодная? Хозяйка сама старалась, лазила, лестницу у дворника выпросила, а она, изволите видеть: «выпущу»! Пшла!
Подведя Лилию к двери и все так же, не выпуская ее плеча из своих пальцев, хозяйка толкнула ее в дверь и сейчас же захлопнула дверь.
В эту ночь Лилия долго не могла заснуть.
Она все думала про скворца, про перепела в темной клетке, про свою хозяйку.
Теперь ей уж трудно будет помочь скворцу вырваться на свободу.
Хозяйка, конечно, станет зорко следить за ней.
И Лилии казалось, что она сама точно, как в клетке.
Не лучше, чем скворец или перепел, или же та бледно-зеленая травка, что растет у сарая между камнями.
Ведь и травка все равно как в клетке…
Каждую минуту она, как живого, видела скворца на жердочке в клетке, как он машет крыльями, поет и смотрит на нее, будто хочет сказать:
– Все равно я улечу отсюда, все равно улечу! Лилия не даст меня в обиду.
А что для него может сделать Лилия!
И ей стало жалко скворца, и когда она вспоминала про него, то жалость к нему, что была в ней, точно претворялась в слезы, и ей казалось, что все ее сердце полно слез.
На утро она встала с мокрыми щеками, с синевой под глазами и с тусклым потухшим взглядом.
А в мастерской, за работой, когда скворец начинал петь, она низко наклоняла голову, потому что песня скворца отдавалась в ее сердце тоской и болью, и в сердце опять собирались слезы и подступали к горлу.
Она опять испортила свою работу, и опять хозяйка, как будто уже заранее зная, что Лилия испортит работу, подошла к ней и, как вчера, долго ворчала и говорила все то же, что вчера.
Потом она велела Лилии идти в кухню.
Это у ней было такое наказание.
Как кто провинится во второй раз, – служить в кухне и помогать кухарке.
В кухне Лилию заставили перемыть раков для хозяйского стола.
Ученицам и мастерицам такой роскоши за обедом не полагалось.
Раков, разумеется, могла перемыть и кухарка, но хозяйка считала Лилию белоручкой и хотела досадить ей.
Раки были живые.
Хозяйка сама покупала их на базаре и выбрала самых крупных.
Когда она подвела Лилию к ведру с раками, то сказала:
– Смотри, чтоб чисто было. Слышишь?!
И при этом высоко вздернула свои реденькие брови и подняла кверху мозолистый от ножниц длинный указательный палец.
Лилия стала перемывать раков.
Собственно говоря, их не зачем было перемывать, но хозяйке хотелось, должно быть, чтобы раки пощипали Лилию своими клешнями.
А, может быть, хозяйка просто была дурой, как называл ее скворец.
Мы оставляем этот вопрос открытым.
Дело тут вовсе не в хозяйке.
Дело в раках.
Когда Лилия села на лавку и поставила около себя ведро с раками, из ведра выполз огромный черный рак, с длинными усами и глазами на выкате, уставился на Лилию и долго смотрел, шевеля усами.
Потом он сказал:
– Гм!..
Опять пошевелил усами и опять сказал:
– Гм!..
Потом закинул усы на спину и выпятил свои глаза, как их в некоторых случаях выпячивают все раки – наподобие двух гвоздиков с черными головками.
Может быть, он хотел этим напугать Лилию, а, может быть, хотел рассмешить ее.
Но Лилия не испугалась и не засмеялась.
Это, вероятно, показалось раку очень странным, потому что он сейчас же поднял одну клешню и щелкнул ею перед самым носом Лилии.
– Гм!.. – опять сказал он, опять вобрал свои глаза-гвоздики и опять их выпятил. – Ты, барышня, не Лилия ли будешь?
– Лилия, – ответила она.
Она уже догадывалась, в чем дело.
– А я рак-ползун, – сказал рак.
Тут он закряхтел, так как ему все-таки было трудно держаться на краю ведра, и вылез из ведра совсем.
Он сел к Лилии на фартук и, крепко уцепившись за него клешнями, задвигал усами и хвостом.
– Что с нами хотят сделать? – спросил он.
– Варить – отвечала Лилия.
Рак крякнул и спрятался под фартук.
– А потом есть? – спросил он оттуда.
– А потом есть.
– И ты будешь есть?
Лилия промолчала.
Рак опять крякнул.
– Подавятся, – сказал он.
Лилия вздохнула.
Ей казалось что тут все его колдовство ничего не стоит.
– Подавятся, – повторил рак внушительно. – Только ты делай, как я тебя научу. Прежде всего, где у тебя карман?
И, отыскав сам ее карман, он забрался в него. Он занял весь карман, и только усы торчали наружу.
– Теперь я спокоен, – сказал он, – и могу колдовать.
И он стал колдовать.
Минуту спустя он сказал:
– Сегодня нас все равно не сварят и не съедят. Я наколдовал. Эта твоя каналья хозяйка заболеет головной болью.
И действительно, едва он произнес эти слова, как дверь в кухню отворилась, вбежала одна из учениц и крикнула.
– Лилия! Лилия! Не нужно мыть раков. Хозяйка велела отнести их на погреб.
– Ну, вот видишь! – сказал рак из кармана, – это я напустил на нее болотную лихорадку.
– У ней лихорадка! – крикнула ученица с порога, минуту постояла на пороге, а потом повернулась и хлопнула дверью.
Лилия слышала, как она побежала наверх, в мастерскую.
– Ну, – сказал рак, – теперь пойдем и мы. Пойдем, Лилия!
Лилия вышла в коридор.
– Пойдем на двор, – сказал рак.
Когда они очутились на дворе рак велел Лилии выйти на улицу.
А на улице он сказал:
– Теперь вынеси меня за город.
Но вместо того, чтобы идти за город, Лилия вернулась в мастерскую.
Она прошла в комнату, служившую ученицам спальней, заперла за собой дверь на крючок и, сев к окну, вынула рака из кармана и положила его на подоконник.
– Я не пойду за город – сказала она.
Рак поднял клешню и щелкнул ею.
– Что? – крикнул он.
При этом глаза его выставились из орбит и затем медленно опять скрылись в орбитах.
– Не пойду, – повторила Лилия, – делайте со мной, что хотите, а не пойду.
– Почему? – спросил рак.
– А потому что сначала нужно выпустит на свободу скворца и перепела. Ведь вам хочется в речку?
– Ну?
– Ну, и им тоже хочется в поле и в лес. Вы думаете, хорошо в неволе?
Она немного помолчала и затем продолжала:
– Хоть вы и колдун, а я вам так скажу…
На щеках у нее вспыхнул румянец, глаза заблестели.
– Ну, скажите, – говорила она, – ведь мир создал Бог?
– Бог, – отвечал рак.
– Да, Бог! И небо, и цветы, и речку – все… а разве Бог создал клетку? Вы видели где-нибудь, чтобы росли клетки?
– Гм… – сказал рак.
Это их человек выдумал, клетки, – продолжала Лилия, – потому что он, должно быть, глупей скворца и перепела… Бог создал мир свободным, и потому всякому дороже всего свобода, – а человек говорит: «не нужно свободы» … Ему все равно, что он идет против Бога…
– Гм… – опять сказал рак, – что же, ты думаешь, я глупей самого глупого человека?
И он закинул усы назад и сразу поднялся на всех своих ногах.
– Ну! говори!..
– А вы раньше сделайте то, что вам говорят, – сказала Лилия.
Нужно заметить здесь, что Лилия не без основания затеяла с раком этот разговор.
Он во всей речке слыл самым ученым раком, и, разумеется, было совсем не в его интересах прослыть глупей Лилии…
– Я сделаю, – сказал он, – все сделаю, только дождемся ночи. А до ночи ты спрячь меня в банку с цветами.
И рак сам влез в горшок с геранью и зарылся в землю.
Лилия только углубила вырытую им ямку, потом засыпала ее землей и тщательно заровняла землю.
Глава V

 илия, Лилия!..
илия, Лилия!..
В спальне было тихо. Все спали.
Лилия скинула с себя одеяло и приподнялась на своей кровати.
Она сразу узнала этот голос.
Это рак пришел за ней, чтобы выпустить на свободу скворца.
Славный рак!
И она осторожно встала с кровати и шепотом спросила:
– Это вы?
– Я, – так же тихо ответил рак.
Он был весь в земле. Земля застряла у него между клешнями и покрывала толстым слоем спину и ноги.
– Проклятая банка, – сказал он.
Лилия взяла его на руки, смахнула землю со спины и хвоста, прочистила клешни, и пошла с ним из спальни.
Когда они очутились в коридоре, откуда был ход в комнаты хозяйки, рак попросил Лилию опустить его на пол.
Дверь в хозяйкины комнаты была притворена не плотно, и рак довольно легко проскользнул в узенькую щель между половинками двери.
– Я напущу на нее сон, – шепнул он Лилии. Минуты две спустя он вернулся и сказал: – Напустил.
Теперь вид у него был совсем беззаботный: он громко говорил и громко пощелкивал своими клешнями.
– Пойдем в мастерскую, – обратился он к Лилии.
В мастерской было темно. Лилия зажгла огарок и осветила клетку, где сидел скворец.
Скворец сейчас же проснулся.
– Лилия! – крикнул он громко.
Рак влез на стул, чтобы лучше видеть скворца, и чтобы скворец его тоже увидел, и произнес наставительным тоном:
– Да, господин скворец, благодарите мамзель Лилию. Лилия сняла клетку и отворила дверцу.
Скворец сел к ней на плечо.
– Теперь, – сказал Лилии рак, – поди на погреб и возьми ведро с раками, а потом надень свое шелковое платье.
Лилия сходила за раками, переоделась и вернулась в мастерскую.
Скворец все время не покидал ее.
Он сидел у нее на плече и громко пел, хотя была ночь, а скворцы ночью не поют. Он пел:
В тесной клетке, в злой неволе,
О великий Бог.
Бог, создавший лес и поле,
По полям, лесам и воле,
Я скорбел в жестокой доле
И душою изнемог.
* * *
Ты сказал цветам и птицам:
«Славьте вашего Творца»,
Ты велел блестеть зарницам…
Но по клеткам, по темницам
Только слезы без конца…
* * *
Слава всем друзьям свободы,
Заповеданной Тобой!
О, продли их, Боже, годы,
Отврати от них невзгоды
И в страданьи успокой!
Как видите, скворец тоже мог сочинять стихи.
Хорошие это или плохие стихи, – это другой вопрос, но скворец пел так хорошо, что даже раки, что были в ведре, после каждого куплета аплодировали ему, сколько было силы, своими клешнями.
Значит, он хорошо пел.
Взяв рака-колдуна на руки, Лилия вышла с ним на улицу. Скворец по-прежнему сидел у нее на плече и пел на всю улицу свою песню.
Так Лилия дошла до того дома, где в темной клетке сидел перепел.
Перепел сейчас же закричал:
– Спать пора, спать пора! Чего вы там галдите?
А скворец пел ему в ответ:
Слава всем друзьям свободы,
Заповеданной Тобой!
О, продли их, Боже, годы,
Отврати от них невзгоды
И в страданьи успокой!
– Чего ты там орешь? Что ты орешь? – закричал ему перепел из клетки. – Спать пора! Спать пора!
А скворец запел свою песню опят сначала:
В тесной клетке, в злой неволе,
О великий Бог,
Бог, создавший лес и поле,
Я скорбел в несносной доле
И душою изнемог…
Этот куплет, как нельзя более, подходил к перепелу в его настоящем положении…
Бедный перепел!..
Громко, на весь квартал, он кричал хриплым голосом:
– Спать пора! Спать пора!
Ты сказал цветам и птицам:
«Славьте вашего Творца»,
Ты велел блестеть зарницам.
Но по клеткам, по темницам
Только слезы без конца.
– Спать пора! Спать пора!
Даже ночной сторож вышел за ворота и с удивлением глядел на Лилию, слушая, как поет скворец.
– Пусти-ка меня, – сказал рак Лилии, – я его усыплю.
И он, точно, живо усыпил сторожа.
Как он сделал это, его секрет, только сторож сейчас же заснул.
– Теперь мы и этого затворника снимем, – сказал рак. – Нам никто не помешает.
Лилия подставила к стене дома, где висела клетка с перепелом, лестницу, забытую фонарщиками, забралась по ней наверх и сняла клетку.
– Спать пора! Спать пора! – все время кричал перепел.
К утру Лилия выбралась за город.
Теперь она шла по ржаному полю знакомой ей межой.
В одной руке она держала ведро с раками, а в другой клетку с перепелом. Скворец же сидел у нее на плече.
Теперь его можно выпустить, – шепнул Лилия скворец, – наступает утро, и он подумает, что ночь прошла…
И Лилия знала, что пора уж выпустить перепела, потому что она была недалеко от реки, и, может быть скоро некому будет выпустить его.
На нее уже веяло от реки свежестью, и она еще издали видела, как знакомые камыши кивают ей своими перистыми головками.
Еще несколько шагов, и Лилия будет в воде, рядом со своими сестрами-лилиями, такая же, как ее сестры, и такая же, какой она была раньше.
Так сказал ей рак.

Лилия присела на траву и сорвала с клетки черный коленкор.
– Спать пора! – хотел было крикнуть перепел, но прямо в глаза ему блеснуло солнце…
Он тихо вышел из своей темницы и сказал:
– А уж солнце встало!
И он юркнул в траву, как ни в чем не бывало.
Лилия подошла к берегу реки, опрокинула в воду ведро с раками, и сама вошла в воду.
Когда с восходом солнца лилии в реке проснулись, проснулась и наша лилия.
Сон, который она видела, был настолько жив, настолько явственен, что ей казалось, будто она только сейчас выпустила на свободу раков и перепела…
На раките, нависшей над речкой, сидел скворец и пел:
Ты сказал цветам и птицам:
«Славьте вашего Творца»,
Ты велел блестеть зарницам,
Но по клеткам, по темницам
Только слезы без конца…
– А, может быть, и правда, – подумала лилия, – что все это наколдовал рак, и я точно была в городе.
И увидав недалеко от себя колдуна рака, она сказала ему:
– Рак, пожалуйста, не колдуйте так больше.



ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ[1]1
«Зелеными святками» на Украйне называется неделя до Троицына дня. На этой неделе, по поверьям малорусского народа происходят в лугах, полях, лесах, на озерах и болотах сборища русалок.
[Закрыть]
из украинских сказаний
(Записано со слов лирника)
Вечер первый
 тало быть, про русалок? Ну, так и так; слушайте, я вам стану рассказывать про русалок.
тало быть, про русалок? Ну, так и так; слушайте, я вам стану рассказывать про русалок.
Жил это, видите, один дед; колдун был, или Бог его знает, а, только, скажем, сейчас, хоть бы, скажем, у вашего папеньки, захворала корова: живот это дует, пена изо рта а от чего захворала – неизвестно, – сейчас за ним.
– Иван там, или Левон, сбегай за дедом.
Ну, приведут его; борода это длинная, длинная седая, только и есть, что одна борода. Его так и звали «борода» потому что, знаете, была у него борода вот этакая. Да, до земли.
Идет, бывало, – будто одна голова на бороде идет.
Многие боялись даже, особенно, если издали.
Известно – глупый народ, а то разве можно на бороде ходить?
И совсем ничего себе был старик; только известно они какие: – уж если дед, – так дед.
Говорят, к вашему дедушке хаживал.
Стоить это в передней. А дедушка из спальни с графинчиком; сейчас о графинчик рюмкой стук-стук… Подойдут.
– Ну, – говорят – борода пьешь что-ль?
Нальют.
А в передней, знаете, мух это видимо-невидимо.
– Пью-с – говорит, – батюшка, Николай Петрович…
И этакая, знаете, гадость, тьфу!.. – Наловит с окошка мух, там пять или шесть, или сколько, – сейчас в рюмку… Хлоп – выпил.
Ах ты, Господи! Да… Такой был старик.
А то бабы рассказывали, да должно врут. Брали раз замашки. Хорошо. Тишь, говорят, это, ни ветра, ничего это… Тепло.
Глядь – Борода. Мельница у него была там в огородах… Оно, знаете, одно к одному: колдун – ну значит и мельница. У них у всех – мельницы. И у этого тоже.
Идет, говорят; жуть, говорят, такая взяла – на бороде говорят, идет – разве с ними сговоришь? Одно слова бабы. А вы так посудите – разве можно на бороде ходить?
Ну все одно – на бороде – и на бороде. Походил, походил около мельницы, покашлял, взял – и отчинил крылья. А тихо, знаете: ни ветра, ничего. Потом, Господи Иисусе Христе, хлоп об землю – стал на голову, а ноги кверху… Стал и стоит.
И, что же выдумаете, сейчас это потихоньку, потихоньку замолола мельница и пошла, и пошла! А другие мельницы, какие были – там хоть, как сейчас, скажем, у дьячка, знаете около рощи, или у становихи, – хоть бы что: стоят и ничего – как мертвые.
И тишь, это, тишь, – страсть.
Постоял он, постоял этак: ну, не век же ему так стоять – значит, постоял, сколько нужно, да; и сел на порожке.
Хорошо, сидит. Только прошло сколько времени – глядь: один воз едет, другой, третий. Один с рожью, другой с пшеницей третий еще там с чем – много собралось народу, всю мельницу окружили.
А у дьячка, (т. е., тогда еще дьячковой мельницы не было, ну да это все равно – не у дьячка, так еще у кого) – пусто.
А он сидит и смеется:
– Гы-гы-гы. Гы-гы-гы…
И зубы скалит, а зубы желтые – желтые…
Да это врут бабы. Господи, Господи! наговорят, наговорят, наврут – тьфу!
А вы слушайте, какую я про него вам расскажу сказку.
Слышал я эту сказку… Погодите… Именно от дедушкина письмоводителя… Или нет, постойте!..
Да вы меня не слушайте. Бывает – и спутаешь.
Может это не про Бороду, а только я думаю – без него тут не обошлось…
Ну, скажем, сидел это раз Борода вечером у себя на огороде.
Огород у него был сейчас за мельницей.
Теперь уж этой мельницы нет, а хорошая была мельница, только старая… Знаете – в июле, дожди, пыль – почернела вся; и крыша тоже почернела: камышовая была крыша; теперь все больше тес пошел, а тогда камыш.
Да. Хорошо. Сидит себе. Вечер, знаете: тихо – тихо. Только слышно, как на пруде лягушки кричат; сверчок трещит под завалинкой: трюк-трюк, трюк-трюк… Телега где простучит, и опять тихо, только лягушки: «гу-гу-гу…» знаете, кричат они иногда так – не квакают, а так в один тон: гу-у-у, и не громко кричат, а слышно, далеко отдается.
Месяц это стал подниматься, красный – красный большой. Пруд тогда там-же был, где и теперь; тоже камыши росли. Вы когда видели, как встанет месяц (сначала то все темно, и не разберешь, где что: и камыши черные и вода черная и ракитки), а как встанет месяц, так сейчас и загорятся и вода, и камыши, знаете блестками, блестками… И стоят тихо камыши, а кажется, будто дрожат от корня до макушки.
А тихо это – ничего, никакого шума… Кричат лягушки, а будто и не кричат – только так в ушах отдается – будто это вместе с ночью пришло.
А месяц все выше, выше, и тихо – тихо…
Хорошо. Сидит это Борода на камушке, набил трубку, стал огонь высекать; тюк-тюк это, знаете… только слышит, плачет кто-то… Да; плачет: явственно слышно.
Подождал он – подождал минуту, ночью мало ли что не почудится, – нет, плачет.
Ах ты, Господи! взял и пошел. Обошел весь огород: никого нет! На огороде у него огурцы росли, капуста, арбузы – шуршат под ногами – остановился опять, прислушался, тихо стало; только кое-где, где он ходил, то там, то тут: «трык-трык» – еще трещат капустные и арбузные листья. Стихло все – опять плачет.
– Стой – говорит, – дай погляжу на поповом огороде.
Перелез через плетень; около плетня крапива росла, ожегся весь, вышел на чистое место, поглядел поглядел – темно на огороде; только по памяти знает – налево подсолнухи вдоль плетня, направо початки; арбузы круглятся из-под листьев по всему огороду, дыни, тыквы. Сарай у попа выходил задней стеной на огород – белая, белая стена от месяца, на крыше по боровку известка блестит (крыша под глинку была). Журавель от колодеза виден за крышей железной крючок горит на месяце.
Постоял, послушал – плачет, хоть что хочешь!
Обошел опять весь огород – никого нет.
Знаете, сами, какой он был человек, а что же вы думаете, поглядит, поглядит кругом – никого нет – трусость взяла… Да…
А плачет, плачет, знаете, так плачет – сердце – тихо – тихо и жалобно – будто кто далеко – далеко играет на сопелке, жалобную песню, и не разберешь – сопелка ли это, или так знаете, как иногда напевают без слов, или кто тоскует…
А тихо-тихо; с попова огорода с бугорка пруд хорошо виден: месяц дрожит, на воде, гуси белеются на берегу; камыши будто живут, будто дышат в месячном свете, дрожат, переливаются.
Стоял, стоял Борода – нет не человек это плачет – такая мысль пришла…
И такая тоска на него напала – стоит, слушает… Господи, Господи, будто это сама ночь плачет: камыши, который в небе и который в воде и вода светлая и темная – которая на месяце и которая в тени… Потому что, если человек плачет, так он плачет, как ему положено Богом, а тут был плач, как музыка… И будто плач был от того, что месяц дрожал в воде, и вода рябила от месяца, и камыши дрожали все равно, как дрожат струны…
Никогда не плакал Борода, а тут, знаете, не то чтобы заплакал, а будто у него у самого в душе и в сердце что-то задрожало, заныло и затосковало…
Вышел он на улицу: и сам не помнит, как вышел. Пусто на улице. Тогда еще церковь старая была, деревянная, низенькая с пристройками, вся белая – крашеная; тень лежит под карнизами на белом, темная-темная, только стенки белеют, а в углах, где пристройки – тоже тень; ограда белеет, шары над воротами на вереях. Тополи около колокольни переливаются – и недвижны листья, а будто шевелятся, будто уснули, да разбудил их месяц… И шевелятся, а шума нет.
Прошел он мимо церкви и мимо попова дома, вышел на мост; месяц блестит в воде; на другом берегу – выгон, колоки, орепьи по всему выгону, а дальше поле… Повернул к пруду; тут, знаете, ракитки росли густые-прегустые; выбрался из ракиток: и тут прямо как на ладони весь пруд… широкий разлился; с берега тень лежит на воде от камышей и от ракиток, и камыши – темные, как стена, а какие камыши дальше от берега, прямо в воде, – от месяца снизу будто синее, а с верху как в серебре. Осока, купавки по всему пруду, и на всем искры от месяца – синие, темно-зеленые, серебряные; и по воде тоже то там, то тут загораются искры и переливаются в разные цвета…
Остановился Борода, затаил дух, слушает…
Тихо все. Вдруг, – опять!.. Плачет кто-то – да и все!..
Стал приглядываться.
– Может это за прудом, – думает; присел это, глянул по пруду вдоль по воде; блестят по воде купавки; рыба где нырнет, тихо без плеска; загорится круг на месяце, расплывется и погаснет… А вода синяя – синяя, почти темная; берег на той стороне белеет, и на белом темные пятна – где песок травой пророс.
Огороды тогда за прудом были, копоня, ракитки росли; туман, это, между ракитками, как дым: роса садится. Плетни вдоль огородов чуть-чуть виднеются и по плетням тоже туман, только пореже – будто плетни не пускают его наружу с огородов.
Послушал, послушал – нет, не за прудом это плачет.
Опять глянул по пруду – туда, сюда; глядь, Господи Боже ты мой, даже замер весь: камыши, это, осока, листья от купавок широкие, темные, и сидит, знаете, на листьях, русалочка, маленькая, маленькая, голубенькая. А волосы зеленые. Ясно видна на месяце, мокрая вся; с волос капли падают, блестят.
Сидит и плачет.
Стал больше приглядываться – видит кругом лягушки из воды высунулись, а одна самая большая лягушка, толстая этакая, все равно как огурец, вылезла тоже на листья, сидит против, глазами моргает.
Поморгает, поморгает и сейчас нагнет лапой камыш и утрет глаза – плачет тоже.
Они знаете, лягушки – лягушки, а понимают.
Говорят, они умные. Да. А может они и ничего не понимали, да разжалобились на русалку…
А может и так было: может эти лягушки были из русалок, потому-то русалка, как она провинится в чем-нибудь – так ее сейчас, дед у них такой есть, который с за ними смотрит) так сейчас ее этот дед (он хоть добрый, а все-таки закон – нельзя) сейчас:
– Поди сюда, Оксанка, или Маришка, разве так можно… А?
Все равно, как, скажем, учитель в школе.
Сейчас возьмет и либо лягушкой сделает, либо мышью, либо кошкой. Вот тебе и Оксанка!
Такой уж у них устав.
Может, эти лягушки тоже были русалки, ну и конечно жалко своей сестры.
Раздумал, раздумал это Борода, дернул себя за вихор: – Эх, – думает, скверно дело. Нехорошо.
Однако, думает, а сердце ноет – ноет, даром что колдун…
Поглядит, поглядит на русалку – жалко: плачет, так, знаете, плачет…
Многие из ихней сестры тоже есть такие, что сами вроде того что: «ах, какая я несчастная», а у самой на уме… сейчас подплывет и защекочет.
Ну, да оно знаете, и Борода не дурак был – сразу видит: нет не похоже на то.
Да, а нужно вам сказать: пруд этот (он теперь Кореневых) и тогда тоже был Коренев; только тогда теперешние Коренята вот этакие были, совсем маленькие, а заправлял всем на мельнице Корень – старик. Ну и как, конечно, колдун он тоже был не хуже Бороды (тогда, знаете, колдунов этих было страсть) были они с Бородой, не дай Господи, – ни Борода ему, ни он Бороде – никакой уступки не было.
Бывало сойдутся за пахотой в поле – сейчас, говорят, Борода запряжет в соху какой сук покорявей и пошел пахать.
А Корень еще лучше, – возьмет на зло сядет, сам обедает, а соха сама собой пашет. Паши, говорит, – и пашет. Что с ним поделаешь?
И бывало тоже поругаются:
– А можешь ли ты гром заговаривать?
– А ты можешь ли ночь на день обратить?
Ну и там мало-ли что? У всякого свое, всякий свое знает. Одним словом, искусники были.
Да дело не об том; это так, между прочим.
«Главное теперь – подумает, подумает Борода – а ну как, думает, это Корень ее заговорит, – русалку, – что, она по ночам пруд сторожила?»
Н-да – штука. Не то, чтоб он боялся Кореня, а так, знаете, не хорошо в чужом хозяйстве распоряжаться.
Однако, – «эх» – думает (жалко ведь все-таки) – встал и пошел искать лодку. Хотел было так крикнуть русалке, дескать, зачем, почему, что такое? да одумался, еще Корень услышит.
А лодка у Кореня старая, старая была заплесневела вся от сырости, зеленая, все равно как, в тине. И никогда ее Корень на привязи не держал, потому-то; знал такое слово; сейчас, скажем причалит к берегу:
– Ну, лодка… (или как там у них это говорится) – знай, дескать, свое дело!..
Разве я знаю, как они колдуют?
Заколдует – и хоть ты тут что хочешь: бывало, ребятишки захотят покататься, влезут отпихнутся от берега, а она опять к берегу, да еще норовит куда бы в грязь, либо в тину. Отпихнутся опять – она опять к берегу. Бьются – бьются – так и уйдут.
Лазил, лазил Борода по камышам, по лознику – нашел лодку: стоит это около бережка, кругом камыши, осока, лоза, – весло это, все как следует, шесть поперек лежит, один конец в воде, другой, наружу. Цепь на носу ржавая – ржавая, оборванная.
Нос болваном выточен, с глазами, болван совсем как есть голова. Только конечно, как если бы он был настоящий болванщик, – может и вышло бы что-нибудь хорошее, а то поглядит, – поглядит Борода – тьфу! – прямо гадость: лицо, – как лицо, а не человечье! Да еще зеленое от плесени, да еще на месяце, а в глаза, где зрачки, медные гвозди вбиты по самые шляпки; заржавели шляпки, зеленые – так и блестят, будто вправду глаза.
Взял Борода и пнул болвана ногою в лоб. Откачнулась лодка, отплыла этак на сажень задом и опять на прежнее место… Стала и стоит… Он ее опять – она опять: будто тянет ее что к берегу.
– Эге, думает, – хитер ты Корень, ну да и я не дурак!
Взял, повернул лодку кормой к берегу, а носом в пруд, сел, уперся шестом, чтоб она шла к берегу, а она от берега, от берега… потому что видите, будь у ней корма заколдована, так-бы ее и тянуло в ту куда корма, а как был у ней нос заколдован, то и потянуло ее, куда она стояла носом!
Сперва стояла она носом к берегу – ну так и тянуло ее к берегу, а как повернули ее носом на воду, так и пошла она, куда тянул нос.
Ну, сидит себе Борода на корме только шестом помогает, куда ехать, а лодка сама едет. Въехал он на середину пруда, направил лодку носом прямо на русалку: – как пошла лодка, как пошла – батюшки мои…
– Ну думает – спасибо тебе Корень!
Только смотрит: болван, который на носу, поворачивается к нему, поворачивается… повернулся совсем, – как ляскнет зубами, гвозди-то вылезли из глаз почти на пол вершка, блеснули и опять спрятались…
Вон он какой болван был. Конечно, – колдовской:
– Хорошо, – говорить Борода, – не съешь. Поколдовал там что нужно: затих болван; только шипит: конечно, чует, что чужой…
Ну, чем ближе, тем больше видно; смотрит Борода: вскочила русалочка на ноги, совсем голубая на месяце вся светится, капли с волос, посыпались; монисты на шее из ракушек, и тоже все в каплях: дрожат как самоцветные камни.
Перестала только слезы блестят на ресницах… Смотрит на Бороду: глаза, голубые – голубые… И ничего не говорит, а опять заныло у Бороды сердце: видит, что просить она его о чем-то глазами и жалуется, просить, а сказать не может. И будто не верит ему и боится, и будто ждет чего-то.
Да вдруг увидала болвана, затряслась вся, закрыла лицо руками.
– Ну, думает Борода, – не обошлось тут дело без; Кореня.
Подъехал совсем близко, остановил лодку.
– Что говорит такое?
Молчит русалочка, дрожит вся. И видит Борода: совсем – совсем маленькая, лет может двенадцати, не больше.
– Ах ты, – говорит, – несчастная твоя доля… Не бойся, – говорит. – Я, – говорит, – добрый… Я этого болвана, я вот как…
Взял и ткнул его опять ногой в затылок, потому что видит – как же ее утешить?
Зашипел болван.
Одна лягушка взобралась на болвана, прямо на темя, да как заквачет на весь пруд. Открыла лицо русалочка, глянула на лягушку, а лягушка сейчас:
– Верно, – говорит, – добрый.
– Добрый, – говорит и Борода, смотрит на русалочку, смеется. – Кто, говорит, тебя обидел? Может, дед за что наказал?.. А то, может, Корень?..
А дело, видите, как было. Был этот Корень, как вам сказать, жадный был, все ему мало.
Ну и как водилось у него в пруде много рыбы, (тогда, знаете, не то, что теперь): бывало, выйдешь на пруд: Господи ты мой Боже, – щуки вот эдакие были, а сомы… плывет, бывало, – прямо тебе теленок… А много было, страсть: – стадами ходили.
Ну, Корень, чтобы рыба из пруда в реку не заходила, взял, да и заколдовал: что – провел через весь пруд поперек межи.








