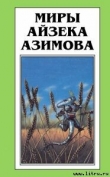Текст книги "Галатея"
Автор книги: Иннокентий Сергеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Мы поднимаемся. Она забирает свою сумочку. Я задвигаю стул. Мы уходим.
– А почему ты сказал "Испания"?– спрашивает она. – Не знаю,– говорю я.– Может быть, потому что Гарсиа Лорка сказал как-то, что испанские мертвецы самые мёртвые в мире. А может, потому что Америка – тоже Испания. И вообще, сколько бы мы ни открывали новых земель, они всегда оказываются отражением нас самих. – Бу – Э – Нос – Ай – Рес,– произношу я по звукам. "Цветами апельсина вдруг дохнула Параны прохлада. Мои цветы, я ухожу, удерживать меня не надо..." – Что это?– спрашивает она. – Бедняжка Серебряная Леди! Шип, вонзившийся в её платье, всё никак не отпустит её. Жаркие, колючие объятья пампы, "самого печального места на свете". "Каждый день выжигает мне душу огнём, и душа моя плачет..."
– Однажды,– рассказываю я,– в королевский дворец прибыл поэт, тонкий, проникновенный лирик, рыдавший розами и серебряными башнями, водопадами звёзд, зыбкими узорами лунных теней, криками ночных птиц, стонами женщины... А было это во времена Филиппа Второго или, может быть, во времена Фердинанда Арагонского, или же раньше, во времена Альфонсо Мудрого, неважно. Поэт допущен ко двору, он читает свои стихи перед собравшимися вельможами, и во время оного чтения одна из придворных дам, а была это первая красавица того времени, предмет тайного и явного вожделения прославленнейших рыцарей Испанского королевства и, по слухам, самого короля, падает без чувств. Поэт, разумеется, польщён тем, что его поэзия нашла такое понимание, а нужно сказать, что вслед за Первой Дамой в обморок попадали и все остальные. Король отдаёт приказ устроить в честь поэта торжественную трапезу. Дам приводят в чувство, поэт с глубоким поклоном изъявляет свою благодарность. Во время трапезы карлик короля думает про себя: "Подумаешь! Стоило разводить столько шума ради какого-то там обморока. Я могу сделать то же самое без всяких там вздохов и слов". Он ловит крысу, вспарывает ей ножом брюхо и, изловчившись, бросает её прямо на блюдо, стоящее перед Прекрасной Дамой. Она издаёт короткий вскрик и падает без чувств. Карлик доволен и горд собой. Но вот оценит ли его успех король? Король брезгливо делает жест, означающий, что карлик должен быть без промедления казнён. Даму приводят в чувство, карлика тащат по коридору, он пытается упираться, пищит, его никто не слушает. Перед тем как навсегда скрыться за поворотом каменных стен, он успевает выкрикнуть: "Я погибаю за правду жизни!" – Так возник натурализм в искусстве. – Крыса была отмщена,– говорит Лил, и мы вместе смеёмся. А ведь ты, наверное, ничего не поняла, дурочка.
Мы гуляем среди рассыпчатого света, теней, вокруг ни души, как приятно! Она посмеивается над моим пристрастием к безлюдным местам, припоминая мне слова, сказанные мною как-то в разговоре. Я защищаюсь, но без азарта. Преобладание жёлто-зелёной гаммы оттенков, наверху огоньки синего пламени, раздуваемые сквозняком, ветер ворошит кроны деревьев, но это высоко, а здесь, внизу, неугомонный бег пятен, они сливаются и разбегаются снова, на гипсовой лепнине тел, выскобленных лицах аллегорических фигур. Переменная яркость. Ряды пустых скамеек – аллея. Строгость античных форм цветочных вазонов, сухая земля в горшках. Мы разговариваем. – Мне было лет пять или шесть,– говорю я,– когда я столкнулся, впервые, наверное, с неразрешимой парадоксальностью такого простого понятия как жалость. Каждый раз, ложась спать, я оставлял свою одежду на спинке стула. Мне было жалко её, мне казалось, что ей будет холодно ночью. Такой вот панпсихический завёрт. – Какой? Психический? – Панпсихический. Это когда тебе кажется, что все вещи – скамейки, камни, кроссовки, книги, портреты, все они живые. Одушевлённые. – А разве нет? – Ммм... Подожди. Так в чём заключался парадокс. Сколько бы я ни укрывал свою одежду, всегда было что-то, что оказывалось сверху и оставалось неукрытым, а значит, должно было мёрзнуть. И я никак не мог придумать, как бы исхитриться, чтобы сверху не было ничего. – Ну и задачка!– говорит она.– Как же ты выкрутился? – Да никак. А. Кажется, я решил, что не все вещи мёрзнут одинаково. – Понятно,– говорит она. – Как и у людей. Но тогда-то я не особенно много думал о законах общественного устройства, хотя... Кто его знает. "Ведь деревья тоже живые",– говорит она, и я не сразу соображаю, о чём это она.– "Деревья и трава, всё, что растёт, земляника или какао. А шоколад уже не живой, разве это не странно?" – Что ж тут странного,– говорю я рассудительно.– Люди тоже умирают. Был живой, стал... не очень. – Люди не умирают,– говорит она.– Они отправляются на небо. – Какая муха тебя сегодня укусила, Лил? – И солнце тоже живое. И море. – Ладно. Если мы считаем, что жизнь есть ничто иное как некая степень воплощения Бога, то физическая стадия – это то же самое, но только на более низком уровне. Можно сказать, то же самое. Устраивает? – Не знаю,– говорит она.– По-моему, и так всё ясно.
Она подходит к скамейке. Склонившись, проводит по ней пальцами, смотрит на них. – Посидим? Я подхожу и сажусь рядом. Она отдыхает.
Парадная жёсткость манжет, отлёт и снова... дробность прикосновений к невидимым струнам, упрятанным в гулкое полированно-фрачное тело, накрахмаленная скатерть, в гостиной ловкие руки салфеткой протирают бокалы. Что это, умелый пассаж или гениальная импровизация? Мы рисуем вездесущее око на иконных досках и зелёной бумаге, но вот кристаллы подземных пещер, сиреневая пена ночного прибоя, кто ей судья? Прозрачная ясность пространства. Я знаю тех, кто устроил здесь праздник, но кто создал эту радость? Небо, дробный бег клавиш, так единое дуновение лета заставляет забыть окон манерную строгость, так до берегов Португалии доносится запах Америк, по краю скатерти дрожь сквозняка, парус, наполненный звуком, лучистая сфера, и в ней, как в волшебном кристалле, переменчивость форм облаков над чопорно надменным постоянством, таким нелепо-строгим постоянством прямых углов.
Я смотрю на деревья, что стоят поодаль одно от другого, пропуская свет. Солнечные пятна в траве. – А здесь мы уже были,– говорю я. Она кивает: "Когда шли из кино". – Сколько минут до сеанса?– спрашивает она неожиданно серьёзно.
Мы стоим на железобетонной плоскости крыши недостроенного высотного дома, в центре сияющей сферы всеобъемлющего пространства, столько света, и на бесконечность вокруг над нами небо – я и она – её волосы колышутся на ветру, как будто невидимые ласковые руки приподнимают её локоны и роняют, выпуская из пальцев, ветер, и вдруг я понимаю, что он любит её, он любуется её волосами. Любовь. – Мы родились в этом мире, чтобы дать жизнь тому, что было мертво. Небо, распахнутое настежь щемящим простором. Подняться. – Мы должны подняться. Солнце и ветер, и само небо, они живые, потому что живые мы. Мы в объятиях лета, и оно хранит нас. Когда настал день, кто станет искать ночь? Она стоит недвижно, солнце в её волосах, невесомых в воздухе, открытое небо на бесконечность вокруг над нами. Подняться. Мы должны подняться, мы не должны прощать. Они могут вырыть глубокие рвы и наполнить их водой, они могут насыпать вал и усеять поле шипами, и натянуть проволоку, но птицы летят в небе. Когда крыши как цветные камешки далеко внизу, что значит, что это был город. Там, внизу. Что значит это теперь! Посмотри. Небо вокруг, и на каждую пядь земли не найдётся ли у него тысячи пядей простора? Посмотри, солнце светит нам, и на каждую меру тени не найдётся ли у него тысячи мер света? Станет ли обретающий солнце сожалеть о лучине? Станет ли обретающий небо сожалеть о клочке земли? Засуха может выжечь его, скот может придти и вытоптать его, люди могут забросать его камнями. Посмотри, их крыши как цветные камешки далеко внизу. Ведь это же небо, Лил, ведь это же небо!
... Солнце сошло с ума. Сколько часов до рассвета?..
Туман над лугом мокрой травы. Неподвижность воды, песчаная отмель. Деревья, тёмные, невнятные изваяния. Среди кустов накренившаяся на склоне машина. Роса на белом капоте, подёрнутое влагой лобовое стекло. Чёрное пятно отсыревшей золы на траве. Всё тихо. Спящий в тумане лес, склонённые над водой ветви.
......................................
Я просыпаюсь. Она спит. Осторожно, чтобы не разбудить её, я выскальзываю из постели.
Дриады плещутся в купальнях прохладной свежести, в брызгах солнца их ликующий смех, они зовут меня, в волнении я торопливо бреюсь и, облекшись в одежды, спешу к ним, они зовут, из подъезда, где на влажной штукатурке оттаивают синие тени, через двор, дальше, туда, где банкет прехорошеньких улиц играет блёстками звуков, скорее туда!
Раструбы гнутой меди исторгают "Old Timer", я вполголоса подпеваю. У киосков с водой стоят люди. Припудрив пылью бордюр, автобус замер, качнулся и, с шумом открыв двери, облегчённо вздохнул. Холодок свежести лизнул его разогретое нёбо. Торопливое цоканье каблучков обольстительных туфелек. Девушка вбежала вверх по ступенькам, складные ставни захлопнулись, и жернова колёс вновь принялись за свою привычную работу, автобус встряхнулся, встряхнулся ещё и, издав боевой клич, рванул по маршруту дальше. Я помахал ей рукой, и она с улыбкой сириянки кивнула мне и помахала в ответ через плотную тяжесть стекла. Я смотрю на неё, и мне хочется смеяться от лёгкости.
Конферансье выходит из здания спортивного зала. Остановился, чтобы закурить. Выбрасывает спичку. Его голова ещё не высохла после душа, и волосы блестят как напомаженные. Мимо на роликовых коньках проносится шумная ватага детей. Он идёт дальше.
Она потягивается, зевает, прикрываясь рукой. Удивлённо моргает. Да ты уже встал? – Соня!– говорю я.– Уже давно день. Вставай с улыбкой. Она трёт глаза. – Посмотри, что я принёс тебе. Китайский веер. Ну разве не прелесть? Она моргает. Из шороха бумаги я извлекаю перчатки, надеваю их на её пальцы, ещё непослушные после сна. Нравятся? Она просыпается окончательно. Силится сообразить. – Ты ходил уже куда-то, что ли? Я смеюсь. Она смотрит в окно, потом на меня.
Я жду её у парикмахерской, наблюдая, как тусклое зеркало стекла рассеянно пытается припомнить прохожих, скользящих по бледным лбам выставленных фотографий, обрамлённым модными фасонами причёсок, они проходят словно череда перерождений в театре сантаны. Там, внутри, стрекочут ножницы, хирургическая чистота, размноженная большими зеркалами, и мне хочется войти туда через зеркало и посмотреть на себя, стоящего снаружи, и когда мне это удаётся, я, к удивлению своему, замечаю рядом с собой какого-то незнакомца, пристально разглядывающего моё лицо. Я поворачиваюсь к нему, и он немедленно хватается за мою руку, как будто вознамерившись отнять её у меня. – А я стою, думаю, вы или не вы!– радостно сообщает он. – Простите...– пытаюсь было возразить я. – Да, мы незнакомы, то есть вы меня не знаете, и я, со своей стороны, прошу прощения за то, что столь бесцеремонно пытаюсь завязать с вами знакомство, но недостаток времени... Меня зовут Карл. Он запихивает мне в карман свою визитную карточку, продолжая улыбку, и проделывает это так ловко, что я не успеваю даже помешать ему. А теперь уже неудобно. – Видите ли, в чём дело,– объясняет он.– Я должен уезжать сегодня же, ужасно сожалею об этом, но, увы, дела. – А чем вы занимаетесь?– спрашиваю я, скорее машинально. – В свободное время?– пытается пошутить он. – В галерное. – Коммерцией, как ни прозаично это звучит. – Хлеб – тоже звучит прозаично, если вас это утешит,– говорю я, до некоторой степени оправившись и теперь внимательно изучая его лицо. Вполне приятное. – Я знал, что мы понравимся друг другу!– восклицает он, просияв. – А с чего вы взяли, что вы мне нравитесь? Он, не долго думая, воспринимает это как шутку. – Надо же было такому случиться, что сегодня, когда я должен уже уезжать, я встречаю вас, так случайно, на улице... – Что-то мне подсказывает, что наша встреча не вполне случайна. – А вы проницательны,– он хитро подмигивает мне.– Впрочем, учитывая то, что я о вас знаю... – Вы наводили обо мне справки? – Не стану отпираться, да, наводил. Хотя в этом и не было особой необходимости – ваша репутация хорошо известна в столице... – Вот как. Зачем же я вам понадобился? Или бизнес уже требует поэтического осмысления? – Я не занимаюсь бизнесом,– говорит он строго.– Я занимаюсь коммерцией. Бизнес – это немного другое. – Мне эти тонкости недоступны,– признаюсь я. Он кивает, давая понять, что не сомневался в этом. – И что же?– говорю я. – Вы знаете, что в городе скоро предстоят выборы, мы будем выбирать мэра... – Мы? – Есть очень хороший кандидат, который, действительно, многое может изменить в этом городе к лучшему... – Не нужно агитации. Я всё понял. – Нужно ему помочь. По этой причине я, собственно, и приехал. Это мой родной город, вы знаете? Я здесь родился. – Нет, я не знал этого. – Я делаю газету, и мне нужен главный редактор. – Отпадает. – Ладно,– говорит он.– Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы хотите что-то изменить в этом мире, я имею в виду, к лучшему, хотите исповедовать свою веру и делать это открыто, через прессу, я знаю, знаю. Вы прекрасный журналист, талантливый, яркий, но, с точки зрения вашего прежнего начальства, у вас есть маленький недостаток, вернее, излишество своё собственное мнение, правоту которого вы всегда и с таким блеском умеете доказать. В результате вас попросили с работы. Вы попытались запустить собственный проект, но кто-то постарался, чтобы затея ваша провалилась. И вот, я встречаю вас на улице здесь, в этом городе. – А вы неплохо осведомлены. – Да, я кое-что знаю о вас. И не думайте, что я всё упрощаю, нет, я понимаю, что всё было намного сложнее и не так однозначно... Но мы говорим по существу. Вам нужен печатный орган? Вот вам, пожалуйста, печатный орган. Да, это не то, о чём вы мечтали. Но всё впереди. – И вас не смущает, что я буду иметь собственное мнение? – Совершенно не смущает! Более того, чем ярче и интереснее вы будете его излагать, тем лучше! – Всё это очень хорошо, но меня не интересует местная тематика. Этот город мне неинтересен. – Между прочим,– говорит он,– в скором времени я собираюсь купить киностудию. Я слышал, вы пишете сценарии... Я могу помочь вам, обеспечить финансовую поддержку, но это будет союз, а значит, и вы должны помочь мне, и дело даже не в этих выборах – это так, эпизод, но... – Но? – Мы живём в мире реальном,– говорит он, широко улыбнувшись.– Со всем его реальным дерьмом. – Я с дерьмом мира не подписывал. Хотя и войны не объявлял, в этом вы правы. – Я прав,– подтверждает он.– Дабы насытить бренное своё тело, мы принуждены служить мамонне,– он горестно разводит руками.– Куда же деваться. Но дабы насытить дух свой, мы устремляемся к высшим сферам. Астрономы изучают звёзды, которые находятся за миллионы световых лет от нас. Ну зачем, казалось бы, это нужно? И какая от этого может быть польза нашим земным делам? – Коммерчески невыгодно? – Именно!– радуется он.– Но это нужно нашему духу, это отвечает нашему стремлению к познанию мира. Но чтобы заниматься такими исследованиями, нужны же деньги! Вы понимаете. А кто даст деньги? Можно просить, конечно, давайте просить. Вы хотите просить? Нет. Вы хотите просить? – Нет. – Давайте убеждать, давайте вздыхать, ах, что у людей неважно с воображением. Это правда, вы понимаете, да? Простите. За выражение, это объективная реальность. Что же нам делать? Вы не хотите просить, и я не хочу просить, что же нам делать? Остаётся заниматься коммерцией, вы понимаете? Остаётся заниматься коммерцией, и это так. Потому что либо мы будем просить деньги и жаловаться, что людям нужно не то, что мы делаем, либо мы будем давать людям то, чего они хотят, и получать возможность делать то, что мы делаем, устремляться к высоким сферам, пожалуйста. Вы понимаете? Либо мы будем просить, либо мы будем заниматься коммерцией. – Постойте,– говорю я.– Вы предлагаете как бы разделять часы труда и часы молитвы? – Вот! Вы меня поняли! – Предлагаете уделять молитве часы досуга, полагая, что Богу этого вполне достаточно? Верно? – Ну...тут, видите ли... – Султан собственноручно отрубает головы двадцати своим вельможам, уходит во внутренние покои дворца, воздаёт молитву и, вернувшись, отрубает головы ещё двенадцати. Но причём же тут я? Я ваших воззрений не разделяю. Он несколько озадачен, но капитулировать явно не собирается. – Нам с вами просто нужно поговорить более полнокровно, вы понимаете. Как жаль, что я должен уезжать сегодня, мы бы с вами поговорили. Но это ничего, мы ещё встретимся с вами. И договоримся, вот увидите. У меня чутьё на это. Мне нравится, как вы принимаете мир, мне нравится, как вы делаете дело. Это очень важно, как вы делаете дело. Мне нравится, это я говорю вам. – Я не питаю уважения к людям, которые призывают к войне. И я отворачиваюсь и ухожу, когда кто-нибудь начинает вопить о революции. Только и всего. Но я вовсе не считаю, что Рай можно устроить на деньги, собранные в Аду. Эти два мира гораздо дальше один от другого, и гораздо ближе, чем вам, может быть, представляется. – Да, я понимаю, о чём вы говорите. Вы убеждены, что между нами не может быть союза... – Может быть, компромисс, если хотите... – Да. Я понимаю, да. И всё-таки подумайте. У вас остаётся моя визитная карточка, я дал вам. Там есть телефон. Позвоните мне. Слышите? Теперь. Как мне вас найти. Он выжидающе смотрит на меня. Я молчу. Он понимающе кивает. – Так. Ладно. У вас есть мой телефон. Вы всегда меня найдёте. Мы можем работать, вы понимаете, да? Это удача, вы поверьте мне – и для меня, и для вас. Я буду ждать, слышите? Позвоните. Он смотрит на часы. – Я бы хотел, конечно, поговорить ещё с вами, но, я вижу, вы ждёте кого-то? – Да, жду. Он улыбается и протягивает мне руку. – Ну? Удачи вам. Мы прощаемся, и он уходит. Я достаю из кармана белый твёрдый кусочек картона. Мне приходит в голову мысль. Я подхожу к седому человеку в добротной кожаной куртке, бросаю в его деревянный ящик монету и погружаю свой трофей в пачку листков с предсказаниями. – Обычно платят за то чтобы взять,– замечает он. – Значит, мне судьба делать всё не так, как другие,– говорю я.– А впрочем, считайте это авансом.
Она толкнула дверь и вышла ко мне. Она вошла под ажурные своды горячей, пахнущей зноем листвы, и вздохом прокатился ветерок по амфитеатру, как она хороша! – Ну как?– говорит она, без нужды трогая уложенные локоны. – То, что нужно. Я пытаюсь говорить спокойно. Она надевает шляпку, поправляет её, нет, вот так, чуть набок. – У тебя нет монетки?– спрашивает она, заметив предсказателя. Она идёт к нему. – Ваш кавалер уже заплатил за вас,– сообщает ей дед, показывая на меня. – Правда?– она оборачивается ко мне.– Как мило... Зажмурившись, чтобы не подглядывать, она пробегает пальцами по стопке, пальцы замирают, и в тот же миг, быстро и цепко, она выхватывает листок. С недоумением разглядывает. – Посмотри-ка,– она протягивает его мне.– Что это? Что? Визитная карточка. Я в душе ругаю себя за свою выходку. Она читает вслух вытесненное свинцом на бумаге имя и задумывается, как будто что-то припоминая. – А знаешь...– говорит она.– Я слышала это имя. Старик улыбается. Она смотрит на меня. Замечает во мне перемену. Ты что, расстроен? Да нет, что ты. Пойдём? Она идёт. Растерянно вертит в руках карточку. Потом, вдруг разом решившись, рвёт её на кусочки и вытряхивает из ладошки в урну. Возвращается ко мне. – Вот и всё,– она обнимает меня за руку.– Зачем нам нужен ещё кто-то? – Да,– говорю я.– Зачем? Какие у тебя красивые волосы, Лил! Нет, правда, хорошо. Да? Ей приятно. Сегодня явно благоприятный день для всяческих начинаний. Ветер что ли переменился? – Не начать ли и мне артистическую карьеру? – Прямо сейчас? – Немедленно,– заявляю я и, подойдя к пожилому господину, мирно расположившемуся под сенью каштанов дабы немного подремать в тени, спрашиваю его, не будет ли он так любезен одолжить мне свою шляпу. – Видите ли, у неё такой классический вид, а я неравнодушен к классическим атрибутам. Он не отвечает. – Я могу взять её у вас в аренду,– поясняю я. – Пожалуйте,– говорит он тоном потомственного дворецкого. Я благодарю его. – Усаживайся, Лил, поудобнее. И разумеется, я взываю к твоей снисходительности. Не забывай, это моё первое выступление в подобном амплуа. Можно сказать, дебют. Я пересекаю улицу, пропустив перед собой мотоцикл, становлюсь так, чтобы не мешать людям проходить мимо, раскладываю на тротуаре носовой платок и располагаю на нём шляпу,– всё-таки вещь чужая. Потом я основательно откашливаюсь и, закончив этим все необходимые приготовления, затягиваю песенку из репертуара Мадонны. Для пущего успеха предприятия я подпускаю в голос побольше трагичности. Лил некоторое время держится, но наконец начинает откровенно покатываться со смеху, чем сводит на нет весь трагический эффект. Закончив свой концерт и поблагодарив щедрую публику, я возвращаю шляпу любезному её владельцу, хранившему на всём протяжении моего выступления спокойствие, достойное карнакских изваяний. Часть выручки я отдаю ему в качестве платы за аренду – договор есть договор. После этого я направляюсь к Лил с твёрдым намерением отчитать её. – Не понимаю, что ты нашла в этом весёлого. Я выбирал самые несмешные песни. Она делает извиняющееся лицо. – Ты с таким чувством пел... Прости, я не хотела. Ты молодец. Она опять начинает давиться смехом. Ну что тут будешь делать, если в человеке нет ни грамма серьёзности. – Что нам с этим делать?– размышляю я вслух, пересчитав деньги. – А ты даже кое-что заработал,– говорит она с лёгким удивлением. – Видишь, мне тоже платят деньги. Я же говорил, сегодня благоприятный день. И народ в этом городе чуткий и отзывчивый. – А кто говорил... – Всё!
Я бросаю жетончик в щель автомата, дёргаю за ручку – дзынь! Очень просто. Следующий – дзынь! Дзынь! Мы встретились с Лидой на променаде у моря. Они поцеловались и стали разговаривать, словно бы не замечая моего присутствия. Все мои попытки принять участие в их разговоре окончились полной неудачей. Наконец, когда Лида обмолвилась обо мне в третьем лице, я не выдержал: "Милые леди, я вам, случайно, не мешаю?" Мой вопрос остался без ответа, и я ушёл. Дзынь! Должен же он раскошелиться, наконец!
– Ну что, выиграл что-нибудь?– спрашивает Лил. – Всё проиграл?– говорит Лида. – Ничего не потерять – значит, уже выиграть,– веско заявляю я. Лида говорит: "Ну что ж, тебе виднее". – А давайте сфотографируемся все втроём,– предлагает Лил. Фотограф, навострив уши, издаёт призывную улыбку. Я отворачиваюсь. – Идите вдвоём. – Почему?– удивляется Лида. – Я не люблю фотографий. Всё когда-нибудь становится прошлым, а я не люблю гербарии. – Какой ты умный,– качает она головой. – Да,– скромно говорю я.– Но, увы, это редко помогает. – Помогает в чём?– спрашивает она. – Это не мешает иногда совершать глупости. – Вот как? – Да,– говорю я.– Когда в поезде тебе на голову падает чемодан, он не спрашивает тебя, знаешь ли ты что-нибудь о силе инерции. – Но можно уйти из-под него,– возражает она. – Не уверен. – Хватит, хватит, хватит,– вмешивается Лил.– Сейчас он втянет тебя в дебри. Не поддавайся ему,– говорит она Лиде. Лида просяще смотрит на меня. – Мне бы хотелось, чтобы мы были втроём,– говорит она. Я колеблюсь. – Ладно,– наконец, сдаюсь я.– Быть любезным – тоже удовольствие. – Только давайте быстрее!– торопит нас Лил.– А то стемнеет скоро. Будем похожи на привидений.
Фотограф возится со своим аппаратом, торопливо производя невидимые манипуляции. Свет в глаза. Заходящее над морем солнце.
...........................
И я подумал, что лето кончается и кончилось уже, и скоро осень, ведь так бывает осенью, бархатный сезон. Так просторно, когда всё сверкает от солнца, улицы, проспекты, стекло, и можно дышать, дышать, так много воздуха, что его, кажется, нет совсем. Так много места для света. Как в комнате, когда в неё впускают день, но комната не может вместить столько простора, ни одна комната не может вместить столько света, и кажется, стены стали прозрачны, и нет комнат, коридоров, улиц, нет того, что внутри, и того, что снаружи, только свет, сверкающий, прохладный. Пространство. Зеркала стёкол. Так бывает, когда начинается осень. И ещё на закате. Как сейчас. Когда всё замерло, сама невесомость, и вот, затаить дыхание и замереть так, тебя нет уже, и нет ничего, что не ты. И щемит сердце. Но что-то уже тянет тебя назад, в комнату, и ты не хочешь оборачиваться, но уже обернулся, и поздно знать, что там ничего нет. Ты уже обернулся. Лида. Я боюсь потревожить её, грубо ворваться в этот хрусталь, его холод и чистоту, его свет. И уже не могу не сделать этого. Она встрепенётся, скажет: "Что?" И отвернётся, застигнутая врасплох, может быть, закусит губу. Станет мучительно собираться с мыслями, её губы робко станут нащупывать улыбку, неуверенно, ей нужно будет ответить. Она скажет: "Что?" Но я должен. Прости. – Ты сказала ей о нас? – Нет. Она не пошевелилась. Она сказала: "Нет. Но она знает".
Закат. Пустая комната с открытым окном. Занавески, зеркало, шезлонг. Розовое в окне небо.
Вдалеке просёлочная дорога, изгородь со стороны поля, крошечная фигурка велосипедиста. Сумерки.
9
– Где ты в последние дни пропадаешь всё время? Я не спрашивал тебя до сих пор, но как-то... – Тебе же это неинтересно. – Ну почему же... – Ты же знаешь, мне предстоит путешествие. – Тебе? – Нам. Нет, не с тобой. – Надеюсь, не кругосветное? – Я же говорила тебе, мы уезжаем на гастроли. – Ах да, я и забыл. Ваш обожаемый Монпасье вознамерился, ни много ни мало, покорить всё побережье – все сто пятьдесят два километра! Она разжигает камфорку. – Да никакой он не обожаемый. Кофе будешь? – Да. – И потом, что в этом плохого? – Ничего. Только зачем называть это гастролями? – Он это так и не называет. Это я говорю, гастроли. – И ради этого нужно жить в гостиницах? – А почему бы и нет?– пожав плечами, говорит она.– Главное, чтобы весело было. – Немного же вы заработаете. – А разве это так важно?– говорит она. – И когда вы уезжаете? – На днях. Ты не видел мой халат? – Он в комнате, на стуле. Но сегодня ты больше не уходишь? – Нет. Помоги. Я расстёгиваю крючки на платье. – Последи за кофе. За окном детские голоса. Вода в джезве, закипая, начинает тихонько шуметь. Клеёнка на столе. Подоконник, и дальше тень. Я снимаю кофе с огня и, помешав его ложечкой, разливаю по чашкам. Она выходит из ванной, закалывая волосы. Целует меня и усаживается за стол. – Фу. Ну и умаялась я. Такая жара. Я открываю холодильник. Закрываю его. – Сливки кончились. – Ничего, выпью чёрный. – Съешь что-нибудь? – Не хочу. – Ну что ж. Хоть один вечер побудем вместе, вдвоём.
Недвижность листвы. Дуновение запаха её духов, такое слабое. – Тит Сестерций жил в небольшом городке на берегу Миссисипи. Он был влюблён в одну девушку, долго и безуспешно добиваясь взаимности. И вот, однажды, наконец, он услышал от неё слова, которые чуть не разорвали его сердце переполнившим его восторгом. Она шепнула ему: "Сегодня ночью". Можешь представить себе его состояние. Он не мог найти себе места, он метался по комнате, не в состоянии думать ни о чём другом, а день, между тем, не торопился уходить, медленно, мучительно медленно клонился он к вечеру. Но вот уже небо окрасилось закатом, теперь немного, совсем немного! Ему сделалось тесно в стенах его дома, он выбежал на воздух и, бесцельно бродя по улицам, сам не заметил, как вышел к реке. Солнце уже зашло, и река и небо над ней были залиты ровным золотисто-багровым сиянием. Пароход, только что отчаливший от пристани, медленно и важно проплывал мимо, неся своё отражение как чёрное вымя, и зачарованный, смотрел на него Тит Сестерций, рассеянно блуждая взглядом по палубе. И вдруг он оцепенел. Среди толпы незнакомых людей, навалившихся на поручни, он увидел ту, которая... Он увидел её. Она не видела его, болтая с кем-то, кто стоял рядом с ней. Оторопевший, потрясённый, он смотрел на неё и не мог оторвать глаз. Она уплывала. Пароход уносил её всё дальше, дальше по течению, вот она повернулась спиной, вот он уже не может различить её среди толпы, вот она исчезла совсем... Пароход давно уже скрылся, а несчастный Тит всё стоял и смотрел на пустынную реку, всё такую же прекрасную... – И больше он никогда не увидел её? Она уплыла навсегда? – Больше никогда. – И даже не попрощалась с ним... – Это было бы слишком жестоко. Или романтично? – Да. Слишком жестоко... – Сварить ещё кофе?
Напевая вполголоса тему, которую он напевал в танцзале, Конферансье входит в подъезд. Поднимается по ступеням, проходит мимо. Где-то наверху его шаги замирают. Тишина. Звук открываемой ключом двери. Захлопнулась.
Он кладёт телефонную трубку, он только что говорил с кем-то. Кивает своим мыслям. Протянув руку к журнальному столику, достаёт из пачки сигарету. Разминает её в пальцах. Смотрит куда-то перед собой. В дверь звонят. Он поворачивает голову, но не двигается с места. Звонок повторяется. Он досадливо качает головой, отбрасывает сигарету и идёт открывать. Мой голос в прихожей.
Люстра с голубыми пластиковыми чехлами. Одна лампочка перегорела, осталось три. Открытое настежь окно с раздвинутыми шторами. На кухне шумит чайник. Мы сидим в креслах. Справа от меня, на журнальном столике, беспорядочной стопкой лежат журналы. Он читает газету. – Странно...– говорю я. – Что?– говорит он, подняв голову. – Странно, как могут одни и те же слова иметь совершенно разный смысл, в зависимости от того, произносишь ты их или слышишь, и от того, кто их произносит, и кто слышит... И ты думаешь, что тебя понимают, а на самом деле... На секунду задумавшись, он недоумённо смотрит на меня. – Вы что, поссорились?
Звонит телефон. Он снимает трубку: "Алло". "Да". "Ну конечно". "Ладно, не буду. А ты собралась уже?" "А что такое?" "Да? Ну ладно, только смотри, не опаздывай". "Ну всё, до завтра. Пока". Он кладёт трубку. – Кто звонил?– спрашиваю я. – Она. – Кто? Лил? А почему же ты... – Ну, я же не знаю... – Так что, она всё-таки едет? – А что, она собиралась не ехать?
Он играет спичечным коробком, гоняя его пальцами перед собой по кухонному столу. Я сижу, поставив локти на стол. Высохшее пятно от чая на желтоватой скатерти, две пустые чашки на блюдцах, пепельница. Уже за полночь. Завтра ему вставать, но он отмахнулся – ерунда. Тебя не будить? – Да нет, не нужно. Тихо. – Нужно кое-что обдумать,– говорю я.– Наверное... Нужно разобраться во многом. – Ну, время у тебя будет. Я говорю: "Да". – Когда возвращаетесь? – Не знаю,– говорит он.– Смотря по тому, как нас примут. – Понятно. – Хотя чем другие города, в сущности, отличаются от нашего? – Ну да,– говорю я.– В самом деле. – Через пару недель, я думаю. Хотя, может быть, раньше. – Или позже? – Ну да.