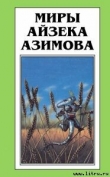Текст книги "Галатея"
Автор книги: Иннокентий Сергеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Аллея парка, асфальт, цветы. В просветах листвы небо. Мы сидим на скамейке в душистой прохладе тени. Я говорю: "... Ну, а что будет, когда солнце уйдёт? Пойдёте ли вы за ним или останетесь киснуть в болоте мёртвых уже привычек? Пока есть свет, есть жизнь. Пока есть любовь, есть радость, но ничего нельзя привязать к себе, нужно идти, идти дальше и открывать новые земли... – И захватывать?– говорит он. – Мы идём по пустыне. От оазиса к оазису, и если бы их не было, мы бы погибли. Но всякий раз, когда я вижу красоту, она становится мной лишь тогда, когда, выражая её, я выражаю себя. И то, что сделано мной, уже не во мне. Этого нет во мне больше, и я иду дальше... – В пустыню? – Да, это рискованно. Но как же иначе? Остаться? Объявить себя Великим Правителем Этого Оазиса? И всю оставшуюся жизнь торчать перед зеркалом, примеряя лавровый венок и любуясь собой в гордых и величественных позах? – Однажды можно просто не дойти до очередного оазиса,– говорит он.– И в результате никуда не придти. – Да,– говорю я.– Или принять за оазис мираж. Случается и такое. Но страх – это не метод. – Где-то я это уже слышал...– задумчиво говорит он. – Может быть. Но правда остаётся правдой. Мы молчим. Я замечаю прогуливающуюся чуть поодаль на асфальте чайку. Это ведь чайка? Она самая. Я ищу по карманам и нахожу кусочек рафинада, завёрнутый в разорванную бумажку пакетика. "Гули-гули-гули",– подзываю я её, но она не реагирует. "Эй, как тебя. Джонатан. Давай сюда, сахар получишь". – Наверное, сытая,– высказывает своё соображение Конферансье. – А может, она не ест сахар? – Ест,– убеждённо говорит он. – А всё-таки надо сбегать, купить ей рыбы. – Это можно,– соглашается он. – А она не улетит куда-нибудь? – Ничего,– говорит он.– Мы её ниточкой привяжем. К скамейке. Он пытается поймать её, но она убегает, и он бежит за ней и никак не может схватить негодную птицу...
– Кончилось тем, что он растянулся, а чайка улетела. Как я и ожидал. – Нашли развлечение,– кивает Лил с насмешливой укоризной.– Два здоровых мужика. – Ты слушай дальше. А то не буду рассказывать. – Так кто тебя привёз-то? – Он мне говорит: "Пойдём, ещё поотражаемся". Я говорю: "Давай". Идём, и тут нам навстречу какой-то тип. Оказывается, они знакомы. Он на колёсах. Поехали кататься втроём. А потом он поехал нас развозить. Знаешь, как он сказал? "В таком состоянии колёсами легче управлять, чем ногами". Толковый парень. Три раза ему объяснял, куда ехать, и он каждый раз говорил: "Понятно",– и отвозил куда-нибудь не туда. Ладно, мимо проезжали здесь, по этой улице. Я ему: "Стоп! Приехали". Выхожу, прощаемся с ним, я ему говорю: "Единственное, что нас страшит – это неведомое. Единственное, что нас притягивает – это неведомое". И, ты знаешь, он согласился!
Пошатываясь и цепляясь за перила, я поднимаюсь по лестнице подъезда. Подхожу к двери. Она открывает, но зачем-то я ещё раз нажимаю на звонок. Я пьян. Пытаюсь пройти мимо неё. – Кто это тебя привёз? Ой...– дверь захлопывается. Где-то наверху шаги по лестнице вниз. Прохладный полумрак подъезда.
Голос Лил: "Так где ты пропадал эти дни?"
Я вхожу в комнату. Никого. В пепельнице дымится окурок. На полу валяется раскрошенная пробка от бутылки вина. Окно открыто настежь. Сквозняк. В ванной шумит вода. На кухне горит свет. В чёрном окне освещённые окна домов города.
Зал ожидания аэропорта. Монотонный женский голос объявляет рейс, люди вытягивают шеи, прислушиваясь. Голос повторяет, безразлично, без интонаций. Звяканье мелочи в кассе буфета. Треньканье игровых автоматов. Лётное поле. Самолёт, набрав разбег, отрывается от полосы. Маленькая девочка заворожено смотрит на него сквозь мутноватое стекло зала ожидания аэропорта.
Город в ночных огнях. Мигающий огонёк самолёта в чёрном пустом небе.
... И однажды увидев, на одно совершенное мгновение увидев тебя такой, какой ты явилась мне, когда не стало меня, и ты шла, и была сверкающая солнцем площадь, и не было звуков... Пространство... Однажды увидев, я иду к тебе, и снова и снова я буду искать тебя. Потому что моя смерть – это твоё рождение. Такой, какой я увидел тебя. Однажды...
6
Гимнастический зал, из которого вынесли весь спортивный инвентарь остались только баскетбольные щиты с корзинами,– одна из них стянута шнурком и доверху набита бумажными цветами – если снизу бросить в неё мяч, взорвётся фонтан цветов, красиво будет,– огромные, во всю высоту стен, окна, залитые солнцем. – Вообще-то, здесь репетирует кордебалет,– говорит Лил тоном радушной хозяйки, оправдывающейся перед гостями за беспорядок в доме: "Эти переезды, знаете..." Я подхожу к роялю. Сажусь за клавиши и открываю крышку. – Балет? – Ну да,– она подходит ко мне.– Здесь обычно танцуют. – А ты танцуешь? – Я играю. – Играешь? На чём? – На сцене. Я улыбаюсь. Пробегаю по клавишам, разгоняя пальцы. Играю "Дым" Керна. Она слушает, ставив локти на чёрную полировку дерева. – Вообрази себе,– говорю я,– гениального пианиста. Его руки связаны за спиной, и вот, он не может сыграть даже гаммы. Но разве от этого он перестал быть гением? Нисколько. – А почему он их не развяжет?– говорит она. – Если бы он мог сделать это сам, то зачем бы ему было сотворять человека? – Так ты говоришь о Боге? – Да. – Человек должен развязать руки Богу? – Да,– говорю я.– А сейчас я сыграю для тебя мою любимую из мелодий. – А хочешь, я спою для тебя?– говорит она. – Да,– говорю я.– Послушай. Я начинаю играть "Римские каникулы" Матиа Базар.
Раскалённый зноем асфальт. Стаи голубей. Скамейки на площади, сверкающие на солнце машины у парадной лестницы здания театра. Песчаные дорожки, цветочные клумбы. Женщины в чёрных очках. Лепные формы фонтанов. Расположившаяся на асфальте компания молодёжи с гитарами и магнитофоном. Потёртая дорожная одежда. Девчонки лижут мороженое. Тему "Римских каникул" сменяет "Отель Калифорния".
Силуэты высотных зданий на фоне закатного неба, подернутого дымкой. Выгоревшая трава луговины. Палатки. Дым костра.
Далеко на дороге крохотная фигурка велосипедиста удаляется, сливаясь с сумерками.
... Ты не актриса, потому что это нельзя сыграть, это можно только прожить, и ты не играешь, ты живёшь. Ты – свет. Как мрамор, когда отсечено всё лишнее, он оживает, и это не камень уже – голос вопиющий осанну!..
Пустой гимнастический зал, залитый светом дня. Посреди зала, в одиночестве, Конферансье танцует, напевая вполголоса музыкальную тему. Темп убыстряется. Конферансье поёт уже во весь голос, срывается и, выделывая балетные па, начинает задыхаться... Остановился. За окнами слышатся детские голоса и грохот роликовых коньков. Он идёт к роялю. Нет, передумал. Направляется в раздевалку. Пустой зал. Стена с высокими окнами, напоминающая акведук.
– Нужно уметь вовремя уйти,– говорю я.– Это далеко не всем удаётся. – Тебе это удалось,– кивает она. – И они всё портят. Водка иногда... – Что? – Я говорю, водка иногда возвращает всё на свои места. – Как это? – Возвращает к тому, что ты знал об этом раньше. И не всегда это было неправильно. Мы уходим и от правильных решений. – Да,– говорит она.– А почему? – Вот уж о чём я не хочу думать. – Ну и не думай,– говорит она. Я приехал на море и занимаюсь отдыхом. – Раз ты это почувствовал, значит, ты сделал правильно, что ушёл. – Я не хотел никого вести за собой. И понял, что начинаю хотеть этого. Здорово я всё объясняю, да? Она, усмехнувшись, кивает. – А как ещё объяснишь? Она пожимает плечами. Она говорит: "Ты спрашиваешь?" – Если бы я промедлил хотя бы немного, я бы уже не смог уйти. Бывают такие заморочки, когда ты оказываешься как в заколдованном кругу. Надо уметь вовремя... – Уйти,– заканчивает она. – Остановиться, да. Может быть, уехать. Я же не мог отключить телефон и не открывать никому дверь, правильно?
– Но ты же даже не видел меня, как я играю! – Всё это неважно,– говорю я.– Уже неважно. – Но для меня это важно, ведь это моя жизнь! – Ты свыклась с мыслью, что на большее ты не способна? – Скажи уж сразу, ни на что! – Это ты так думаешь. Ты говоришь "я", но что ты о себе знаешь? Думаешь, можно протестироваться, сходить к психологу или гадалке, и пожалуйста – получи себя на блюдечке? Так ты себе это представляешь? Конечно, всё, почти всё можно разложить по полочкам, на то и существует наука, но твою жизнь никто за тебя не проживёт, и можно сколько угодно рассуждать о том, как устроено это и то, можно изучить состав аминокислот и формы неврозов, но... жизнь останется тайной. Человек – не творец своей судьбы, а лишь соучастник, как и народ не создаёт свою историю, а лишь участвует в ней. И всё, что он может, это быть самим собой, или лгать, всю жизнь лгать, изображая кого-то другого, и так и не начать жить. Ты говоришь, это моя жизнь, я такая, но что ты о себе знаешь? Конечно. У тебя есть твои любимые, стоптанные уже, туфли, и они не перестают быть твоими потому только, что были выпущены на потоке. И твоя одежда – это твоя одежда, пусть будет сколько угодно других, таких же точно, свитеров, джинсов, курток... И твоя машина – это твоя машина, и твои болезни – это твои болезни, и твой город – это твой город... твои привычки, твои любимые сигареты, твои книги, выпущенные тиражом сто тысяч... Это твоё, но это не ты. Можно смоделировать структуру белка, но кто оживит его? Можно повторить в мраморе формы женского тела, но что оживит мёртвую статую? Ты ещё не знаешь, какая ты, но ты должна знать, что ты – звезда. Повторять это как заклинание. Знаешь, как японцы произносили буддийские тексты? Они заучивали их наизусть, даже не понимая смысла. Долгое время им вообще не приходило в голову, что их можно перевести. Им не было нужды в этом. То же самое Екатерина рассказывала о бурятах и киргизах, уж не помню, кому именно... – Но зачем мне это? – Чтобы проникнуться этим... Этой идеей. – А зачем? – Что зачем? – Разве обязательно чем-то проникаться? Разве не достаточно просто быть? – Именно для того чтобы быть. Ты будешь открывать себя снова и снова заново, и удивляться этому – оказывается, ты совсем не знала себя! Но что-то останется неизменным. О чём-то ты должна всегда помнить. И повторять, повторять, повторять... Она смеётся: "Буду как монахиня с чётками!"
Ты – звезда. Ты – город, который светит миру. В тебе сокровищницы всех империй, тайные кладовые веков, народов, цивилизаций, светлоколонная галерея дворца, где голос в опернопышном оперении музыки как биение сердца, и сфинкс бросается в пропасть, и пламя его страсти и трепет свечения над глыбами северных льдов – всё это ты, и вся Земля принадлежит тебе. Весь этот мир – мальчик-паж, поддерживающий край твоего царственного одеяния. Эта планета – песчинка, пролетающая сквозь пылающий шлейф твоего платья... – Жалко, что об этом никто не знает,– говорит она. – Об этом знаю я. А другие... Их голоса – дудочка в руках паяца, имя которого – Время. Что тебе до его ужимок. Оставь их, у нас с тобой мало времени – нам предстоит перевернуть мир! – А зачем?– говорит она.– По-моему, он и так неплохо лежит... – Затем что ты звезда, и тебе надлежит быть звездой, и тебе это нравится. Ты держишься за этот свой балаган, думая, что нашла своё место, ты низводишь себя до роли бездарной актрисы, которая предпочитает третьеразрядный театр, только бы быть примадонной. Но это не твоя роль, тебе это ненужно. Ты ещё не веришь в себя, потому что никогда не знала себя прежде. Здесь. Есть звёзды, которые лепят из папье-маше, крашеной фанеры, и вот, они громыхают листами жести, изображая гром. Они играют в звёзды по тем же правилам, по которым те, кто их лепят, разыгрывают небеса. Но ты иная. Ты подлинная, и таких звёзд ещё не было. Во все времена было что-то от тебя и что-то от меня, но не было нас с тобой. Вместе. Так давай попробуем сделать из этого действительно что-то!
– Ты говоришь про наш театр, что он третьераздрядный, а сам даже не пришёл ни разу посмотреть!..
– Если я такая замечательная, то как же ты говоришь, что я ничего из себя не представляю? – Я не говорил так. – Говорил! – Не говорил я так. Я сказал "то, что ты теперь делаешь". – Какая разница. – Огромная. Просто ты ещё не живёшь настоящей жизнью, своей жизнью. Потому что вот это, вот это – не ты. – А кто же тогда? – Не ты! – Ну откуда ты знаешь, какая я? – Знаю. – Ты приехал сюда без году неделя, ты ничего не знаешь, как я жила здесь... Ты даже не видел меня на сцене! – Этого не нужно. – Ни разу не был на нашем представлении... – Этого не нужно. – И говоришь, что знаешь меня. А я себя не знаю. Люди, которые долгие годы знают меня, оказывается, тоже ничего не знают! А ты знаешь. – Я знаю. – Как же ты меня разглядел? – Я увидел тебя. – Что?
– Это была не галлюцинация. – Что? – Эта площадь не могла так сверкать.
... Нам никогда не сказать им главного! Слишком мало, это слишком мало, одна человеческая жизнь, даже если сжечь её за несколько лет или один год, то и тогда этого слишком мало. Нам никогда не сказать им главного! Всё равно, всё равно, всё равно, слышишь? Всё равно! Но что им всем до того? Они не заметят разницы. Когда к ним придут мои убийцы и будут говорить им те же слова, что произносил я, они не заметят разницы... Они не заметят. Смешны судьи, не знающие закона. Какое бы решение они ни приняли, разве будет оно иметь силу? Но я помогу тебе. Они о тебе узнают. Пусть даже нам ничего не объяснить, и никогда не сказать им главного...
– Знаешь, как выглядит центр Земли? – Нет, не знаю,– говорит она, надувшись. – Ну, подумай. – Не знаю, я же сказала. – Не знаешь. – По-моему, Земля круглая. – Не спорю. Значит, не знаешь? Это дохлая, пыльная площадь в задрипанном городишке. С одной стороны к ней примыкает рынок, с другой вообще ничего. Сонные мухи, жара, вонь. И знаешь, почему? Она молчит. – Ты, конечно, представляешь себе величественный храм. Обелиск. Маяк высотой в полнеба. Да? А всё потому, что люди, которые здесь живут, знать ничего об этом не знают. Вот так же и ты. Она рассердилась. – Что я! Я хочу поцеловать её, она вырывается, отпихивает меня. Наконец, сдаётся. Она говорит тихо: "Ну что, я?"
Она говорит: "Я тоже живой человек, мне тоже может быть больно. Почему ты забываешь об этом?"
... Я должен уйти, исчезнуть, чтобы вместо меня в этот мир пришла ты...
Ночь. Тлеющие угли костра. Плеск воды. Под пологом чёрных ветвей, накренившись на склоне, стоит наша машина. Бледное пятно во тьме. Перестать быть. Умереть. Чтобы вместо меня к ним пришла ты. И, воплотившись в тебе, вернуться... Шелест невнятных во тьме деревьев... Тростник. Треск цикад над травой.
7
День. Открытое окно комнаты. Лил сидит на подоконнике так же, как в тот вечер, когда она сказала: "Рай – это любовь, только ещё больше". – Если проститутку наградят орденом Почётного Легиона, то одни скажут, что это унижает орден, а другие – что это возвышает профессию проститутки. – И что это значит?– говорит она. – Да ничего особенного. – Что значит, ничего особенного? – Можно сказать это так, а можно по-другому. Важно то, что за словами. Всего всё равно не скажешь, а значит, чего-то недоскажешь. Одни так поймут, другие – по-другому. На всех не угодишь. – Где ты ободрался, скажи лучше. – Расчесал. Укусит ведь такая дрянь, тоньше иголки уколет, а расчешешь... – Не чеши. – Так ведь чешется! – У меня тоже, ну и что? – Ты тоже расчёсываешь. – Я?!– она возмущена.– Где?– она обнажает руки, протягивает мне.– На, покажи. Где ты видишь, что я расчёсываю? Покажи! – Хорошо. Ты не расчёсываешь. – Да, я не расчёсываю. – Да. Я же не спорю, наконец. Ты не расчёсываешь. Ладно, я неправ. Прости. Ты не расчёсываешь. Да, не расчёсываю. – Ты не договорил. Я тебя перебила, прости. Так что ты говорил? – О чём? – Обо мне. – Мне показалось, что тебе это неинтересно. – Ну что ты. Жутко интересно, когда тебя объясняют такие умные люди. – Кого ты имеешь в виду? – Тебя. Мне иногда кажется, что ты разговариваешь как бы сам с собой. А то ещё начинаешь спорить. А я как на заседании суда жду своего приговора. – Прекрасно, Лил! Итак. Зал Суда Её Величества. Учёная защита, учёный обвинитель. На скамье подсудимых смущённая девочка, непонимающими глазами смотрит она на это нехилое скопление учёного люда в мантиях и париках, устроенное в её честь, и очень переживает, что не может подкрасить ресницы. Адвокат и обвинитель скрещивают клинки, цитируя римлян, Конфуция, Наполеона и Грасиана, изливают кипящие потоки сарказма, их речам позавидовал бы сам Демосфен, да что там! – Цицерон, Брут или Марк Красс! Зал то взрывается хохотом, то замирает в благоговейном трепете, присяжные слушают, раскрыв рты, в толпе какой-то человек боится кашлянуть. По памяти произносят они тексты параграфов, их познания в латыни безукоризненны, их речи вызывают больше слёз, чем все воззвания Ионы и Исайи... Девочка ничего не понимает, она сбита с толку, но ей жутко интересно, чем всё это закончится, и кто кого одолеет. Ей лестно, что из-за ней бушует такая потрясающая дуэль. Адвокат подмигивает ей, она подмигивает ему в ответ. Обвинитель требует прекратить сговор. – Какой сговор,– улыбается защитник.– Ведь она же дитя. – Протестую!– кричит обвинитель. Но уже поздно. Все обращаются к той, из-за кого, собственно, весь этот шум, и когда они видят её, они начинают смеяться – и зрители, и присяжные, и даже сам Председатель улыбается, хоть и пытается скрыть это ладонью. Обвинитель огорчён, что ему не дают закончить речь, но все говорят друг другу: "Посмотрите, ведь она же совсем ребёнок!" И, развеселившись, они расходятся по домам, тем более что самое время поставить в духовку кекс, чтобы он был готов к вечернему чаю. Дамы посылают ей воздушные поцелуи. Джентльмены дотрагиваются до своих шляп. Присяжные обсуждают особенности рыбной ловли в верховьях реки. Обвинитель подходит к адвокату. – Однако, согласитесь, ловко я вас поддел по второму пункту. – Да, но какой разгром я устроил вам по первому! Обвинитель не согласен со словом "разгром". Они уходят, продолжая спорить. Зал пустеет. Девочка оглядывается по сторонам. Никого нет. Она достаёт баночку с тушью и начинает торопливо подкрашивать ресницы. Вдруг они все вернутся! Хотя ей тоже уже давно пора домой.
– И чем же кончился их спор на этот раз?– спрашивает Лил. Я видел людей, которые на все вопросы отвечали цитатой, я знаю людей, которые на любой вопрос отвечают вопросом, я знаю человека, который всегда отвечал только одной фразой: "Не знаю". Но есть ответ и получше. – Я люблю тебя. – Ох!– говорит она.– И чтобы сказать это, нужно было так долго говорить? Ты, точно, ненормальный. – Воинствующий ненормальный,– добавляю я.– Тот, кто саму нормальность полагает грехом. – Неужели и мне нужно будет стать такой? – Иногда я и сам не знаю, кто из нас двоих сумасшедший.
... Кто из нас двоих сумасшедший – я, или это солнце над крышами?..
В храме тесно, люди у подножия горы ловят звуки, доносящиеся с её вершины, невидимой и, быть может, вовсе недоступной... девушка на амвоне... её лицо среди эдельвейсов. От взгляда её глаз невозможно уйти как от взгляда с иконы. Мне думается, мало кто понимает, в чём тут дело – просто мы смотрим в глаза друг другу, а значит, в глаза всему миру. Эти джинсы, я помню их под моими пальцами, их мягкую, вытертую ткань, белесую, пылающее бедро, перестук колёс, рельсы, дальше, дальше...мы измеряли расстояния поцелуями. Небеса цветов, башни, украшенные резьбой, благоухающие, зовущие музыкой... свет... твои глаза, небо... перестук колёс... География – цветные картинки на крыльях бабочки. Вскрытое огнём небо, грохот, и у щеки бег занавески, саван, фата? Ты плачешь? Твои пальцы, мои... губы... Брызги холодной воды. – Это от счастья. Это от музыки, той, которой невозможно вторить, тем более, вторить ей хором, немыслимая, слышать её так сладко... и больно. Невозможно выдержать дольше мгновения! Когда стало тихо, мы поняли, что это кончились рельсы, и дальше мы пойдём совсем одни, и мы держались за руки, а ветер был тёплый, и мы дышали им... Это горы, а значит, где-то есть их вершины. Я буду держать тебя взглядом своим, я буду держать тебя, ведь это наш путь, эта музыка... свет... это наш путь. Я буду держать тебя. И постараюсь, чтобы тебя не закрыла от меня чья-нибудь спина, а меня не заслонила от тебя чья-нибудь челюсть. Ведь так легко упасть...
– Но почему нужно непременно бежать! – Бежать? Разве я сказал, бежать? – От своей жизни, от своего прошлого... – Мы покидаем прошлое не потому что разочаровываемся в нём. Мы уходим и от правильных решений, но это неизбежно. Нужно всегда идти вперёд... – А если я не хочу? Здесь моя жизнь, которая, может быть, тебе не нравится, но это моя жизнь. Здесь люди, которые мне близки...
Белая, крашеная масляной краской дверь. Кафель. Шум душа смолкает. Приближающееся шлёпанье ног по мокрому полу. Дверь открывается. Конферансье выходит из душевой, вытирая голову полотенцем. Сбрасывает халат. Начинает одеваться.
– Ну да, как же, этот ваш антиреалист-иллюзионист, мистер Роберт Юм. Воображает, что открыл Америку, а сам прогулялся не дальше Индии. – О ком это ты?– говорит она. – Да об это вашем конферансье-монпасье. Сидит, изобретает велосипед. – А что он такого... сказал тебе. – Да носится со своими идеями. "Моё шоу"! А у этих идей, между тем, уже лет тысяча как борода выросла. – Да ничего он не носится! – А чего это ты его защищаешь? – Я его не защищаю. Это ты на него набросился. – Да нужен он мне очень! – Ты даже не видел нас, а говоришь... – Нас! Вас! Вас ис дас. Сохо киллэ кес ке се! – Ты сам говорил, что... – Что я говорил! – Что идеи существуют сами по себе... – А он занимается профанацией их. Воображая, что сотворил мир! – Но он ведь тоже... – Тоже! Что за идиотское слово. Вот именно, "тоже"! У таких как он нет ничего своего, они наряжаются с чужого плеча, не заботясь даже о том, чтобы одно подходило к другому, надевают кальсоны поверх шортов, а фрак на фуфайку. Что украли, то и нацепили. Шуты гороховые! – Ну и пусть,– говорит она.– Тебе-то что? Чего ты так злишься? Какое тебе до этого дело? – Мне? Кому? – Ну да. – Тебе! Очень легко выбрать себе место побезлюднее и изображать из себя Мальчика со Звезды. Очень просто. Никто не взыщет. – Не понимаю, чего ты взъелся. Между прочим, он говорит о тебе только хорошее. – Вот как. Значит, он говорит обо мне. Очень мило. С тобой, да? – Тебя это задевает? – Да мне плевать на него. – Ты ведь его даже не знаешь! – Я очень хорошо его знаю. – Ты только один раз поговорил с ним, и уже делаешь выводы...
– Почему ты пытаешься его защищать?
– Мне же больно. Ведь это моя жизнь!
Что же я всё возвращаюсь к этому... Дорога... изгородь, бесконечная как китайская стена, металлическая сетка и пыльная трава, полынь, и линии вычерчены как на гравюре, но уже начинают таять, и далеко, так что крикнешь – не услышит, кто-то идёт ко мне по дороге, и я знаю, кто это. Пронизывающий вечер. Закат над дорогой... Воздух сумерек цвета неспелого яблока...
Пронизывающий вечер дороги. Топот ног, глухой стук мяча, возбуждённые крики детей, голоса, смех, разудалые звуки аккордеона там, за спиной. – Ну куда ты всё время уходишь! И я иду и возвращаюсь туда, где на расстеленных на траве газетах,сегодняшняя?– раскладывают варёные вкрутую яйца и ставят бутылки, а женщины, захватившие свои вязания, говорят друг дружке что-то и прыскают смехом, и вскидывают голову, волосы стелятся по плечам, где-то там дети, и роняют, как будто случайно, улыбчиво-кокетливые взгляды на мужчин. И кто-то расхаживает и ловит такт музыки, и усаживается на землю, на одеяло, разложенное на земле. Над тёмными силуэтами домов, резкими до черноты, спокойное розовое сияние... как от костра... лицо... я никак не могу рассмотреть его, может быть, вуаль? Да, вуаль, хотя она так странно смотрится с этим простоватым ситцевым платьем, плотно облегающим её тело, я располагаюсь рядом, хоть мы незнакомы, и она протягивает мне бутылку с водой, я беру и говорю "спасибо", а потом мы говорим, какой приятный и лёгкий сегодня закат, а мимо катится мяч, и за ним вдогонку летит мальчишка, взмокший, как взмокла бы гончая, умей она потеть, и его мать встряхивает бигудями и кричит ему, чтобы он не убегал далеко, но не настаивает, а вокруг неё смеются, и она просит повторить шутку, и её повторяют ещё много раз и опять смеются, а танго сменяется фокстротом, и та, возле которой я так удобно расположился, качает под музыку головой и зажигает папиросу, и предлагает мне, но я говорю, что курю сигареты, и она рассказывает, как ссорились между собой соседи в одной коммунальной квартире, а теперь, когда их расселили в восьмиквартирном доме так, что они снова оказались соседями, это такой дружный дом, и всё у них такое ухоженное – и лестница, и подъезд, и палисадник,– а от земли поднимается запах сумерек, силуэты высотных домов на горизонте словно бы вырезаны из чёрной бумаги и наклеены на розовую полосу заката, и дальше бледное, выцветшее небо, и я говорю, что вот, люди обставляют свои квартиры и радуются им, а потом находят лужайку и раскладывают на траве одеяла и газеты, а она говорит "такой хороший вечер", и я соглашаюсь, да, конечно, но скоро застроят и здесь всё, ведь это, в сущности, пустырь, "а может быть, сделают парк",– говорит она, и я не вижу её лица, но кажется, начинаю узнавать этот голос. "Завтра сюда приедут артисты",– говорит она. "Завтра?"– переспрашиваю я. "Да, так на афише написано". И мы ещё говорим, лениво, я знаю тех, о ком она говорит, а потом всё это растворяется, тает, и остаётся только запах поднимающихся от земли сумерек и дорога, по которой навстречу мне идёт девушка в умопомрачительно элегантном костюме, и она говорит мне: "О чём ты задумался?" – У тебя такой задумчивый вид. – Я не виноват,– говорю я.– Это от природы. Чтобы быть подобием Господа, нужно делать то же, что делает Он творить. Почему я вспомнил об этом?..
Песчаный склон, нисходящий к воде, камышам. Потрескивает костёр. – Знаешь, Лил, вечерами, когда так тихо и тепло, летом, я любил читать, сидя во дворе на скамейке у дома. И на страницы летели "вертолётики" акации. – В школе я учила немецкий,– говорит она. – Представь себе комнату юной монахини. Чисто, опрятно, пусто. В углу икона Богоматери. Застеленная кровать, и над ней портрет Рудольфо Валентино. – Или Фрэнка,– подхватывает она.– Или Кларка Гейбла. – Или Фрэнка,– не возражаю я.– Или Боба Дилана. А чей портрет висит у тебя над кроватью? Она, осёкшись, умолкает. – Давай... Не будем сейчас об этом говорить, ладно? – Не понимаю, почему ты так избегаешь говорить о ней. – Я не избегаю, просто я... не готова к этому сейчас. Давай как-нибудь поговорим об этом в другой раз? – Она очень хорошая женщина. – Да. Она поднимает голову и смотрит на меня. – А откуда ты знаешь? – Почему ты никогда не рассказываешь мне о ней? Ты не хочешь, чтобы мы познакомились? – Ты... Вы знакомы? – А что? – Да? – Ну да,– говорю я.– Тебя это удивляет? Город-то маленький. Мы неизбежно должны были встретиться. Ты не подумала об этом? – И... что? – Ничего. – Когда вы познакомились? – Это важно? – Да. – Мы могли бы встретиться как-нибудь втроём... – Ты не понимаешь,– говорит она. – Что я не понимаю? – Она не просто моя подруга. – Ну да, я знаю... – Ты ничего не знаешь! Ты можешь думать об этом что угодно, можешь осуждать меня, но ты ничего не знаешь. – Что я не знаю? – Может быть, ты думаешь, что это просто... – Просто что? – Ничего,– говорит она, потупившись. Краска огня на её лице. – Так,– говорю я.– Кажется, я, действительно, ничего не понимаю. – И не нужно,– говорит она.– Ты можешь думать всё, что угодно, и как угодно к этому относиться. Но всё не просто и совсем не так, понимаешь? – Нет. – Правильно,– говорит она. – Так вы что, с ней... О Господи. А я-то думал... Поражённый догадкой, я сижу, уставившись на костёр. Мы молчим. – Ты спал с ней?– спрашивает она. – А ты?– машинально говорю я. Она молчит.
Туман над тёмной водой, лугом... Лес, смутные очертания отяжелевших форм, промокший кустарник. Ночь растворилась, оставив тех, кто спит, спать, сделалось сыро, и всё вокруг притихло, замерло, затаившись в тумане и выжидая. Солнце вернёт краски, и бесцветное небо сделает синим. В неподвижности. Стебли камышей, уходящие в грязноватую воду, ил. На холодном, сыром песке чёрные палочки обломанных веток, обгорелая деревяшка. Неподвижно, беззвучно, невнятно. Над лугом туман.
8
Аскетичная простота белых строений, графика светотени. Островки трепещущей зелени. Синее без облаков небо. Белая парусина зонтиков над столиками кафе, почти безлюдными. Плетёные стулья ориентированы беспорядочно. Шума машин нет. Хочется пить воду. Аллегорические фигуры из белого гипса, воздушные коридоры театральных пространств, расходящиеся из центра прозрачной сферы всеобъемлющего пространства. Геометрия небесной механики. Направление ветра. Она изменяет позы, оставаясь на месте, в тени тента, где мы сидим с ней за столиком и пьём из высоких стаканов. Мы говорим, время от времени умолкая, вокруг никого нет, и никто не слышит. – Помнишь, ты говорил мне о башне, которую строил три года? – Нет, не помню,– говорю я, обсасывая ломтик грейпфрута. Она ждёт, что я вспомню. Я облизываю губы. – Я спросила, встречаются ли люди в Раю,– напоминает она терпеливо. – А я сказал, увидим, если доживём. Я смеюсь. Выражение её лица не меняется. Положив обе руки на плоскость столика, она оплетает стакан пальцами, чуть наклоняя его к себе. – С какой лёгкостью ты смеёшься над всем,– говорит она с безнадёжным упрёком. Я вижу, у тебя сегодня торжественно-возвышенное настроение, нечто вроде Собора Святого Семейства в Барселоне по проекту Алана Парсонза. – Хочешь, чтобы я изобразил тебе симпатичную иконку?– я черчу в воздухе воображаемый рисунок. Фонтан во внутреннем дворике и беседка, вознесение струй, скользящая тень от облака на чёрно-белом изображении, выражение её рта, когда она отняла его от изжёванной соломинки, а потом позвякала оплавленными льдинками на дне стекла и посмотрела на меня в ожидании слов. Я говорю: "Испания". – Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская,– жестом рук: "Прошу на сцену. Поприветствуем". – Женщина и Мужчина – параллельные прямые, которые пересекаются в бесконечности, согласно геометрии Лобачевского, и можно назвать эту бесконечность словом "любовь" или "Бог", или "небеса". Что это было? Политический союз или любовь? Можно предположить первое, можно – второе. Кому как нравится. Ничто не мешает нам создать в своём воображении идеал. Она ждёт, что я скажу что-нибудь ещё. Я молчу. – И всё?– говорит она. – Идеал на то и идеал, что никогда не воплощается в реальность, потому что тогда это была бы уже реальность, а не идеал. – А любовь? – Любовь идеальна лишь миг. Мы даже не успеваем сообразить, что это было, а всё, что мы говорим о любви потом – это результат её взаимодействия с внешним миром, её агонии и деградации. Любовь – это Прометей, распятый на каменном кресте материального мира. Это существо из мира иного, может быть, ангел, которое не может выжить среди этих стен и улиц. Проходит секунда – две, и она уже не совершенна. – Значит, нет идеальной любви? – Ну почему же. – Ты сказал, что идеал никогда не воплощается в реальность. – Что такое реальность? – Что такое идеал? Я: Никто не видел летающих собачек, но их можно придумать. Лил: Что это значит? Я: Иногда помогают обстоятельства. Недоступность объекта влечения делает его идеальным. Но и это лишь при условии наличия воображения. Человек, лишённый воображения, не способен любить. Лил: Значит, каждый сам придумывает для себя идеал? Я: Во-первых, не каждый, а лишь тот, кто на это способен. Лил: А во-вторых? Я: А во-вторых, мы придумываем для себя не только идеалы, но и реальность. – То есть, как это?– она удивлена. – Да вот так. – Чем же тогда отличается одно от другого? – А чем отличается Солнце от Земли? Тем, что до Земли можно дотронуться рукой, а до Солнца – нет. – Но... Существуют же газеты, телевидение... – Что? Ах, это. Да, но ты можешь не смотреть телевизор. Ты можешь, наконец, сама выпускать газету и писать в ней то, во что ты веришь, и верить в то, что ты в ней пишешь. Вовсе не обязательно, чтобы кто-то разделял твои воззрения. Но если тебе это нужно, ты можешь придумать, что это так. Всё дело в воображении. Я встаю с места: "Извини". – Мне тоже!– говорит она. Я возвращаюсь, неся в руках два полных стакана. Ставлю их на столик. Она скучала, дожидаясь меня. Я сажусь и, припав к стакану, пью. Соломинка мешает и, достав её, я бросаю её в пустой стакан. Лил придвигает к себе свой напиток и, завладев им, принимается потихоньку посасывать. Мне хочется попробовать так же и, вернув трубочку на место, я пробую пить через неё. Нет, не нравится. Она пьёт. Я бросаю сигареты на столик рядом с салфетницей. Нащупываю себе одну. Она, перестав пить, с интересом наблюдает за моими пальцами. Мы смотрим друг на друга. Я улыбаюсь.