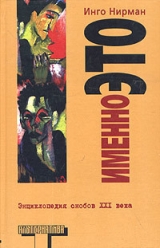
Текст книги "Именно это"
Автор книги: Инго Нирман
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Ни Лейла, ни Юлиус не оценили иронии, с которой он произнес свою последнюю фразу. Она не достигла цели, потому что он был недостаточно ироничен.
Он хотел помочь им, сказав что-нибудь неожиданное – для них, да и для себя тоже. Неужели они не замечают, что его прямо-таки мутит от их тупости?
Разговор шел слишком прямолинейно. За несколько часов он и сказал-то всего лишь… Лучше было молчать, держать марку. Тогда бы их, может быть, и проняло. То, о чем они говорили, интересовало и его тоже, но с ними он этого обсуждать не хотел.
Его взгляд ясно выражал отвращение – не к тому, о чем говорилось, а ко всему этому спектаклю, сказал бы он. Но если бы они прямо спросили его об этом, он лишь спросил бы в ответ: «Неужели?» Как будто он просто задумался. Однако они ничего не замечали, блуждая в потемках и иногда нападая случайно на верный след. Откуда им было знать, даже если бы он подтвердил это, что все так и было, как они говорят?
От Акселя они узнали лишь то, до чего не могли додуматься сами.
Неужели он и в самом деле знает так мало? Но то, что он знает, а не просто догадывается, было ясно. Аксель не собирался сдавать ситуацию, он был в ней уверен. Иначе бы он давно ушел.
Была ли это в самом деле его квартира? А ведь он предъявляет претензии – пусть не на Лейлу, но на какие-то совместные действия. Разыграли как по нотам – Лейла сознательно, Юлиус неосознанно? – и наблюдают за ним.
– О чем ты думаешь? – Этого простого вопроса они до сих пор Акселю не задавали.
– Во всяком случае, я не потешаюсь над вами. И не злюсь.
Соположение этих двух слов, «потешаться» и «злиться», вышло скорее наивным – неужели его скрытая обида прошла? Пожалуй, да: он больше не обижался.
– Ты нас презираешь.
Разве это было не то же самое, что сказать: вот, мол, человек страдает, а ты над ним потешаешься. Ему предлагали выбор: отреагировать на заведомо ложный упрек или на ее столь явно подчеркнутое страдание.
– Я вам завидую.
Было ли и это иронией? Даже если они и чувствовали себя провинившимися школьниками, это не помешает им продолжать беседу. Чему он завидовал – тому, что им есть о чем говорить столько времени? Теперь ему тоже предоставили слово, но ему не хотелось, чтобы их беседа закончилась на этом. – Ты этого не вынесешь.
Того, что они и дальше будут сидеть и разговаривать или что сейчас пойдут спать? Тогда-то они, конечно, умолкнут. Нет уж, пусть лучше говорят, слово за слово, пока не упадут от усталости.
Разговор
Юлиус закатал рукав рубашки чуть ли не до подмышки. На левом предплечье показалась нижняя часть татуировки, из переплетенных хвостов которой ничего нельзя было понять. Но сама его поза уже была достаточно однозначной.
Наука нехитрая: оголить свои более чем скромные мышцы и слегка напрячь их. Позволить чему-то надолго овладеть твоей кожей. Сдержать внешнее беспокойство, идущее лишь от внутреннего напряжения, то есть, в сущности, ничем не обусловленное.
Юлиус выпятил вперед свой тощий живот.
Не вызвав у Акселя ни желания, ни отвращения. Лишь его взгляд опускался все ниже, в самую глубину души.
Если бы Юлиус хотя бы не мешал его попыткам сблизиться. Это ведь не так просто, как секс.
Акселю хотелось заняться сексом с Юлиусом, однако его неуправляемая похоть ему мешала. Если бы Юлиус был просто голубым, Аксель бы с ним сразу поладил.
В каком-нибудь клубе или просто на улице можно было бы найти сколько угодно парней на него похожих. Всегда готовых пойти с тобой или, наоборот, заехать по морде. Или если встретить его на пустынной улице, на ночной площади или у бортика какого-нибудь декоративного фонтана.
Покинуть Лейлу и ее квартиру оказалось нелегко. Они говорили, что вот, мол, сейчас уйдут, но на самом деле были не готовы.
Не сменив ни одежды, ни места действия, трудно перейти к чему-то новому. Как в домашнем порно, когда нетрудно догадаться, что оба и без видеокамеры занимаются сексом точно так же. То, чего зритель ожидал и что ему продали без обмана. Чтобы он помучился как следует или ощутил себя недоноском, чтобы все тайное, стыдное, забытое выперло из него наружу. Образцом служит чужая правда, чужое счастье. Или вообще без зрителя – человека нет, есть только вещь, которой все равно. Или если уж за тобой наблюдает человек, то пусть и ему достанется по полной, как и тебе.
Лейла вытащила из кармана несколько клочков бумаги и сложила их на столе. Получилась почти целая 500-марковая банкнота, не хватало лишь пары кусочков. Сказала, что нашла их перед дверью, и тут же начала сочинять историю, в которой участвовали чуть ли не все жильцы ее дома и соседних. Но банкнота не вызвала у мужчин ничего, кроме слабой улыбки.
Деньги, особенно если их много, делают человека другим. Нечего было и говорить, что о деньгах нечего думать.
Лейла заговорила, как бы ни к кому не обращаясь:
– Ты не любишь нищих. Потому что стыдишься собственного достатка или боишься, что они будут от тебя чего-то хотеть? Что твое присутствие причинит им боль?
Ответил Юлиус:
– Я не разговариваю с бедняками. В моем присутствии они чувствуют себя неловко, потому что думают только о моих деньгах и считают, что мне хочется успокоить совесть.
– Ты не из касты привилегированных. При других обстоятельствах – просто они не сложились – ты был бы в таком же положении. Да ты и сам считаешь себя одним из них, как бедняк, женившийся на богатой. Ощущаешь свой достаток как случайную фору, позволившую тебе прикрыть нищету. Все это слишком просто.
Намек на то, что он нашел себе богатую невесту в лице Акселя, или это упрек им обоим, только Аксель уже сто раз его слышал?
Это была провокация, но состояла она не в том, чтобы показать им, что их отношения на самом деле строятся на деньгах или что она относится к деньгам иначе, чем они оба. Вопросы Лейла задавала серьезные, да и знала она о Юлиусе больше, чем он сам. Если он знал, что он в каждый данный момент чувствует, то она знала еще, и как он при этом выглядит. Возможно, он знал то, чего ему нельзя было знать, зато она знала, сколько денег можно из него выжать, если бы они у него были.
– Это сад, полный битого стекла. Но ты-то давно уже не ребенок, который боится, что вот родители купят новый дом и будут гулять в саду одни, без него. Туда им возврата нет.
Просто взяла и показала, что будет.
– Я никогда не зарабатывал систематически.
– Доход тебе приносят твой имидж, твое воспитание, твой опыт, а не деньги.
Деньги, которых у нее не было или она не хотела давать ему. Она сама хотела быть деньгами, эдаким переходящим призом. Отдавшись на его волю, она его переиграла.
Деньги давал ему Аксель. Возможно, ему приходилось пахать на Юлиуса в поте лица, однако Юлиус был в его руках.
Пока тот кормил его, Юлиус старался ему нравиться. Он соблюдал дистанцию, но не больше той, которую соблюдал сам Аксель.
Они были верны друг другу и, невзирая на массу расхождений, могли сказать, что у них общая судьба.
У одного случайно всегда водились деньги, это не менялось с годами и нравилось обоим.
Они избегали думать о будущем или менять что-либо. Когда один загибался, другой думал, что тот просто решил расслабиться. Каждая минута безделья лишь подстегивала их.
Сомнение зудело, не дожидаясь превращения в уверенность. Аксель во всем видел злой умысел. Задавал вопрос, чтобы тут же задать следующий.
Согласись Юлиус на такой разговор, ему пришлось бы самому перейти в наступление. Аксель понимал это:
– Извини, что я тебя нервирую. Но я не могу этого не делать.
Он воспринимал все настолько остро, что, в сущности, разговаривал даже не с Юлиусом, заранее принимая в штыки все, что тот скажет. Того, в свою очередь, это задевало, заставляя продолжать разговор.
– Ты меня любишь?
Неужели Аксель выдал себя, перестарался с маскировкой или просто успел разочаровать Юлиуса?
– Почему ты спрашиваешь?
Вопрос следовал за вопросом. Новый вопрос заставлял забыть о старом так быстро, что Аксель даже ощутил удовлетворение. Первоначальное любопытство вовремя сменялось скукой, и этот калейдоскоп его вполне устраивал. Во взгляде Юлиуса чувствовался упрек, нажим и, возможно, некоторая неприязнь к Акселю. Не пора ли сменить эту жалкую тряпицу, вконец изодранную ветром, на новую?
– Ты веришь в проект, только пока он еще начинается. Прежде чем разочароваться в своих ожиданиях, ты уже хватаешься за следующий. Каждый проект вселяет в тебя новые надежды. Но ты никогда не думаешь: «Уж этот-то проект наверняка окажется лучше всех предыдущих!» Просто переходишь от одного к другому, и все. Но конец-то должен быть.
Нет, это не по его, Акселя, адресу. И незачем было говорить об этом. Все, проехали. Что прошло, то прошло, и возвращаться нет смысла. Может, поэтому им и в самом деле пора взяться за какой-нибудь новый проект? Причем давно пора?
Кто хочет испить свою чашу до дна, всегда цепляется за жизнь. Кто не способен избежать непредвиденных потерь, вовремя снизив свои запросы.
Юлиус потрепал Акселя по руке. Тот не пошевелился. Они расстанутся, не обсуждая этого вслух.
– Ты наверняка еще что-нибудь придумаешь, – сказал Юлиус, давая Акселю возможность укрыться под защитой слабости.
– Мне хочется покоя, но я знаю, что и в покое мне лучше не будет. Накоплено не так-то уж и много, но я быстро устаю. Не спотыкаюсь, нет, а просто вожусь со множеством мелких кусочков, складывая их воедино.
Вижу, что не хватает еще того, сего. Но как только картина начинает вырисовываться, я ее бросаю.
– Как только появляется что-то новое, обнаруживается неполнота старого.
– Все, в чем я сумел разобраться лучше других, утрачивает для меня всякий смысл.
– А свои недоделки ты исправлять не любишь?
– Какие-то детали, на которые я почти не обращал внимания, действительно потом вылезают. Это от невнимательности – я ловлю себя на этом на каждом шагу. Но когда я пытаюсь что-то исправить, то с ужасом замечаю, что за деталями для меня всегда пропадает целое. Это как пакт: я не вникаю в детали, а вещи за это раскрывают передо мной свою суть.
Легкое движение, и они обнялись. Было хорошо сознавать, что у тебя есть кто-то. Правда обоим больше всего хотелось бы не встречаться вообще никогда, но ни один не желал делать это намеренно.
В комнате
В еде они были разборчивы. Часто готовили дома, комбинируя нескоро портящиеся запасы со свежими закупками – тушили, варили. Мясо тоже. Тошниловка ничуть не большая, чем застоялый запах цветов, росших и цветших буйным цветом, хотя с ними ничего не делали, только поливали.
Дома у них было много контактов с внешним миром. Однако это не были ни долгие или краткие телефонные разговоры, ни письма, писанные на скорую руку ежедневно или раз в месяц, ни ежевечерние телесериалы, которым рано или поздно тоже приходит конец, ни бесконечная череда конов любимой игры. Уютная забота о растениях и домашнем обеде отнимала не более получаса в день, хотя и грозила стать навязчивой самоцелью. Им это нравилось, да, но заставляло всякий раз преодолевать свою лень. Они не были привязаны ни к ребенку, ни к навязчивой идее выживания, ни к партнеру. Домашние дела делались как бы сами собой, и они почти не замечали, что за весь свободный ото сна день у обоих набегало не больше пары часов, когда они могли не думать друг о друге, не смотреть в лицо и не торчать в одной комнате.
Для Юлиуса Ребекка была привычной старой подружкой, нового лица в своей берлоге он бы не вынес. Хотя иногда сожалел об этом. Он пытался придумать себе какое-нибудь неординарное событие, с которого началось их знакомство, за несколько лет до того, как они сняли эту квартиру.
– Ты спросишь: «Где я?» И я тебе отвечу: «В своей постели». «Но это не моя постель», – возразишь ты. В конце концов мы согласимся на том, что ты просто не знаешь, чья это постель. Как если бы ты не знала, в каком мире сегодня проснулась, и именно я – тот, кто должен объяснить тебе, куда ты попала.
Освобождать тебя сюда не придет никто. Поэтому тебе придется прислушаться к тому, чему буду учить тебя я.
В таких случаях Ребекка всегда возмущалась: «Я не хочу никаких объяснений! И не собираюсь ничему учиться!»
Юлиус же брал и усаживал ее себе на колени, делая вид, что хочет передать ей что-то из уст в уста. Потом всегда разукрашивал ее, обсыпая или обставляя разными блестячками. Свечки, золотце, люминесцентный скотч, мелкие зеркальца овеществляли выделявшийся пот, безжалостно выводя его под лучи горячего света.
При этом обоих трясло. Обоих разогревало так, что вспотевшие ноги некуда было деть, руками не обо что опереться, а когтями не дотянуться до стены, чтобы нацарапать прощальные слова. Они впитывали друг друга, наслаждаясь ароматом, испускаемым собственным телом. Выделенный жар не уходил, а обволакивал их, отдавая в рабство вселенскому теплу и свету.
У Ребекки сводило плечи, начинало знобить. Продвигаться дальше она могла лишь самыми мелкими шажками.
Раздеться донага – это всегда был сюрприз. Сколько же самой себя она до сих пор не знала! Смущенно вглядывалась в свои бедра, груди, прожилки, ямочки, мягкости, как будто это не она, а совершенно чужая женщина. Это и в самом деле было приятно.
Желание ушло, но это ее не разочаровывало. Прежде она радовалась, чувствуя, как растет ее желание, потом они привыкли чувствовать себя счастливыми без конкретного удовлетворения. Время требует разного. Они за это время успели набрать всего под завязку, и секса, и счастья, и не жалели об этом.
Лишь когда чувство ушло, они начали ощущать это. Вновь стали сами собой – с лучшей стороны.
Спокойно, без всяких, лежали рядом на постели или на полу, иногда гладя другого по щеке, совсем немного. Этого более чем достаточно, когда большего и не требуется.
Сознание того, что другой чувствует то же самое, делало любое следующее движение излишним. Встать с полу? Пойти поесть? Поунывать? Сходить к врачу? Зачем?
Ей и не хотелось совершать никаких движений. Потому что все было фатально: ходить, пить, бить. С нежностью и печалью один воспринимал другого как некое существо, которого больше нигде никогда не встретишь. Любовь их была чистой и безнадежной, не обещавшей ни удовлетворения от того, что другой любит тебя больше, чем ты его, ни огорчения, что он тебя любит меньше.
Они избегали запоздалых признаний. Предпочитали втайне подозревать себя или другого в низости, чем в открытую признаваться в чувствах. Это постоянное противостояние утомляло и тяготило, заставляя вести один и тот же мысленный спор:
«Когда ты на меня смотришь, это пугает. Когда ты меня слушаешь, это как допрос. Поэтому я тоже гляжу тебе в глаза и говорю, говорю черт знает что.
Ты все время ставишь мне ловушки. А я начеку все время. Но бежать не пытаюсь, потому что знаю, что это бесполезно».
«А я упаду на пол, сгруппируюсь и попытаюсь ударить тебя ногами».
«Ты хочешь, чтобы я ударила тебя?
Ладно, я тебя ударю, если ты хочешь. А ты – меня. Если хочешь».
Одна комната была для двоих слишком мала. Но вторая и третья для этого не годились.
Осознать себя где-то еще целиком они могли, лишь распавшись здесь, на этом уровне, на самые мелкие частицы. Где каждое событие стремилось стать такой же частицей, чтобы наполнить их своим светом. Где две тени уже начали сливаться в одну.
Но ни для одного из них это не было поводом захлопнуть за собой дверь.
Монолог
Ребекка дарила ему облегчение, какое только может один человек подарить другому. Даже если Юлиус уходил в свою комнату один.
Окружавшие его вещи, хоть верно ему служившие, хоть просто давно не используемые, не имели права меняться. Он не интересовался ими, они просто были его.
Он дожидался следующего дня. Если засыпал – не важно, что с ним было, – то просыпался наутро в своем обычном состоянии, вполне выносимом.
Иногда не ложился, оставаясь в одежде: это была его защита.
Сегодня он занавесил окна. Не хотел, чтобы с улицы видели, как он ходит взад и вперед. Приоткрыл окно на ладонь. Но на фасад дома напротив падал такой яркий свет, что пришлось снова закрыть его.
Что-то мешало ходить. Часть внимания тратилась на то, чтобы не столкнуться с препятствием. Вещь можно было убрать, освободив себе путь. Но, боже мой, насколько лишним был бы этот жест! Нет, жить тут нельзя, проще уйти.
Самое позднее время, когда он отходил ко сну, отличалось от самого раннего времени пробуждения всего на каких-нибудь полчаса. В эти часы на улицах почти никого не было, лишь в каждом втором или третьем доме горел свет или играла музыка.
Однако Юлиус не хотел попадаться на глаза даже этим немногим неспящим, которые вряд ли заметили бы его или просто следили бы за ним, невидимые, из темноты. Упал на постель наискосок, свесив с нее ноги и слегка покачивая ими над полом.
Напряжение и усталость боролись друг с другом. Чтобы уравновесить их, требовалось что-то третье. Любое взбадривающее или седативное средство возбуждало похоть. Возникли два идеально симметричных полюса: слабость и сила. Тяжесть мужчины в парах валерьянки, грызущего корешок, надкусывающего фрукт. Жесткая ткань под мягким ветерком в обширном поле квартиры.
Под одеялом, которое он в конце концов решил натянуть на себя, было жарко. Он таял в своем тепле. Все звуки, которые он слышал, исходили от него самого. Но запахи были ее – или, во всяком случае, то, что он считал ее запахами.
Все образы виделись так близко, что узнать можно было только цвет. Погрузившись в цвет, он опять оставался наедине со своими мыслями. Но, даже пытаясь связать их, он был не в состоянии задерживаться на них дольше пары минут.
Даже сосредоточившись, он мог выделить лишь немногое из того, что проходило бесконечной чередой перед его мысленным взором: цвет лица, форма носа, голос. Связать их с чем-то знакомым не удавалось. В череде выделялись группы, но между элементами одной группы различие было больше, чем между двумя центральными полюсами. Да и как было определить границу между одной группой и другой? Отвращение к ублюдочным пограничным случаям делало его абсолютным расистом, ненавидящим все расы.
Чем дальше эти образы отстояли от того, что он мог рассчитывать увидеть в действительности, тем более реальными они ему казались. Самые радикальные замыслы на свете порождаются только знанием истины.
Сумел бы он, захотел бы он рассказать свою жизнь даже самому себе хоть один раз, а потом и второй, чтобы изменить то, что не понравилось в первой версии? Не плохое, а просто все, включая самые мелочи, – все, чего он когда-то не понял. Тогда истина закономерно превратилась бы в ту самую прекрасную выдумку, которая всегда украшает хорошие мемуары.
Юлиус спрашивал себя, какие из жизненных ситуаций ему хотелось бы прожить заново – из тех, когда жизнь казалась ему невыносимой. Так, что легче было бы умереть.
О, он – бы вернулся туда, к этим местам и событиям, несмотря на или вопреки тому, что уже знал, и так просто бы теперь не ушел оттуда. К тем ловушкам, в которые тогда попадал, заставив страдать своих немногих друзей.
И за что он теперь должен больше презирать себя: за глупость или за то, что так бездумно транжирил себя? За то, что не смог, не захотел и не стал связываться с кем-то, или за то, что вляпался, проиграл и обозлился, не желая понимать причин?
Впрочем, у него была еще одна надежда: он мог целиком отдаться отчаянию. Забыться в объятиях боли. Это хотя бы отодвигало кризис – на день, на два, на сколько получится.
Другие – точнее, только Ребекка, больше у него никого не осталось, – пусть другие думают, что он впутывается во всякие авантюры только ради того, чтобы никто и заподозрить не мог, насколько он уязвим. А также что его мощный интеллект всегда позволит ему справиться с любой проблемой и к тому же проникнуть в ее истинную суть. Которая, может быть, никому и не интересна, однако ни Ребекка, ни другие ни разу даже не попытались понять эту суть. Юлиус же просто знал ее, но этим знанием не пользовался. Сколько же раз ему придется еще вставать со смертного одра и выручать их?
Сколько же народу накопилось, с кем потом пришлось рассориться навсегда, – мелкие недоразумения не в счет.
Связи, налаженные, казалось бы, ко всеобщей выгоде, выдыхались, исчезали.
Любой голос, звук резали слух. Его брали за пуговицу, дышали в лицо, не признавая за равного. Говорили без умолку, точно желая не дать ему возразить, не замечая его безразличия.
Рот остался полуоткрытым. Юлиус молчал, да его и не принуждали отвечать. Но долго это тоже продолжаться не могло. Так и не найдя подходящего жеста, он мог лишь думать: «Нет, нет, нет…»
Он слышал, как голоса других, не умолкая, становились все тише. Как будто сам за собой следил, засыпая. «Пока-пока», – пробормотал он, пару раз с наслаждением дернувшись всеми членами.
Заложил руку за голову, уронив ее на руку всем весом, как будто это была чужая голова. Поднял другую руку, точнее, кулак, придвинул ближе к щеке, но не дотронулся до нее, хотя пальцы разжал.
Свой костюм он не заказывал у портного, хотя вышло бы ненамного дороже, а купил в магазине, небрежно сняв с вешалки. Его успокаивала мягкая, непредсказуемая податливость материала, не прикидывавшегося тем, чем он не был.
Ему не нужно было движение, не нужны мысли, не нужна мода. Он не хотел ни вникать в них, ни гнаться за ними. Чтобы не стареть слишком быстро. По крайней мере от этого. От этого он терял контроль над собой. И потом обнаруживал себя где-нибудь по соседству, в окружении и стариков, и молодежи.
Когда на прилавках появлялась какая-нибудь новинка, он покупал ее пять лет спустя, все это время тратя деньги на вещи, давно переставшие вызывать интерес у кого бы то ни было. Принеся покупку домой, он без лишних раздумий пристраивал ее на свободное место, как делают двенадцати– или четырнадцатилетние.
Интересно, во что это обходится – год за годом покупать очередные новинки, усовершенствованные модели? Новинка, конечно, работает лучше и стоит дешевле. Однако отчего все любители новинок едва сводят концы с концами?
Всем давно известно, что любая новинка – времянка, просто ее продают под тем соусом, что вот, мы кое-что тут теперь довели до ума. И пока покупатель учится по-новому нажимать кнопки, его уже поджидает жестокое разочарование в облике следующей новинки.
Не удалась новинка – тем лучше, покупатели еще пуще набросятся на следующую. Чтобы окупить расходы на постоянную «доводку», нужно постоянно завлекать публику, что и делается, как в казино, где основной доход тоже обеспечивается массовостью клиентуры.
Даже будь у него свободный капитал, Юлиус не стал бы вкладывать его в бизнес, повинуясь рекламному лозунгу «Пусть деньги работают на тебя». Для него это означало жить неопределенной жизнью, зависеть от финансовых спекуляций, ежедневно пытаясь отгадать, какие новые частицы ему еще подкинет эта головоломка и куда их потом нужно будет девать.
Ему хватало разрозненных частиц головоломки его собственной жизни. Он умел просчитывать будущее, но, когда оно наступало, ему уже было все равно, что будет дальше. Иногда у него появлялось чувство, что что-то должно или хотя бы может измениться. Тогда он распихивал по карманам все наличные деньги, которые у него в тот момент были. Большая, еще не размененная купюра была лучше кучи мелких на ту же сумму, потому что те не умещались в брюки. Деньги были, нечего было покупать, но это его, впрочем, никогда серьезно не волновало.
Да он мог бы хоть сейчас сжечь все эти деньги. Кроме монет, естественно, основа которых металл, а металл, он в конечном итоге считается по весу. Виртуальные деньги, банковский счет – всегда записаны за кем-то персонально. Их можно либо переписать на кого-нибудь, либо потерять, пропустив ненароком описку в бумагах или бандюг с пушками в свой кабинет.
Когда информация становится вещью плохо лежащей, легко доступной и скоропортящейся? Когда ее материализуют в виде фотографий, гроссбухов, бланков с подписями или звуко-, видеозаписей – вот он, носитель информации во всех трех своих измерениях. Сколько же денег это стоило – снять его со всех сторон и в надлежащем интерьере! Зато теперь он прост и понятен, как примитивный орнамент, выполненный в доэлектронную эпоху.
Новые плоскости были прозрачны и невесомы, как если бы их готовили без заранее утвержденного плана и без физических компонентов.
Юлиус вспомнил обо всех тех гадостях, которые сами собой вылупливались из каждого его переезда, из каждой покупки, от которой он ожидал хотя бы двух дней покоя. Вспомнил плакат, висевший за стеклом банка «Пусть ваш капитал работает на вас». На плакате были изображены рабочие в потрепанной одежде, переносившие какие-то шпалы со стапеля к бетонярке.
Ему надоело думать обо всем этом. Считая по-хорошему, у него впереди было двенадцать, а то и вообще сорок восемь часов незыблемого счастья.
Хотя, конечно, он увяз, увяз в этом меду всей бородой. Надо вытаскивать, волосок за волоском. Рывком будет больно.
Он еще лежал, но уже готов был встать. Взглянул на посветлевшее небо за окном и понял, что еще не может ни на что решиться.
Можно обдумывать что-то пять или шесть раз, можно тысячу раз пережевывать это. Только не надо ни к чему привязываться. Каждый день человек теряет миллионы секунд зря. Однако его от этого не убывает.
Изменить себя можно. Он сам проделывал это решительно и быстро. Тогда в сорока восьми часах оказывалось трое суток. Там были места, где он никогда не бывал, странные встречи, необъяснимые поступки. Вещи, часы, для которых в обычных сутках не было места.
Забытое уступало место тысячам соискателей, толпившихся во имя его, хотя имя – всего лишь комбинация звуков. Куда ни кинься, бездушный механизм регулирует любое твое движение. Любое слово превращается в пароль, вновь запускающий все тот же механизм.
Рассыпаться, пройдя через сито паролей. Он прикрылся именем, и имени не стало. А потом не стало и его самого.








