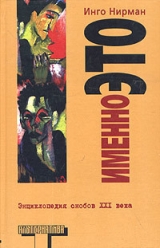
Текст книги "Именно это"
Автор книги: Инго Нирман
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
В парке
Почувствовав на веках тепло восходящего солнца, Ребекка невольно открыла глаза. Высокие деревья, которые в сумерках, казалось, тесно окружали ее, теперь тянулись к чистому голубому небу. Те зеленые массивы леса, которые она раньше видела только издали, вблизи оказались молодыми посадками, перемежающимися квадратами черной земли на холмах, отделяющих город от парковой зоны.
Парк был прозрачен, взгляд нигде не упирался в лесную чащу. Вскоре она почувствовала, что ей хочется только одного: отрешиться от мира, где, куда ни глянь, господствуют распланированные кем-то перспективы – пусть кругом будет одна лишь по-утреннему мокрая трава, сверкающая в тоненьких лучиках света.
Она нашла такое место – достаточно было лишь протянуть руку и перенести вес тела на другую ногу, – как вдруг откуда-то послышалось: «Эй!..» Послышалось? Это был тот лес, куда Крис завлекла Бруно. Лес прозрачен, укрыться негде, – может, у нее с ним тут ничего и не было? Или она хотела дать ей наводку на этот парк, который, укажи она на него прямо, превратился бы в метафорическую загадку: все пути открыты, все следы зарыты, есть клочок земли, что мы там нашли?
Ребекка вспомнила о высотках, где люди в окнах издали демонстрируют друг другу себя. Тот, другой, платит за столько же квадратных миллиметров, зарабатывает столько же, сколько ты, и встретиться вам до сих пор не давал лишь случай. Люди ведь обычно редко выходят за пределы круга старых знакомств, да и потом всегда в него возвращаются.
Она подумала о фильмах, посвященных жизни большого города: там тоже действие обычно начинается лишь после того, как кто-то случайно встретит кого-то на улице. Или пусть не случайно, а в привычном, знакомом обоим кабаке, в обычное время. То, что они нашли друг друга, свидетельствует о том, что они стосковались по реальным приключениям, потому что виртуальная прокрутка своих возможностей им уже надоела.
Высотки теснились, как загорающие на лужайке. Там тела хоть соблюдают дистанцию, старательно делая вид, что в упор не видят соседей. Та решимость, с которой они разоблачались на глазах у всех, давая поблажку своим в остальном незыблемым идеалам, обеспечивала им защиту. Половая принадлежность забыта. Так окна, если не считать верхних, недосягаемых этажей, и этажей самых нижних, обрезают тело до пояса.
Зачем так печься об интимной сфере, когда – хоть лежи на солнечной лужайке, хоть живи на самом солнечном этаже – все мы настолько, до умопомрачения, похожи друг на друга? Ребекка видела высотки, стоявшие так близко, что пространство между ними сливалось. Накрытые тенью другого, они зажигают все огни, чтобы только продемонстрировать себя. Один шаг – и ты уже в чужом уютном гнездышке, читаешь через плечо его почту или подслушиваешь телефонный разговор.
Чего же люди боятся? Чего им скрывать? Только и знают, что возводят перегородки, за которыми переключаются на полное самообеспечение, – неужели только для того, чтобы окончательно посвятить себя жене и детям?
Лишенные комплексов аристократы и бомжи всегда подчиняли себе все доступное пространство. Те, кого они допускали до себя, перед кем откровенничали, будь они даже из других сословий, потом разносили все услышанное, увиденное и воспринятое дальше по миру. А дальше слава ли, позор ли зависели лишь от того, кому достанется секретная шкатулка, кто найдет ключ к ней и кого выберут посланцем. Но секреты придворного аристократа редко бывают ценнее секретов последнего нищего.
Теперь всех прослушивают и даже просматривают. Вспомните видеокамеры, натыканные везде в центрах больших городов. Но за каждым отдельным человеком слежки не ведут, это слишком накладно. Следят за толпой, и лишь если кто-то выделяется из нее, его могут взять на подозрение.
Стоит ли сидеть в крепости, зная, что рано или поздно все равно придется открыть двери кому-то, впуская недобрые вести и неотфильтрованные вирусы? Какой смысл городить забор за забором, наблюдая, как вся эта сволочь все равно проникает внутрь?
Секреты хороши, когда их не слишком скрывают. Это был не город квартир, за стенами которых прячется грех, а город клубов и центров, где человека скрывает толпа. Чужих не пускали не потому, что хотели от них спрятаться.
Прикрытие было символическим, раскрытие обескураживало. Секреты украшают покойников, попытки расследования скрывают их навсегда. Выжившие выжали из них все. Мертвые ушли, и она была тем, что от них осталось.
Смерть не привлекала Ребекку. Она не была изгоем, ее не разыскивали, не унижали. Она просто жила дальше, не прикладывая к этому никаких усилий и не пытаясь доказать что-то, не пытаясь добавить или убавить себе лет, знаний и денег. Период становления закончился, и все прошлое и пережитое теперь глядело на нее, оставаясь темным и непонятным.
Была ли чья-то смерть частью хорошо продуманного или, наоборот, спонтанно родившегося заговора, на самом деле не важно, сколько ни строй гипотез. Любое действие, какое она задумает совершить, будет лишь следствием какого-то предыдущего действия. Даже то, что она осознает это, есть лишь такое же действие, вполне объяснимое.
Смерть предупредила о себе заранее и не закончилась с отходом души. Как долго покойники еще живут? И что влечет ее к ним – неужели то, что она сама тоже давно уже покойник?
Тело и дело слились воедино, как помыслы и домыслы, как причина и следствие. Один сделал, другой задумался и сделал так же, вот и вышло, как у всех. Мерял на себя, а оказался во вселенской толпе.
На одном из поворотов тропы ей встретилась Крис. Она не подкрадывалась, просто Ребекка ее не заметила. Крис поймала низко висящую ветку какого-то дерева и теперь жевала росший на ней листок. Поскольку Ребекка молчала, Крис сама сделала шаг вперед, выпустив листок изо рта, и пойманная ветка вознеслась ввысь, обдавая все вокруг бесчисленными капельками до сих пор не растраченной росы.
Присев, она согнулась почти пополам и начала смеяться, бессмысленно и заразительно:
– Ты знаешь, мне та-ак хорошо.
Ребекке тоже стало смешно, и она подошла ближе. Крис глядела на нее снизу вверх, и казалось, что она только и ждала Ребекку, чтобы поделиться с ней радостью бытия. Сейчас она жила только ради Ребекки. Крис открылась ровно настолько, сколько сейчас было нужно Ребекке, чтобы утвердить и укрепить ее в самом лучшем о себе впечатлении.
Крис говорила так тихо, что Ребекке пришлось придвинуться ближе. Казалось, что та звала ее: «на, послушай», что говорят открывшиеся ей вещи, и теперь она хочет разделить их тайну с Ребеккой. Крис кивнула ей почти незаметно, и Ребекка подвинулась ближе.
В руках у нее, казалось, лежало некое потустороннее существо, вобравшее в себя все последние переживания Ребекки. Она почувствовала, что выиграла, настроение у нее резко улучшилось, но остался какой-то неприятный привкус.
Крис поднялась, как будто ничего не было, и сказала, что пора искать Даниеля.
Они пошли по направлению к холмам. Парк не был городом с тех пор, как снесли фабрику и прилегавшие к ней рабочие поселки. На выходные сюда не ездили, потому что лесопосадки были жидкими и не было даже озера. Ходили слухи, что муниципалитет собирается этот парк снести. Что бы тут ни возвели, фабрики или высотки, они все равно будут отделены холмами от городской инфраструктуры.
Этот клочок нетронутой еще земли раньше принадлежал Буркхарду, а теперь Даниелю.
На земле
Между холмами, отделявшими город от парка, лежала в низине пугающе обширная, тяжелая, густо-коричневая земля. Ее пересекали частые, неизвестно зачем проложенные дороги. Ходили по ним, наверное, только затем, чтобы приблизиться к этой влажной глинистой почве и вдохнуть ее запах. Поле, очевидно, регулярно перепахивали, и оно лежало под солнцем, наслаждаясь теплом: земля в ожидании.
То тут, то там, разрушая комковатую землю и вновь возрождая ее, возникали новые просеки и молодые сады, быстро привыкавшие ничему не удивляться. Безумцы там становились агнцами, а драконы цыплятами.
Посреди пейзажа лежало сине-зеленое озеро причудливой формы, с островом, к которому не вело ни мостков, ни лодок. До него нужно было плыть или идти бродом, где вода доходит до плеч, а то и до подбородка. Вещи в узел, в непромокаемый пакет над головой или прямо в одежде.
Над мерцающей водой парила синевато-серебристая дымка. Отражение дома, возвышавшегося на острове, освещало низину своим светом в дополнение к свету воды и неба. Внешняя стена, внизу почти прямая, неуловимо изгибалась с высотой. Дуга вверху почти совсем сглаживалась. Ширина здания была больше его высоты. Наверх вели ступени.
Ее шаги отдавались гулко, как в огромном барабане. От музыки, игравшей внутри, наружу пробивались лишь самые высокие и самые низкие частоты: примитивные аккорды басов и тоненькое треньканье струнных, похожее на тест для проверки слуха.
Даниель, казалось, уже ждал их. Он сидел, зажав сумку между коленями, и даже не поднял головы. Взглянув вниз, Ребекка и Крис как раз могли видеть берег острова.
На той стороне, которая сейчас была освещена солнцем, к воде и в воду спускалась терраса, на другой стороне переходили друг в друга рощица, лужайка и пляж.
До заката было еще полчаса, но солнце уже скрылось за холмами. Яркий свет больше не убивал краски, и зелень была ядовито-зеленой, а синева – темно-бирюзовой. Разрозненные облака в быстро наступавших сумерках выглядели бурыми, но еще без примеси красного. С одной стороны небо, казалось, выступает вперед, с другой – отходит назад. Когда одна сторона сияла ярко-оранжевым, другая наполнялась розовым и пурпурным; потом там нежные оттенки сменились огненно-красным, а тут все заполнилось лиловой синевой, с каждой минутой становившейся все гуще.
Купол здания выглядел опаковым на бледно-зеленом фоне. Позже в нем отразились фонари боковой подсветки, окруженные радужными ореолами.
Тут не умирают. Никто не принимает наркотиков, позволяющих держаться под водой. «О драгоценный кислород!» – вот их призыв. Нет смысла пихать в рот землю, пока не задохнешься. При попытке тел взгромоздиться друг на друга нижнее всегда ускользает. Или добавляют столько соли в воду, что она выталкивает наверх даже самых тощих. Целующимся приходится время от времени отворачиваться, чтобы выплюнуть соленую воду, отчего они становятся похожи на слабенькие фонтаны. На некоторых из купающихся нет ничего, кроме цепочки на шее. Рыбам тут не место: схватит камень, приняв его за пищу, и с ним опять уплывет.
Кто не поверит, что здесь прекрасно? Город совсем рядом, со всеми его треволнениями, а тут ты Нигде. Свежесть, но не благодаря всепроникающим запахам леса и луга. И вода, эта мокрая простыня, не пропитана духами.
Даниель вынул три большие бутылочки из-под йогурта.
– Развеешь? – спросил он Ребекку. Та кивнула.
Этикетки с бутылочек были смыты. Они оказались на удивление тяжелыми. Как же ему, как им удалось добиться такого полного сжигания? В каком-то детективе Ребекка читала, что сжечь труп вообще страшно трудно. Для этого нужна печь или по крайней мере ниша, чтобы усилить жар, но даже если подлить спирта, то в лучшем случае обуглится только кожа, но кости не разрушатся, и плоть останется влажной.
Или это символический прах, как вся эта земля – заповедник?
Ребекка пошла вперед, на широкое плоское поле. Ее взгляду не за что было зацепиться: кругом одни живые изгороди да кусты. Она не могла сосредоточиться и шла ненужно быстрой, слишком твердой походкой.
Сорвала травинку. Раздавила двумя пальцами, но сока не вытекло, выдавливать было нечего. Глухое поле вдруг испугало ее. Будь она в пустыне, можно было бы раздавить хотя бы кактус. А здесь – ничего, кроме пыльного песка, да и тот не прокопаешь, потому что ветер сразу же все засыплет. Может быть, найти какой-нибудь корешок и высосать? Но она никогда не слышала, чтобы люди использовали таким образом корни злаков, даже будучи в крайней нужде.
Однажды они с Юлиусом предприняли велосипедную прогулку по близлежащим горам. Это был единственный раз, когда они вместе выехали за город. Один приятель одолжил Юлиусу велосипеды, и хотя ездоками они были неумелыми, все-таки выбирали самые крутые и самые короткие дороги. Оглядываясь назад, глядя на подъемы и спуски, они ни разу не захотели вернуться обратно, даже если предстоящий подъем был круче всех предыдущих. Окончательно устав, они слезли с велосипедов, бросили их и улеглись на обочине, прямо на сухую землю. И тут же почувствовали результат прогулки, о котором до сих пор даже не думали. Перед выходом они лишь слегка перекусили, однако кровь так бурно мчалась по жилам, а усталость навалилась так внезапно, что пот тек буквально ручьями, и солнечный свет не слепил, а дрожал маревом перед глазами, размывая краски и придавая вещам причудливые очертания. Но это было не все. Юлиус попытался рисовать. Наклонившаяся женщина. Толстый голый малыш верхом на рыбе – что это, золотая рыбка? – и со слитком золота в руке. Внезапно краем глаза она увидела губы Юлиуса, на которых появилась улыбка; рот приоткрылся. Он протянул руку, она вытянула свою, казалось, в том же направлении – но нащупала лишь жесткую траву. Все правильно. Потом пошел дождь, собственно, он давно уже шел. Они сели на велосипеды и поехали дальше. Один нажим на педаль неумолимо влек за собой другой.
Стоя посреди полей, она отвинтила крышку и высыпала пепел. И так трижды. Один раз вышло легко, два других раза были не ее, а свой собственный она уже не увидит.
Она упала, и ветер быстро унес все, что осталось, покрыв ее кожу и промокшее платье тоненькой пленкой; вскоре исчезла и она.
Подсказка. В автобусе
К ней липли взгляды. Нравилась, не нравилась – какая разница. Флиртовать с ней никто не пытался, и она никого не поощряла к этому, не красовалась. Только тело не хотело примиряться с заданными обстоятельствами. Сиденье скользкое, сумка великовата.
Те, кто пялился на нее, составляли лишь малоприятное, но неизбежное дополнение к ее замкнутой картине мира. Ловить там было нечего. Взгляды манили, лезли, кололи; она оставалась неподвижной. Не боялась и не выказывала никакой реакции.
На ней была бутылочно-зеленая, слегка просвечивающая блузка и трикотажная коричневая юбка. Короткая верхняя часть и низко сидящий пояс открывали часть торса чуть ниже пупка. Привычно оделась по моде прошлого – или позапрошлого – сезона? Или знала, что это идет ей всегда? Она не выбирала. Когда нагибалась, живот свисал, но это ничего не меняло. Маскировка никуда не годилась, она все равно выглядела почти что голой.
Каждое утро ее стискивали в автобусе. Члены рослых мужчин, преодолевая ткань и молнию брюк, упирались ей в живот. Невыписанная моча. Галстуки, пропитанные заведомо неопределимым аттрактантом. Но ее это не трогало, и она весь день пребывала в зашнурованно-сонном состоянии, внутрь которого не могли проникнуть ни отдельный человек, ни толпа. Пересаживалась на нужной остановке и ехала дальше – куда?
Она шла так медленно и размеренно, что ему стоило больших усилий не догнать ее. Потом, перейдя на другую сторону улицы, она вдруг резко ускорила шаг, так что ему почти расхотелось догонять ее. Но заторопилась она не из-за него.
Если бы ему удалось загнать ее в угол и объясниться, то это было бы подчинением ее не ему, а давлению обстоятельств. Все очень просто, он пришел-ушел, нет следа. Если он сам, конечно, проследит за тем, чтобы не сбиться с курса.
Вот почему ему так захотелось раздеть ее. Материализовать, выбив из накатанной идеологической колеи. Но у нее и под платьем был герметически закупоренный купальник. Они ехали к озеру на его мопеде. Расхлябанная крышка бензобака, кое-как заклеенная скотчем. Цвета менялись все время, от серого до темно-серого, муаровые узоры.
Трава приняла их жадно. Они бродили по лугу, чувствуя, что не обременяют его.
Лежали без движения. Только тишина и теплота, упокоившееся зеркало вод и прибежище неведомых зверей.
Полнота бытия, прозрачная, как вода. Влажные, глубокие губы. Разгоряченные щеки принимают прохладный поцелуй роз.
Лица ее он не мог разглядеть под беспорядочными длинными локонами. Свет в ее волосах ломался. Ее непонятная улыбка доходила до него лишь с большим опозданием. Где-то что-то сверкнуло. Прямо под заходящим солнцем, забелев ненадолго на фоне вечернего неба.
И все это лишь ради людей, нежащихся на солнце, чтобы запечатлеться в хрониках бытия? В ярком свете играет дешевое радио на черном песке. Там, где в любое время суток всегда тень, растут толстые, сытые травы, не отдающие никому и ни за что ни капли своей влаги.
Она ласково поцеловала его в закрытые веки – и вдруг принялась сосать, жестоко, больно.
День кончился нарывом, мешком крови над горизонтом. Когда они поднялись, им хотелось есть и пить. И в сортир. Она пошла за кустики.
В кафе, прямо на шоссе, сидели на деревянных скамьях сплошь двенадцати-тринадцатилетние, слушая примитивные, быстро и шустро отыгрываемые хиты. Сидели, курили восьмую сигарету из пятой пачки, последней в этой жизни, ожидая Страшного суда, который так легко запить кока-колой.
В гостях
Под предлогом, что ему надо еще купить кое-что, он дал ей одной войти в квартиру, а сам остался за дверью, дожидаясь, когда она, по его расчетам, придет в нужное настроение. Не горя желанием, а просто ожидая его у себя дома.
Она переоделась, надев расстегнутый халат и широкие штаны из грубой серой ткани. Руки наполовину в карманах. На столике позади нее красовалась пара толстых коротких рогов. На полу – огромный горшок для цветов, пустой, с декоративно-шишковатыми боками.
Они прошли мимо затемненной комнаты, где громоздились кучи тряпья высотой больше метра, налезавшие одна на другую, и вошли в комнату, вполне прибранную. Этот контраст объяснялся не тем, что оттуда недавно кто-то выехал или что она сама въехала недавно. Помимо вещей красивых и полезных, там было полно явного старья, покрытого пылью. Разрисованные головы в очках без стекол, картины, накапанные кровью и чаем, куклы с немыслимым макияжем в косо напяленных париках на фоне бледно-салатовых стен.
Это был искусственный хаос, застывшая память, к которой прислушиваешься, как во сне. Собрание замыслов, подобное головоломке из ста тысяч кусочков. Не во что зарыться, не в чем порыться. То, от чего хотелось отвести взгляд, но оно продолжало действовать и замутнять его.
Ощущала ли она исходившую оттуда вонь? Оделась в халат и штаны, чтобы навести там порядок? Бессознательно спрятала дрожавшие руки, хотя они не портили общего впечатления от ее мягкого массивного тела. Или хотела с вызовом показать ему – а что, вполне возможно, – на каком нерве делались все эти вещи и сколько трудов ей стоило сохранить их?
Сама она никогда к ним даже не прикасалась. Прикасался ли к ним вообще хоть кто-нибудь? Мысль была новая. Долго ли она останется новой? Это была тайна, сокрытая от обоих.
Любой первый шаг вел в бесконечность. Отсутствие границ равнялось отсутствию жизненного пространства.
Она подавала себя как жест. Которого не делала. Она не двигалась, но он и так отлично видел, что ей хочется бежать.
Что ж, навязался – надо продолжать. Если она вскрикнет, он тоже. Спровоцировав его, она теперь делает вид, что ничего не произошло. Она не простила – просто вычеркнула все из памяти.
Ее веки удовлетворенно закрылись, но это не было приглашением. Они были не одни.
– Аксель, – представила она ему того, другого, стоявшего возле вещей, как призрак. – Меня зовут Лейла.
– Юлиус, – представился он, коротко взглянув на Акселя. Одежда на нем казалась выцветшей и рваной, хотя поношенной не была. Воспоминания бледнели, становясь отрывочными, и человеку не грозило безумие.
– Как вы познакомились? – спросил он Юлиуса. Он ожидал ответа не от Лейлы, которой у него был зарезервирован карт-бланш, а от гостя, которому таким образом предлагал начать беседу. Так проверяют нового сотрудника, зная, что все равно без трений не обойдется. Аксель показывал, кто здесь хозяин, не опускаясь до пикировки с другим.
Расскажи Юлиус об их первой встрече, не обусловленной ничем, кроме давки в городском транспорте, интерес тут же пропал бы. Аксель не поверил бы в такое знакомство и его случайность, потому что до сих пор никто, кроме самой Лейлы, не скрывал, что познакомился с ней намеренно.
Не похоже, чтобы Акселя и Лейлу связывала тесная дружба или интимная близость. Под его хладнокровием, ежедневно укрепляемом приверженностью к привычным формам и удовлетворению потребностей, крылась полнейшая безжалостность. Благодаря этому Аксель мог манипулировать вещами и людьми, как хотел. Он не расходовал, а транжирил свои силы, со злорадным любопытством следя, насколько же их еще хватит.
Лейла неподвижно стояла в нескольких метрах от разыгрываемой сцены. Предоставляла место. Вычурно и скупо указывала на вычурно и скупо оформленные вещи.
Если о чем-то говорят так серьезно, значит, не принимают его всерьез. Как будто недостаточно просто бросить его недоделанным. Зачем еще тыкать в него пальцем?
Барахло у Лейлы скапливалось само: она не делала определенных покупок в определенных местах по определенным ценам. Что покупала, тут же раздаривала: хранить у себя что-то покупное казалось ей странным. Иногда получала что-то в подарок. Или брала то, что плохо лежит.
Такая жизнь обходилась недешево. Деньги она экономила на том, что стриглась сама или просила кого-то из друзей. Если посчитать, то экономия получалась в самый раз.
Может, Юлиусу стоит использовать Лейлу против Аксеъя? Слегка осадить ее, так сказать, поставить на место? Чью бы сторону он ни принял, это будет затяжная, ни к чему не ведущая борьба.
Аксель и Лейла ничего не говорили. Стояли, не решаясь сделать шаг, так как видели в Юлиусе лишь неизбежное отражение своих проекций: попробовгли и отступились. Что бы они сейчас ни сказали, все это отразилось бы в преувеличенном виде, любая слабость моментально вышла бы наружу. Акселю не нравился цвет стен, но лучшего он предложить не мог. Лейле не хотелось ставить музыку. И вообще делать что-либо, что могло заставить ее раскрыться, а значит, и стать темой для разговора.
Юлиус не знал, что теперь выйдет из этой встречи. В принципе он мог, конечно, переломить ход событий.
Но, произнеси он первое, оба тут же прицепились бы к нему, засыпали вопросами и ушли в сторону. Аксель уверился бы в том, что был прав, с самого начала отнесясь к Юлиусу скептически, а значит, может и дальше любить Лейлу, находя в ее поведении лишь сиюминутные поводы для недовольства, которые, впрочем, могли затянуться и надолго, даже на годы, продолжай они жить вместе.
Нет, слово явно было не за Юлиусом. Он тут больше всех был гость, а потому мог начать разговор, лишь задав какой-нибудь конкретный вопрос. Или попросить что-нибудь, завязав с Акселем, так сказать, разговор по делу.
– Я хотел бы узнать кое-что, о чем она не хочет мне говорить.
– Не хочет говорить?
– А потому, наверное, не будет возражать, если я узнаю это помимо нее.
Аксель, давно уже не обращавшийся к Лейле, пытался завязать контакт хотя бы с ним. Он ей припомнит, но не сейчас.
Жертва была самая подходящая: человек чужой, просто знакомый его тоже, в общем-то, не более чем знакомой. Возможно, Аксель чувствовал даже, что конфликт с ней больше подойдет ему в опосредованной, разбавленной форме. Неужели он и впрямь предпочитает шнапсу коктейли?
– Неужели стать твоим другом так трудно?
– Если захочешь пару клубничин на завтрак, малыш, тебе стоит только поднять пальчик.
Юлиусу вдруг захотелось провести время с Акселем. Может быть, потому, что Акселю не хотелось?
– Из-за тебя я уже с утра пью, – сказал Аксель, разбавляя вино виноградным соком в бесплодной попытке отвыкнуть пить. Заявил и умолк.
Доступное не интересовало его. Сквозь чью-то кожу он легко мог проникнуть – и пользовался этим, – сквозь чью-то – нет. Он мечтал научиться проникать в любого человека.
Чтобы за короткий срок прожить несколько жизней, нужно десять лет и много денег.
Нужно постоянно подбрасывать корм чудовищу, живущему у тебя внутри, чтобы оно с голодухи не надумало сожрать тебя самого.
Стараться не тревожить его лишний раз. Заклинать его тихо, в словах кратких и быстрых, наползающих одно на другое. Так, чтобы они утратили смысл, а их обещания сбывались.
Юлиус воспринимал Акселя, не проникая внутрь, а видя только кожу, как будто, кроме нее, ничего и не было. Сначала ощутил наготу его рук и лица, но не потому что видел и мог коснуться, а потому что Аксель сам ощущал их наготу.
Нет, голый тут не я. Левая рука блудит, правая пишет.
Был момент, когда он готов был наброситься на него всеми известными способами. Это была страсть, не вызывавшая боли, потому что только что зародилась.
Он резко ущипнул себя за руку. Вскрикнул, но коротко. Быстро опомнился и сжал губы. Боли в руке не было.
Не успев прийти, боль растаяла сновидением. Хотя он почувствовал ее: значит, страхов у него по крайней мере никаких нет. Выругался невнятно в адрес всего на свете, без конкретного повода. Встал, охваченный жаром. Шаги заплетались в ковре.
Он плотно завернулся в одеяло, как будто был наедине сам с собой. Ткань, запах, отдельные колкие волокна. Это ему тоже суждено испытать. Щеки распухли. Уши, казалось, ползли по затылку навстречу друг другу. Шорохи растворялись в запахах. Его единственная рука, сгоревшая на солнце, оканчивалась широкой ладонью, с пальцами толстыми, как корни. Эта рука была вполне способна ожить и выползти, чтобы крушить деревья и ломать железные балки.
Другая – лишь стиснутый кулак над пенисом.
Построив по тревоге свои самые ужасные воспоминания, он призвал их к оружию. Его одолевала какая-то невыносимо чуждая сила. Не вулкан, плюющийся лавой, а клубящаяся под потолком тьма склепа, душившая его.
Он непременно должен встать и начать действовать. Чем бы это ни кончилось. За это ему и надо теперь держаться, тратя последние остатки распадающейся воли. Бросив наконец искать вежливые отмазки.
Было ли ему плохо только лишь оттого, что он боялся дать другим проникнуть внутрь себя? Но эксперимент есть эксперимент, и он уже начался. Да у него и не было мыслей, которые ему хотелось бы скрыть из боязни разочаровать кого-то.
– Ну ты, конечно, об этом слышал.
Лейла и этим ничего не сказала, сыграв роль просто эха.
– Ты так и не поняла – я вообще ни о чем не в курсе. Не слышал. Не нюхал. И не пробовал.
Ему было тяжело выносить все это. И он пер вперед в отчаянной надежде, что этот путь приведет его к выходу. Ему было смешно, и он больше не скрывал этого. Рот растянулся до ушей.
Он знал, что самой большой ошибкой, идиотизмом сейчас было бы смягчать свой голос и жесты. Отнесясь ко всему легкомысленно, он ничего бы не выиграл, однако отвертеться все равно бы не удалось. Действовать приходилось в темпе чечетки.
– Мне надо лечь. Я уже не соображаю, что говорю.
– И ты можешь спокойно заснуть, не затрахавшись до седьмого пота?
– А если и это не помогает?
Лейла быстро показала несколько упражнений, каждый раз обрывая их, не доводя до традиционного завершения. Если кто из них и был обеспокоен, так это они, а не Лейла. Многое так и осталось намеком, но каждый намек давал место воображению, воплощая в себе и соло, и ритм.
Она явно показывала, что умеет еще многое – только попроси. Можно было, надо было дать ей продолжить. Однако он сказал лишь:
– Я попробую.
– Ладно, не прикидывайся.
Представился задетым этим ее отзывом, да так удачно, что она и не заметила, что на самом деле он воспринял его как высшую похвалу.
Настолько, что даже не смог сдержать улыбки, хотя и покачал головой. Так, по-стариковски, показывая, что это не относится ни к кому. Под конец выдвинул вперед руки, расположив их так, будто держа на одной невидимый плоский диск, а другой прикрывая его.
Она взяла его за руку; другой рукой он обнял Акселя.
Юлиус был чудным куском дерьмеца к обеду, только вот соус подкачал.
Выкрутиться нельзя было никак – очередной приступ, болезнь или несчастная любовь тут уже не сыграли бы. Хотя можно было бы выйти красиво, выстраивая из разрушенного все новые формы до тех пор, пока они не станут лучше первоначальных.
– Я нарочно сделала вид, что ни черта не соображаю и что тебе ничто не грозит, чтобы ты разговорился. Поддакивала, чтобы потом выдать тебя со всеми потрохами, а теперь скажу: сейчас я выдам тебе нас, чтобы ты знал, что нам от тебя нужно.
Лейла стояла рядом с ним, как будто все уже было сказано. Кровь ударила ему в голову. Не от того, что он не понимал ее или считал, что его провели.
Окончательно утратив всякую ориентировку, он мог теперь лишь медленно всплывать из глубин бесформенного страдания к снисходительному и всепонимающему созерцанию.
Он ощутил сладкое нетерпение, предвкушая, что что-то сейчас произойдет, прямо вот-вот.
Он снова узнал эту квартиру. Вспомнил, как жил здесь сам. Ностальгия не была печальной, он был рад этим воспоминаниям.
Действительно ли он увидел при этом сам себя или ему потом кто-то напомнил?
Он рассказывал о прошлом, которого они здесь не знали. Соглашался с ней в том, что касалось общих наблюдений, и скрупулезно уточнял известные одному ему детали.
Он разговорился – и заблудился. Стал чем-то, что не имеет значения ни в какое время, кроме тех минут, когда живет.
Все, что говорил Юлиус, было правдой. Сегодня он не мог ошибаться.
– Откуда ты это знаешь? – спрашивала Лейла.
Ей было отлично известно все, о чем он говорил. Однако кое-что и ей было в новинку. Она узнала, как это воспринимал он. Хуже, лучше, не важно, главное – по-другому. Поняла многое, но не о вещах, о которых он говорил, а э нем самом, вообще о том, как думают другие люди и как они это высказывают.
Возможно, ей приходило в голову, что он несет чушь, чтобы проверить ее. Но она не перебивала, потому что видела, как он наслаждается своими мучениями и как глубоко трогает его собственный голос. Как он теряет нить и переживает, чувствуя, что ее это беспокоит.
И тут он вдруг выдал ей нечто совершенно интимное, о чем ее партнер давно забыл. Или не хотел признаваться никому, даже сам себе, разве только вселенской пустоте.
Лейла заговаривала, лишь когда отмечала что-то для себя. Без контроля, что вот, мол, эта область для всех неприкосновенна, а просто плывя над пейзажем воспоминаний в полнейшей беззаботности переваривающего информацию сознания.
Аксель, молчавший все это время, высказался как бы невзначай:
– Я бы так не смог.
Разве это не было понятно и так? Иначе как бы он мог выслушивать все это без скуки? Скучать и все равно оставаться? Мог ли он радоваться тому, что узнал, скрывая при этом свое безусловное поражение?








