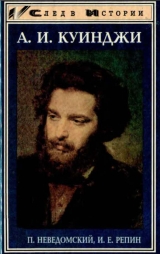
Текст книги "А.И. Куинджи"
Автор книги: Илья Репин
Соавторы: М.П. Неведомский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
СМЕРТЬ КУИНДЖИ
За последние три-четыре года жизни Архипа Ивановича некогда железное его здоровье стало заметно изменять ему… Внешние симптомы сводились сначала к одышке: он с трудом поднимался по лестнице, а поднявшись, долго не мог отдышаться… Тяжело отзывалось на нем всякое волнение, появилась возбудимость, вспыльчивость… Но особенно грозные симптомы обнаружились ранней весной 1909 года. Вернувшись в Петербург из поездки в свое крымское имение, Архип Иванович в течение 8–9 дней был между жизнью и смертью: сильнейшие приступы удушья могли каждую минуту привести к катастрофе благодаря болезни сердца… Консилиум врачей произвел исследование рентгеновскими лучами и нашел сильное расширение сердца и аорты. Болезнь была запущена, и борьба с ней для медицины была нелегкой…
Несколько ночей провел у постели больного В. А. Беклемишев, с которым сблизился в последние годы Архип Иванович… Одна ночь на 6 марта была особенно тяжкая, и больному уже прописали дыхание кислородом. Но могучий организм на этот раз одолел: Архип Иванович начал мало-помалу поправляться, а затем встал на ноги и продолжал хлопоты по организации Общества… Архип Иванович рассказывал, что во время болезни его очень трогали пернатые его друзья: ежедневно около полудня они прилетали как бы навещать его и стучались клювами в стекла мастерской…
Следующей весной – опять поездка в Крым и опять болезнь, на этот раз уже с роковым исходом.
Доехав до Ялты, Архип Иванович остановился в гостинице и слег. Оказалось, воспаление легких. Сама по себе опасная в такие годы – Архипу Ивановичу шел 68-й год – эта болезнь, как известно, особенно «требовательна» по отношению к сердцу. А сердце было больное… Ялтинские врачи предписали полное спокойствие, запретили всякие занятия, прием посетителей, разговоры… В одиночестве лежал Архип Иванович в своем номере, – находилась при нем только сестра милосердия… Один из учеников его, Н. П. Химона, бывший в это время в Ялте, поселился в соседнем номере; балкон был общий, разделенный лишь парусинными перегородками, и сквозь щель в перегородке ученику удавалось иногда поглядеть на больного учителя, когда того выносили подышать воздухом…
Жена Архипа Ивановича оставалась в Петербурге и, долго не получая известий от него, поехала в Ялту, где застала его уже несколько лучшем состоянии… Вскоре она вернулась в Петербург, куда при первой возможности должны были перевезти и Архипа Ивановича… Но эта возможность не представлялась: больной не поправлялся… Тогда Вера Леонтьевна вторично отправляется в Ялту и организует переезд в Петербург, чтобы оттуда направить больного в Сестрорецк: врачи советовали ехать на Кавказ, но Архип Иванович предпочел пристоличный курорт, быть может, рассчитывая на лучшую врачебную помощь… 7 мая, в сопровождении сестры милосердия, Архип Иванович приехал в Петербург и – осталсяв Петербурге: состояние его было уже безнадежное… Потянулись два месяца непрерывных мучений… Больному все время не хватало воздуха. Миокардит делал свое дело с неумолимой постепенностью… То и дело прибегали к кислороду и впрыскиваниям морфия, которые начали применять еще в Ялте. Лечил Архипа Ивановича сначала доктор Штанге, а затем, после его отъезда, доктор Гурвич и наконец Л. Бертенсон, ассистент которого, господин Корницкий, провел при умирающем не одну ночь…
Из бывших учеников навещали его и дежурили при нем Рерих, Рылов, Зарубин и другие, а из друзей старшего поколения – чета Позенов и господа Беклемишев и Залеман…
Архип Иванович метался в смертельной тоске, то и дело требовал к себе друзей, как бы боясь одиночества…
Ни на одну секунду не поддавался он иллюзии выздоровления… Когда один из прежних друзей, товарищей его по профессии, прислал ему письмо с обнадеживаниями, с уверениями, что они еще оба поработают на своем веку и т. п., Архипа Ивановича вывела из себя эта условная успокоительная ложь…
Прямо глядя в глаза врачу своими пронизывающими, жуткими в эти минуты глазами, он и ему заявлял, что ничуть не верит его утешениям, его речам о возможности поправки:
– Зачем говорите вы это? Вы еще не начали говорить, а я по глазам, по морщинке между бровей, по всему уже вперед видел, что вы собираетесь солгать…
С. А. Гурвичу, который записал в своем дневнике некоторые из предсмертных разговоров Архипа Ивановича и предоставил в мое распоряжение эти записи, Куинджи говорил:
– Я в медицину верю… Но почему нет среди вас талантов?..
И Архип Иванович проводил параллель с художниками и говорил на одну из любимых своих тем. Он давал свое – почти гегелевское– определение: художник есть тот, кто умеет уловить и воссоздать внутреннее,единое, – ту жизнь и тот смысл жизни, которые как бы рассыпаны в частностях, раздроблены в них… Почему не умеют это делать врачи? И они должны уметь…
– Вот вы ученый человек, – продолжал больной, – и перед вами лежит Куинджи: смотрите, он весь здоров! Вот мои мускулы, – он показывал свою голую руку и заставлял играть мышцы… – И только здесь что-то, только в груди… В природе должны быть средства для борьбы с этим, не верю, чтобы не было… Но вы не умеете найти…
Сильный ум его долго не сдавался, – еще дольше, чем сильное тело, – и работал подчас с обычной отчетливостью… Бывали моменты забытья, тоски, метанья, – «полубреда», полуобмороков. Но, по миновании их, Куинджи становился по-прежнему «зорким»… Уже давно приговоренный к смерти, он продолжал жить.Его не поглощали обычные для больных интересы: ощущения боли и жажда избавиться от них… С учениками он говорил о дорогом ему деле – создании Общества, а нередко по-прежнему «сверлил землю» умственным взором, затрагивал огромные вопросы человеческого существования…
Доктор Гурвич записал один такой разговор, помеченный в его дневнике – 29 мая. Вызванный ночью по телефону, он застал уже конец припадка… Архипу Ивановичу стало немного легче… И вот он лежит, умирающий, в глубокую ночь, в своей гостиной, на разостланном на полу ковре, – голый, скинув с себя даже простыни, которые «душат»… Он подпер голову рукой, а врач наклонился к нему, чтобы лучше слышать ослабевший голос: Архип Иванович заявил, что ему хочется поговорить «о многом»…
О чем же повел он речь? О последовательности,которой нет в нашей жизни. Он одобрял строгость наказаний в защиту частной собственности, какою отличалось старинное финляндское законодательство; он горько иронизировал над попытками соединить капитализм и его порядки с Евангелием и христианством… «Евангельская любовь – ерунда при наличности капиталистического строя!» – говорил он: вот почему духовенство – безразлично, к какому толку христианства оно ни принадлежит – играет фатально фальшивую роль… Это – «лавочка совести», по его выражению [35]35
В дневнике г. Гурвича записаны некоторые беседы, где Архип Иванович касался религии: он не был атеистом, но церковной религиозности был чужд… Правда, из каких-то ему одному ведомых побуждений он вносил регулярно некоторую сумму на церковь своего прихода; но когда священник этого прихода явился причащать его, он отклонил это предложение, и все свелось к непродолжительной беседе как бы с обыкновенным посетителем, пришедшим навестить больного… Сам Архип Иванович называл себя «религиозным» человеком, говорил о разлитом во всем мире первоисточнике всего сущего, и, кажется, вернее всего можно определить его настроение словами: пантеистический деизм…
[Закрыть]…

А. И. Куинджи
Набросок Н Е. Репина за 4 дня до смерти А. И.
(Собственность Общества имени Л. И. Куинджи)
Было ли то болезненное – предсмертное – настроение или подлинный итог подведенной жизни, но в этих последних беседах Архипа Ивановича сказывалась огромная усталость от жизни, глубоко пессимистический взгляд на нее… Он не видел выхода из современного царства собственностии собственников:он высказывал доктору Гурвичу, что социализм, по его мнению, может устранить много преступлений, много зла, может развить солидарность и любовь, проповедуемую христианством, но лично ему чувствовалась какая-то фальшь и здесь, что-то мертвящее, способное остановить жизнь: «Жизнь все-таки – борьба, соперничество, вечный «конкурс», – говорил он, прибегая к словарю своей профессии… Жизнь представлялась ему, как сплошное единоборство двух начал – добра и зла. Борьба со злом необходима, но зло сильнее добра, и потому толстовское учение о непротивлении нежизненно… Не будь борьбы, зло одолело бы. И при борьбе-го, в лучшем случае, получается лишь равновесие…
Тот же пессимизм сказывался и в оценке морального прогресса человечества. По мнению А.И., такой прогресс – самообман: человечество ни пяди не завоевало в области морали за все время своего исторического существования. Ни Моисей, ни Магомет, ни Будда, ни даже Христос ничего в этой области не сделали: не они переделали людей, а люди переделали их на свой лад, применительно к своим удобствам и потребностям… И в доказательство Архип Иванович указывал на рабство, которое всегда существовало и существует до сих пор; произошла только перемена названия: прежние рабы сначала превратились в рабов феодальных, а теперь их сменили рабы социальные…
Все здесь цитированное – лишь обрывки разговора, кратко занесенные в дневник под свежим впечатлением в ту же ночь, когда доктор Гурвич вернулся домой от умирающего… Но и эти обрывки обнаруживают всю недюжинность этой крупной личности, этого «самоучки», почти не признававшего книги и чтения, но работавшего мыслью над кардинальными вопросами человеческой жизни и пользовавшегося минутами передышки между приступами своего смертельного недуга для беседы на такие темы…
Этот человек, полный такой редкостной любви, такой страстик жизни и ко всему живому, расставался с жизнью мучительно – до ужаса… Однажды в светлый, солнечный день он лежал в гостиной, а один из друзей заметил на окне пышным красным цветом расцветший кактус и обратил внимание больного на яркий цветок: Архип Иванович, запрокинув голову, посмотрел и – тотчас, закрыв лицо руками, с ожесточением крикнул:
– Не хочу я видеть… Зачем показываете мне это?..
В другой раз жена, думая развлечь его, впустила в комнату одного из пернатых пациентов Куинджи – воробья, и опять – только боль и ожесточение вызвало это в умирающем…
Физические муки доходили до того, что Архип Иванович убеждал и молил врачей дать ему яду: он не хотел признавать доводы «врачебной этики», которая налагает запрет на подобные medicamenta heroica… Несколько раз в последние недели делал он попытки покончить с собой…
Утром, в четверть восьмого, 11 июля 1910 года мучения прекратились.
Против обыкновения, никто из друзей в эту последнюю ночь в квартире Куинджи не ночевал: врач посоветовал им уйти, чтобы исключить возможность беседы. Утро было особенно беспокойное: больной метался и несколько раз порывался встать… Вера Леонтьевна спустилась к швейцару, чтобы позвать его на помощь к фельдшеру… В этот момент Архип Иванович услал последнего позвонить по телефону к врачу, но, словно не доверяя фельдшеру, сам поднялся вслед за ним, – в одном белье вышел на площадку лестницы и навалился всем телом на перила… Фельдшер повел его в квартиру, с трудом поддерживая его грузную фигуру… На пороге Архип Иванович умер…
13 июля, вечером, гроб с телом покойного был поставлен в церкви Академии; отсюда на следующий день, после отпевания, перенесен на Смоленское кладбище для погребения… Я сказал перенесен– это точное выражение: всю дорогу до кладбища ученики и друзья Архипа Ивановича несли гроб на руках… За гробом следовала колесница, сплошь покрытая венками, с массой живых цветов… Среди надписей чаще других попадалась такая: «Архипу Ивановичу» – говорившая о простом, сердечном отношении к умершему…
По дороге несколько фигур, никому не ведомых, бедно одетых, с явственной печатью нужды на лице, присоединилось к шествию… Кое-кто из них теснился поближе к гробу. На вопрос: «Разве вы знали покойного?» – один из незнакомцев ответил: «Как же пе знать?.. Нашего-тоАрхипа Ивановича!» – и пояснил, что не раз получал от него помощь…
На кладбище небольшая толпа – летом большинство художников в разъезде из столицы – в тихой сосредоточенности окружила могилу… Две-три кратких речи – и последние проводы кончились…
День был тихий, солнечный…
Глава XII«ПОСМЕРТНЫЕ» ПРОИЗВЕДЕНИЯ КУИНДЖИ
Я отложил до этой заключительной главы речь о последних, утаенных им при жизни от широкой публики, «посмертных» картинах Куинджи…
Приступая теперь к итогампредлагаемой характеристики, я начну с беглого «отчета» об этих картинах.
Есть два рода, можно сказать, качественно различных эстетических суждений.
Если мы говорим о произведении, нам современном, созданном в той идеологической атмосфере, в которой мы сами живем, воплощающем те интимные вкусы и влечения, которые стали безотчетно нашей второй натурой, – мы берем эти последние за данное, измеряем явление, стоя, так сказать, на этой почве, и высказываемся о нем, свободно отдаваясь своей впечатлительности и эстетическому чутью: здесь импрессионистическаяоценка, субъективная критика вполне у места… Более того – они здесь являются, быть может, лучшим, вернейшим путем к правде…
Но если мы имеем дело с произведением искусства, относящимся к прошлому, к эпохе уже изжитой, хотя бы и недавно минувшей, – при суждении о таком произведении довольствоваться одними субъективными впечатлениями значит обрекать себя на неудачу, на несправедливость и ошибки.
Мы немало видели таких несправедливостей за последнее время: в эпохи переоценок ценностей люди постоянно со слишком легким сердцем игнорируют завоевания своих предшественников… Это, может быть, психологически естественно; но есть в этом задоре и легкости отрицания и что-то от неблагородства, от неблагодарности… А главное, это препятствует органическому росту идей и вкусов, разрывает звенья традиции, нарушает преемственность, что, конечно, по меньшей мере, неэкономно —в области эстетики так же, как и во всякой другой. Нельзя считать «пройденной ступенью» то, в чем мы еще не научились видеть все положительные стороны, нельзя назвать преодоленной такую стадию нашего развития, во всех плюсахкоторой мы еще не отдаем себе ясного отчета…
Эпоха, создавшая Куинджи, – это эпоха всего лишь нашего вчера.Но, как я уже отмечал, именно к моменту расцвета его творчества он был застигнут новой эпохой с новыми, резко отличными от прежних, исходными точками и задачами…
Чтобы быть справедливымк Куинджи, чтобы вникнуть в его значение, чтобы дать себе отчет во всех положительных элементах его творчества, нашему поколению уже необходима и историческаяточка зрения…
А. Н. Бенуа сумел стать на такую точку зрения, когда в статье 1900 года, предназначенной для французского читателя [36]36
«La Russie d la fin du XIX sifeclc», Art. – par Alexandre Benoist.
[Закрыть], говорил об эволюции русской живописи в 70-х годах, «особенно ощутительно сказавшейся в пейзаже»: в этой статье он называет Куинджи «великим и вечным искателем новых колористических задач», отводит ему место в истории нашей живописи – «аналогичное тому, какое принадлежит Клоду Монэ во Франции»…
За исключением этой последней параллели (она, впрочем, вряд ли и претендовала на полную точность),это – оценка именно историческая и потому справедливая.
Мы видели выше, что картины Куинджи в 70-х и 80-х годах для его современников являлись истинными откровениями, – были, согласно показанию Крамского, – «ошеломляюще новы»… У нас имеются показания современниковАрхипа Ивановича, людей одного с ним поколения, одной «идеологической школы» и относительно последних, посмертных произведений Куинджи… С этих показаний я и начну: они лучше всего помогут нам историческиотнестись к картинам Куинджи.
Приведу выдержку из рассказа Максима Белинского (И. Ясинского) [37]37
«Ежемесячные сочинения» Ясинского, 1901 год.
[Закрыть]о том, как в 1901 году Архип Иванович показал нескольким знакомым – автору в том числе – четыре своих картины, из тех, которые до того времени скрывал от взоров публики… Рассказ интересен тем, что передает впечатление и другого современника Куинджи – большого любителя живописи – Д. И. Менделеева…
«Архип Иванович, – рассказывает Ясинский, – повернул и придвинул к известной черте на паркете огромный мольберт, прикоснулся к черному коленкору, который заволновался и упал наземь, и мы увидели пригорок, покрытый густой растительностью, и на малороссийских хатках, прячущихся в зелени, заиграло живое, но созданное самим Архипом Ивановичем, солнце. Небеса, которые мы увидели, уже начинали погасать. Это были кроткие, райские, лилово-розовые небеса, пронизанные последними лучами умирающего светила. Еще ничего подобного никогда не создавало искусство. Безукоризненный огненно-розовый свет освещал белые стены хат, а теневые стороны их были погружены в голубой сумрак. Голубая тень легла от дерева на освещенную стену…
Взмах руки Архипа Ивановича – и коленкор закрыл чудную картину, странно вспыхнувшую и на мгновение загоревшуюся странной жизнью в этот зимний петербургский день; мольберт отошел в глубину комнаты, повернулся и опять, покорный руке художника, приблизился к нам, дойдя до волшебной черты, проведенной на полу.
– Это что за координата такая? – спросил Дмитрий Иванович.
А это была просто выверенная линия, которую надо было иметь в виду, чтобы магическое полотно не давало рефлексов, ослабляющих впечатление…
Опять собрался в складки черный коленкор – и мы увидели темный густолиственный кедровый и масличный сад на горе Елеонской с яркой темно-голубой прогалиной посредине, по которой, облитый теплым лунным светом, шествовал Спаситель мира. Это – не лунный эффект: это – лунный свет во всей своей несказанной силе, золотисто-серебряный, мягкий, сливающийся с зеленью дерев и травы и проникающий собою белые ткани одежды. Какое-то ослепительное, непостижимое видение…»
Переходя к третьей картине Архипа Ивановича, Ясинский высказывается о ней так:
«Пред нами открылось необъятное бледное пространство – берег, покрытый полевыми цветами и чертополохом, река, уходящая в безграничную даль, светлые, воздушные, чистые, как глаза ангела, небеса в легких параллельных, едва розовых, едва лиловых, едва серебряных облаках, и над берегами, над рекой заструился утренний прозрачныйпар. Странное чувство испытал я, когда вдруг увидел этот Днепр, извивающийся по великой низменности. Я уверен, что все то же самое испытали. Наверно, у каждого сжалось сердце, схваченное радостным чувством, и на ресницы стала проситься слеза…
Менделеев закашлялся. Архип Иванович спросил его:
– Что это вы так кашляете, Дмитрий Иванович?
Профессор весело отвечал:
– Я уже шестьдесят восемь лет кашляю, это ничего, а вот картину такую вижу в первый раз.
Перестановка – и вот перед нами четвертое чудо: березовая рощица с ручейком, освещенная солнцем и с голубыми небесами на заднем плане…
Какая необыкновенная чистота красок! Как они сверкают!..
– Да в чем секрет, Архип Иванович? – опять начал Менделеев.
Кто-то заявил:
– Я закрываю глаза и все-таки вижу.
– Секрета нет никакого, Дмитрий Иванович, – смеясь, сказал Куинджи, задергивая картину к великому нашему сожалению, потому что хотелось все стоять перед ней и смотреть и слушатьэтот ручеек, распавшийся на мочежинки, которые теряются в траве, между тем как немного выше по зеленой мураве тянется настоящийсолнечный луч.
– Много секретов есть у меня на душе, – заключил Менделеев, – но не знаю вашего секрета…»
Сам автор рассказа определяет «секрет» Куинджи так: «умение создавать рядом с действительной природой свою собственную, одинаково яркую и волшебную…»
Картины, показанные в этот раз, были: «Вечер в Малороссии», «Христос в Гефсиманском саду», «Днепр» и «Березовая роща».
Мы видим в этих «показаниях» старого беллетриста и знаменитого химика не только полное удовлетворение, но и прямой восторг перед произведениями Куинджи… Другой «современник», Л. В. Позен, с глубокой грустью отмечал в беседе со мной, что некоторые из картин сильно проиграли от тех не доведенных до конца поправок, которые впоследствии внес в них Куинджи, возвращаясь к работе над ними даже во время болезни… Что же касается впечатления, полученного от них в том же 1901 году, когда Архип Иванович вообще приоткрыл двери своей мастерской для некоторых знакомых, то и у Позена оно было столь же сильное, как у автора только что цитированного рассказа и действующих в этом рассказе лиц: при взгляде на некоторые из картин, по выражению Л. В. Позена, у него «мурашки бегали по спине» – от ощущения художественного восторга…
Мы не можем восторгаться живописьюи манеройКуинджи. Мы уже избалованы в этом отношении дальнейшими откровениями и обретениями…
Новатори пролагатель путейк импрессионизму и плен-эру, Куинджи, как я указывал, первый у нас, – и совершенно самостоятельно, – пришел к импрессионизму в тонах и композиции…В области последней у него, на мой взгляд, есть даже достижения, далеко не всем ведомые среди импрессионистов наших дней…
Но он не доводил своего метода до конца. Импрессионизм его не проникал в самую живопись,в трактование элементовзрительного образа: он не знал обобщенно-субъективного рисунка и лепки, не знал и того мерцания воздуха, света и цвета, которые составляют очарование новой живописи…
Всей этой красоты и всего этого подкупающего современного вкусаи изящества нет у семидесятника -новатора,но все же семидесятникаКуинджи.
Но проникнем взором за эту – все же – поверхность,забудем на минуту об этих бесконечно милых нам вещах, – ради той правды,ради того «внутреннего»(любимое слово Куинджи) – к чему стремился в своих картинах художник. Ведь уж не такая невыполнимая это задача… И тогда мы получим от них немало, тогда они заговорят на родном нам языке…
В 1901 году Архип Иванович открыл «тайну» только четырех своих картин. Осталось же их после него около двадцати, а кроме них – многочисленные эскизы и этюды.
Не буду давать здесь ни полного перечня, ни подробного описания этих посмертных произведений: выскажусь лишь о том, что особенно запало мне в душу, когда в опустевшей мастерской Архипа Ивановича я вглядывался в эти детища старого художника, так долго лелеянные им…
Меня сравнительно мало волновали картины, принадлежащие к той категории, которую я назвал бы продолжением опытов «светоподражания»… Огромный «диапазон» могучей светотени, горячие солнечные пятна или яркий, но «обманчивый», мистический свет луны, – все это, конечно, и интересно, и передано с огромной «варварской» силой… Но ни хатки «Малороссийского вечера», ни эскиз «Лунная ночь», ни «Христос в Гефсиманском саду», ни незаконченные повторения знаменитой «Ночи на Днепре» (как ни великолепна река, несущая свои залитые светом воды) не увлекли меня, не затянули в глубину замысла и настроения художника…
Вот картина «Красного заката» с прорвавшимся сквозь темно-пурпурную тучу снопом солнечных лучей, – эта вещь уже дала какое-то новоеощущение, чем-то значительным подарила… Глаз эта картина не радует, «красивость» в ней совсем, на мой взгляд, отсутствует… Но какую-то огромность, какую-то расходящуюся в бесконечностьстихию дают почувствовать и эти параллельные прямые линии: горизонта, речных берегов, нижнего края тучи, и эти расходящиеся под углом два луча, и эта громоздкая, густая туча, и светящееся за нею облако, длинным зигзагом исчертившее небесный свод [38]38
Я вижу здесь такую же символическую стилизацию, какая виделась мне в иных миниатюрных картинах-рисунках покойного Чурлениса или в тех «космогонических» рисунках Юона, которые так выиграли воспроизведенные в маленьком виде в «Аполлоне»…
[Закрыть]…
Отмечу, как новостьв Куинджи, по сравнению с прежними его вещами, огромную роль, какая отведена у него в этой композиции форме,впечатляющей линии, – графическойстороне композиции… Из серии «светоподражательных» мотивов этот предерзостный «Красный закат»представляется мне наиболее значительной вещью…
Гораздо более мне по душе картины другой – тихойкатегории…
Незаконченная картина «Ночное»(с намеченными фигурами пасущихся лошадей) полна истинной поэзии. В ней есть какая-то широкая гармония – гармония чарующих предрассветных сумерек на юге, над спокойной гладью многоводной реки, которая так «лежит», так уходит от зрителя вдаль, так мирно отражает стыдливо-робкий свет лунного серпа… Какой-то истомой и широкой грустью веет от всей картины. Прекрасно переданы прозрачность неба и впечатление далей и – как везде у Куинджи – «пространство»…
То же обладание пространством,такое же – и еще большее, пожалуй, – обладание перспективой воздуха чувствуется и в таких картинах, как «Волга»(эта вещь, к сожалению, подверглась особенно сильной переработке) и «Днепр»(почти повторениекартины, хранящейся в Третьяковской галерее)…
«Закат в степи»– изображает широко раскинувшуюся степь… Туманный, росистый солнечный заход: солнце багровым шаром смотрит из сизой тучи; вдали над рекой вздымается ветрянка… Тяжелая (может быть, чрезмерно тяжелая) туча на фоне верхней части неба подчеркивает глубину небосклона, усиливает «призрачность» земли, уже погруженной в полумрак, уже подернутой пеленой тумана, который особенно ощутителен над рекой, теряющейся в лиловых далях горизонта… И опять настроение глубокой грусти и гармония какой-то тихости,созерцательного успокоения…
Та же гармония, тот же аккорд звучит для меня даже в очаровательном солнечном деньке, изображенном в «Облаке», – как ни радостна чистая и густая лазурь, среди которой клубится это излюбленное художником – «куинджиевское облако» – вертикально ввысь поднимающееся, светящееся, пышное: тихая, созерцательная грусть реет под этим облаком над светло-зеленой равниной, подернутой легкими тенями, задумчиво убегающей от зрителя в голубую даль…
« Радуга»– начата еще в 80-х годах, одновременно с «Малороссийским вечером»… Зеленая равнина-поле между двумя отлогими, ровными, как валы, холмами; на правом холме – хуторок: типичный малороссийский ландшафт… Солнечный свет, пробившись сквозь облака, ударил в склон холма почти в центре картины, и она светится только тут: все остальное на земле – в полутени… А по небу громоздятся тучи; справа еще не кончился ливень, и его длинные, чуть косвенные, темные полосы спускаются с самого верха и донизу… В небе (посредине – на фоне оранжевых, светлых облаков, а по правую и левую сторону – на фоне темной буроватой тучи) сияет широкий мост радуги: тона ее удивительно чисты и легки… Черная, еще затянутая нитями дождя даль дает импрессионизирующее мрачное пятно…
Те новыеу Куинджи элементы его творчества, о которых я заговорил по поводу «Красного заката», —элементы стилизации линий и форм, – обнаруживаются и в картине «Дубы»:группа могучих деревьев стоит от зрителя против солнца – тяжелым, мощным силуэтом и направляет густую тень на первый план… За силуэтами, по ясному небу бродят легкие, светящиеся облака, подчеркивая «друидическую» мощь темных гигантов-дерев…
В высшей степени импрессионистиченнебольшой эскиз «Сумерки»: массивный, весь во мраке холм; едва виднеются вздымающиеся по нему дорога и тропки; черные силуэты хат фантастической грудой растянулись по вершине холма и резко делятся на фоне еще не совсем погасшего неба; кругом бродят тучи, под одной из которых повис серп луны… У края дороги, близ первого плана, покачнувшийся крест усиливает символизмпейзажа и вкладывает лишний штрих в настроение какой-то тяжелой, пожалуй, мистической, беспокойной грусти… Все стилизовано в широких, тяжелых пятнах. Красочная гамма совсем «а ла Рерих», сказал бы я, если бы не боялся погрешить против хронологии…
«Туман на море»– на мой взгляд – одна из самых «больших» вещей, среди оставшихся после Куинджи… Но – увы! – именно ее художник особенно решительно подготовил к переработке, всю затерев белилами, а переработать так и не успел… Однако и в настоящем своем виде этот широкий медленный – стилизованный в прямых линиях – прибой, который посылает из своей бесконечности море, и эта безгранная масса воды, и небесный простор над нею – все, видимое сквозь туман и пелену белой краски, – производят сильное и совершенно своеобразное впечатление… И уж нигде так неуместно слово космический,как для характеристики аккорда этой вещи…

«Волга». Неоконченная картина
(Собственность Общества имени А. И. Куииджи)
«Туман на море», по-видимому, должен был дать как бы итог тех продолжительных созерцаний на берегу Крымского побережья, возле излюбленного камня Узун-таша, о которых я выше говорил… Подготовлением к итогу, «слагаемыми» его являлись десятки этюдов моря,написанных там же (некоторые из них воспроизведены в настоящем издании). В этих этюдах заметна та же линия поисков, которая в стилизованном виде ощущается в картине: Архип Иванович, по-видимому, особенно интересовался передачей ровного, стелющегося движения волны, как бы посылаемойморем из-за его верхнего края у горизонта и в бессменно-ритмическом беге устремляющейся к зрителю…
Почти столько же этюдов и эскизов посвящено горам:это – результаты кавказских поездок… Особенно много раз пытался передать Куинджи эффект Эльбруса при позднем закате, когда снежная конусообразная вершина каменной громады рдеет густыми красными тонами, а в долине бродят сизые туманы и тени: около десяти раз возвращался он к этому мотиву…
Я ограничусь этими, более нежели беглыми, описательными штрихами…
В этом беглом описании я старался подчеркнуть то основное, что мне видится в посмертных картинах Куинджи, намекает на его новые настроения и на результаты его долгих поисков…
Ближе подошел он к гармониив этих последних своих произведениях, чем во всем том, что выставлял когда-то на диво своим современникам; гораздо больше здесь – спокойной, выдержанной созерцательности и широты в концепции…
Пусть нет уже прежней молодой дерзости;пусть уже не чувствуется прежнего боевого размаха; пусть дымка какой-то грусти и даже робостиокутывает почти все написанное Куинджи в «годы молчания»: это свидетельствует лишь о глубокой духовной перемене, происшедшей за эти годы в художнике…
Но зато мне видится в иных из этих «посмертных» его картин нечто более ценное: видятся элементы гармонизирующей импрессионистической композиции…
Как бы ни любили мы наше современное молодое искусство со всеми его так интимно-дорогими нашему глазу завоеваниями, мы должны все же признать, что до широких обобщений, а особенно – до полной внутренней гармонии в трактовании действительности нашей пластике еще далеко. Как я высказывал, импрессионизм дает до сих пор преимущественно «кусочки» и «уголки» мира, дроби и фрагменты, а не целое…
Заглянув повнимательнее в самих себя, заглянув поглубже в творчество всехсовременных художников во всехобластях искусства – поэтов, музыкантов, так же как и представителей живописи, скульптуры и архитектуры (особенно архитектуры) – мы, вероятнее всего, признаем, что беда или вина, если тут есть вина, заложена глубоко: в нас самих, в нашем душевном строе, в самом нашем мироощущении… Не в том ли она, беда, и состоит, и не потому ли она роковая, сейчас неизбывная, что дисгармонично и фрагментарно у нас самое восприятие нами мира? Что мироощущение и миросозерцание наши далекиот слитности, от итогови синтезов, отсколько-нибудь стройной религии жизни?
Дисгармоничен весь уклад нашей социальной жизни: он исполнен поистине чудовищных противоречий… И ужас состоит в том, что они осознаны, что наивно-слепыми перед лицом их в наши дни уже быть невозможно. Мы – накануне каких-то огромных сдвигов, огромных социальных и идеологических обновлений… Но пути и перспективы еще мало кому ясны… И что-то мятущееся, какое-то повсюдное искание, какие-то сплошные «вопросительные знаки» – вот характеристика нашей эпохи… В этом, конечно, и не в чем ином лежит причина того грустного для всех друзей искусства явления, что современное художество не дает тех «итогов», какие давало в эпохи своего расцвета…








