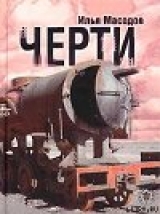
Текст книги "Черти"
Автор книги: Илья Масодов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Вот сволочь, – сказала Клава и ударила по опорной винтовке босой ногой.
Приклад скользнул о мокрый камень и Мясоруков грохнулся наземь, ударившись плечами и спиной. Он извернулся, как крокодил, пытаясь перевести непослушными пальцами затвор, и тут дерево вошло в его мертвое тело из ног, вырвало Ивану живот и выбросило из него холодное сливовое переплетение кишок. Мясоруков тяжело захрипел и закашлялся, плюясь кровью. Слышно было, как глухо лопнули его легкие, словно мокрый мешок. Откинув назад посеревшее лицо, Иван успел еще посмотреть на темную в сумерках стену Кремля, и надсадно каркнуть тревогу, прежде чем лицо его треснуло и сплошь покрылось кровью. Осторожно коснувшись застывшего Мясорукова пальцами ноги в мягкий отсыревший рукав шинели, Клава сделала вывод, что странный половинчатый клох живет недолго, быстро превращаясь в правильный, полный.
Со стороны дальней башни уже бежали серые тени, две, три, пять, насчитала Клава. Она пошла им навстречу. Скоро он могла уже различить мертвенные, сурово устремленные вперед лица бегущих, о которые с бисерными брызгами разбивался дождь.
– Взять живой! – крикнул за их спинами Комиссар.
Клаву привели в башню, и рыжеусый черт, на руке которого вытатуировано было чернилом круговое созвездие девяти звезд, обыскал девочку, грубо щупая ее сильными руками под платьем внутрь тела, не спрятала ли Клава в себе какой-нибудь тайной отметины или оружия. Клаве было больно, но она не боялась, и послушно выполняла все команды рыжеусого, залезала коленями на табурет, ложилась на него животом, садилась и широко открывала рот, до отказа высовывая язык, пока черт перекладывал ей пряди волос. Так ничего в Клаве и не нашли.
– Чистая, – коротко рявкнул наконец рыжеусый.
Комиссар сидел напротив, по ту сторону небольшого деревянного стола, покрашенного в такой цвет, какой могли бы иметь грозовые тучи, будь в них вместо воды кровь. Пустыми глазами он следил за обыском Клавы.
– Раздевайся, – глухо велел ей Комиссар.
Клава разделась и свалила тяжелое намокшее платье на табурет. На ней остался только нательный крестик.
– Повернись, – сказал Комиссар. – Убери волосы. Сядь. Не так, лицом ко мне. Вытяни вперед ноги, покажи ступни.
– Ничего на ней нет, товарищ комиссар, – тяжко проревел рыжеусый.
– Вижу, – с холодной злостью ответил Комиссар, и злость эта была бесконечно глубока, почти равнодушна. – Как же ты Мясорукова убила?
– Я слово знаю, – честно призналась Клава.
– Какое слово?
– Клох, – ответила Клава, отвернувшись в сторону. Она помнила, что Комиссар уже спас ей когда-то жизнь.
Наступила тишина. Потом, как сырое бревно, повалился на пол одеревеневший рыжеусый и тихо плеснул перед собой кровью изо рта.
– Если ты захочешь сделать так со мной, – медленно произнес Комиссар, – я раньше прострелю тебе голову.
Клава спокойно посмотрела на направленный ей в лицо пистолет.
– У девочек бывает иногда такая парная родинка, – продолжил Комиссар, – два пятнышка размером с горошину. Была у тебя такая?
– Не было.
– Дождевых червей ела когда-нибудь?
– Нет.
– Знаешь ли ты, что твои родители мертвы?
Тут Клава сразу заплакала, уткнув лицо в ладони. Она давно уже знала то, что сказал сейчас Комиссар, но только теперь поверила.
– Твою мать убило снарядом на вокзальной площади, один осколок снаряда попал в голову, вот сюда, возле носа, два осколка – в живот, тут и тут, – Комиссар ткнул отставленным большим пальцем себя ниже груди, – еще один перебил локоть. Потом ударом о землю ей сломало позвоночник. Что касается твоего отца, он попал в плен месяц назад. Его судили полевым судом, как белого офицера, отрубили ему шашкой руки, а потом пристрелили: из винтовки – в рот.
Клава плакала, сидя голая на табуретке под висящей открытой лампой, поджав ноги, плечи ее дрожали от судорог рыданий.
– Ну, что ты теперь хочешь? – спросил Комиссар. – Умереть?
– Нет, – еле слышно сказала Клава. – Я должна видеть Ленина.
Клава вымылась с мылом в бане, расчесала себе волосы и оделась в новое, казенное платье: белую рубашку, кофту и черную юбку до колен. Колготок не было, но Клаве выдали вместо них портянки, и даже нашли сапоги, которые, хоть и были немного великоваты, все же не спадали так запросто с ног. Потом ее напоили чаем с сухарями и кусочком сахара. Клава как раз, жмурясь от пара, дула на стакан с раскаленным чаем, когда вошел Ленин.
Он был в расстегнутом пиджаке, руки держал засунутыми в карманы брюк, так что пиджак расходился назад, зажатый локтями, и открывал пуговицы сорочки на подтянутом животе. Вид у Ленина был веселый, словно в коридоре Кремля его только что кто-то рассмешил. Искрясь этим смехом, он торопливо подошел к привставшей ему навстречу Клаве и протянул ей вынутую из кармана руку.
– Ульянов, Ленин, – мягко сказал он, весело щурясь, словно и фамилия была у него какой-то смешной.
– Орешникова, Клава, – ответила Клава и робко сунула свою лапку в теплую и плотную ленинскую ладонь.
– Ну, если ты – Клава, значит я – пгосто дядя Володя, – махнул рукой Ленин. – Как наши сухаги? Не очегствели еще вконец? Тут сам уж чегствеешь, хуже сухагя. А что же ты, Наденька, так мало сахагу ей дала? Это не годится.
– Так ведь мало и есть, – возразила невысокая темноволосая женщина, наливавшая Клаве чай. – По куску на человека.
– На человека – по куску, а на детей – по два, – быстро ответил Ленин, снова сунув руку в карман и, хитро прищурившись, по-воробьиному свернул голову набок. – Если у нас дети сахаг есть не будут – ггош цена всей геволюции. Да, именно так, ггош цена. Для чего мы тогда, спгашивается, всю эту кашу завагивали? Ну да ладно, чегт с ним, с сахагом, – Ленин присел на табурет и сложил руки на коленях, внимательно глядя на Клаву. – Давай, Клава, гассказывай. Как тебе живется?
– Плохо, – созналась Клава. – Маму с папой убили, и сестру Таню.
– Ты, значит, сиготка, – тихо произнес Ленин, сочувственно вздохнув. – Да, вгемя сейчас такое, что поделаешь, война. Полстганы у нас сиготы. Я ведь тоже годителей потегял, и сестгу, и бгата. Но вот если мы с тобой будем дгужить, нам будет веселее.
Клава невольно улыбнулась, глядя в ласково искрящиеся глаза Ленина, и Ленин тоже улыбнулся, пододвинув к себе стакан с дымящимся чаем.
– А ничего, что я такой стагый? – засмеялся Ленин. – Будешь со мной дгужить?
– Так ведь вас убить хотят, – сообщила вдруг Клава.
– Газве? – смешливо изумился Ленин, отхлебнув чаю, словно не верил, что его вообще можно убить. Темноволосая женщина, которую Ленин назвал Наденькой, подсела к столу, молча, насуплено следя за Клавой. Но глаза у нее были не злые, просто очень усталые.
– Хотите, я вам наедине расскажу? – застеснялась ее Клава.
– Это моя жена, Надежда Константиновна, – сказал Ленин, переставляя свой кусочек сахара к стакану Клавы, как шахматную пешку. – От нее никаких госудагственных тайн. Ну, и кто же меня гешил уггобить?
– У него лица нету, – выдавила из себя Клава. – Он монашку посылал, ту, что стреляла.
– Куда стгеляла?
– В вас.
– В меня эсегка Каплан сгеляла, – заметил Ленин. – Она никогда в монастыгях не была. Или была, как ты думаешь, Наденька?
– Не была, – тихо ответила Надежда Константиновна.
– Вот, – победно прихлебнул чаю Ленин. – А насчет человека без лица, так мы его отыщем. Никуда он не денется. Газ есть человек, лицо должно быть, неминуемо. Скгывать свое лицо – нехогошо. Газбегемся и накажем. Все что ты пго него знаешь, расскажешь у товагища Дзегжинского.
– Устиньей монашку звали, Устиньей Щукиной, – вспомнила Клава.
Ленин поставил стакан на стол.
– А вот это – пгавда, – тяжело промолвил он в наступившей тишине.
Надежда Константиновна двинула руками по столу. Клаве сдавило голову неизвестной, колодошной силой, так что она чуть не свалилась на пол в беспамятстве.
– Не хотелось беспокоить тебя, Наденька, – сказал Ленин. – Ей гожу клещами погвали, чтобы никто не узнал. Щукина Устинья Хагитоновна, монашка Покговского монастыгя. Умегла в тысяча восемьсот тгидцать восьмом году.
– Божье бешенство, – вязко прошептала Надежда Константиновна.
– Это дело сегьезное, – придвинулся к Клаве Ленин. – Откуда ты Устинью знаешь?
– Я видела все, как было, – сказала Клава, которой уже сделалось жутко. – Как ее из гроба подняли, и как она семечки на скамейке ела, и как револьвер забрала у комиссара Малыгина.
– Все точно, – подтвердил Ленин. Надежда Константиновна сдавленно застонала.
– Там были люди с выжженными узорами на щеках, а еще один был главный, совсем без лица, у него рука, как звезды, горела. И он не говорил – ревел.
– Это Хозяин, – сказал Ленин, устало опустив веки.
Клава посмотрела на Надежду Константиновну. Та сидела, побледневшая до зелени. Лицо Клавы покрылось мелкой испариной, она взялась обеими руками за горячий стакан, чтобы не замерзнуть до обморока.
– Он идет в Москву, – еле слышно произнесла она. – Он хочет все на свете сделать трупной рвотой.
Ленин вдруг вскочил с табуретки и заходил по тесной комнатке взад-вперед, опять засунув руки в карманы.
– Безобгазие! – возмущенно крикнул он спустя несколько секунд. – Фогменное безобгазие! Тгупная гвота, понимаете ли!
Надежда Константиновна сидела молча, опустив голову и закрыв глаза подпирающей лоб музыкальной рукой. Клаве стало ее жалко, но она боялась что-либо сказать.
– Нет вы поглядите, поглядите, – вдруг остановившись, крикнул Ленин, выбросив руку с раскрытой вверх ладонью к пустой стене. Клава поглядела, куда он велел, но там ничего не было. Ленин потряс рукой, глядя в пустоту. – Какая гедкостная сволочь! Пгосто скотина!
Он стремительно подошел к двери и рывком распахнул ее настежь.
– Немедленно созвать заседание ВЦИК! – крикнул он в коридор. Там забегали, застучали сапогами. – Мы не собигаемся сдаваться, – серьезно повернулся он к Клаве. – Геволюция должна уметь себя защищать. У нее должны быть когти, клыки. И даже, если необходимо – гога!
Клава видела, что глаза Ленина снова засветились веселой уверенностью. «Он обязательно придумает что-нибудь», – подумала Клава. Смог же он перевернуть огромную Россию, поразить всех своих врагов, пережить страшный удар Устиньи Щукиной, которого никто бы не пережил.
На заседание ВЦИК Клаву повезли в автомобиле Ленина. Она никогда еще раньше не ездила в автомобиле, и сидела смирно, боясь пошевелиться. Ленин всю дорогу молчал, только нервно ерзал по кожаному сиденью. Надежда Константиновна пыталась дать ему выпить какого-то порошку, но Ленин отмахивался, делая вид, что сосредоточенно смотрит в окно. За окном опять шел дождь.
Заседание проходило в небольшой тайной комнате с единственным столом, накрытым синей скатертью. Посреди стола стояла лампа под матовым абажуром. Стены комнаты обклеены были знаменитыми индиговыми обоями с рельефным рисунком. Что было в точности изображено на обоях, Клава разобрать не смогла, но заметила во многих местах также столбцы непонятного текста, буквы в нем были рисованными, среди них Клава различала иногда фигурки птичек, рыбок и насекомых.
В комнату вел узкий темный коридор, по стенам которого проделаны были пустые дыры, и Ленин в начале коридора показал Клаве действие этих дыр: попросил у Надежды Константиновны револьвер и выстрелил в темноту. Из стен мгновенно хлынул огонь, затопив собой примерно на минуту все пространство коридора. Возвращая жене револьвер, Ленин выглядел очень довольным.
– И муха не пголетит, – веселился он. – Только с такой штуковиной, – он вынул из кармана обычный карандаш и показал его Клаве. – А штуковины такие есть исключительно у членов ВЦИК. Это товагищ Тгоцкий пгидумал. Золотая все-таки голова!
Проходя коридором, Клава боязливо жалась поближе к Ленину, вцепившись рукой в полу его пиджака. В тайной комнате уже сидел один человек, он наклонился над столом и что-то быстро писал в блокноте.
– Товагищ Огджоникидзе, – представил его Ленин, занимая место во главе стола. – Ну, что новенького? Вгангеля еще не поймали?
– Убежал, Владимир Ильич, – с легкой улыбкой ответил Орджоникидзе.
– Ну ничего, мы его и за гъаницей достанем. Слава богу, хоть с этим пока газделались. И так дел невпговогот.
Они еще что-то обсуждали, но Клава ничего не понимала. Постепенно сходились остальные тайные члены ВЦИК. Когда пришел Троцкий, Ленин предложил начать заседание.
– Не будем Калинина ждать, – деловито сказал он. – Пговегенный, вегный товагищ, но в смысле опегативности – подводит. Самый настоящий козел.
Все по-доброму рассмеялись.
– Однако шутки в стогону, – оборвал общий смех Ленин. – Повод для нашего внеочегедного собгания – агхисегъезный. Вот, Клава Огешникова нам сейчас обгисует ситуацию.
Клава встала со стула, как в гимназии, чтобы отвечать урок. Сперва она очень волновалась, и не знала даже, с чего начать, но потом постепенно рассказала все, что видела и знала. Члены ВЦИК слушали Клаву внимательно, не перебивая, некоторые делали заметки, и лишь Троцкий дважды прерывал Клаву, чтобы уточнить кое-какие детали. Как только Троцкий тихо приподнимал руку, показывая, что хочет задать вопрос, Клава замирала на полуслове. Этот человек в пенсне, с густой шевелюрой и расстегнутым воротничком рубашки внушал Клаве страх и уважение. Она чувствовала его силу, может быть, не меньшую, чем сила Ленина, только Ленин был веселый и добрый, а Троцкий какой-то неизвестный, чужой. Спрашивал он вежливо, даже с мягкостью и теплотой, но Клава не могла определить, как он относится к вопросу на самом деле, она сбивалась и говорила подчас совсем не о том, о чем был вопрос, Троцкий же смотрел на нее внимательно, и, как казалось Клаве, не столько следя за смыслом ее слов, сколько за движениями рта, словно по этим движениям Троцкий читал какой-то иной, самой Клаве неведомый смысл. Еще Клаву пугало, как Троцкий писал на лежащем перед ним листке. Буквы были, похоже, такие же, как на индиговых обоях, только скорописные, сидящие птички сплетались друг с другом, а рыбки превращались в короткие росчерки, и пишущая рука Троцкого с золотым кольцом двигалась часто в обратном направлении, а иногда вообще сверху вниз.
Когда Клава окончила, то уже вся сплошь была в поту и ничего не соображала. Она села на свой стул и была счастлива, что ей уже больше не надо ничего отвечать.
Первым выступил Зиновьев. Он поднял вопрос о пуле, разбившей сердце Ленина, как проблеме государственной значимости, и даже обвинил Владимира Ильича в сокрытии истинного состояния своего здоровья от товарищей по партии. Его поддержал Каменев. Он предложил санкционировать безотлагательный медицинский осмотр Ленина лучшими врачами страны. Все согласились, только Ленин был недоволен.
– Згя тгатим вгемя, – отмахивался он. – Чегт с ней, с пулей, я совегшенно здогов.
Потом взял слово Троцкий. Он говорил непонятно для Клавы, но все слушали очень внимательно, и многие согласно кивали. В середине речи Троцкого Ленин воодушевленно вскочил со стула и крикнул:
– Вот-вот, замечательная мысль! Что же мы ганьше не додумались? Век живи – век учись!
А Клава поняла в замечательной мысли Троцкого только то, что он предлагал что-то построить, судя по всему, что-то огромное и святое. И у Троцкого был уже план строительства, он выдвинул на середину стола чистый лист бумаги, и стал на нем чертить, надписывая элементы чертежа странными, нечеловеческими словами. Все члены ВЦИК склонились над чертежом, Клава же постеснялась туда смотреть из уважения к государственной тайне, все равно ведь ничего не пойму, думала она.
– Ну хогошо, – наконец сказал Ленин, все еще изучая чертеж. – Это, так сказать, обогона. А где же контгнаступление? Лучшая обогона – это контгнаступление!
Зиновьев выступил против наступления, он сказал, что еще рано. Его поддержал Каменев, предложивший составить подробный план подготовки соответствующих сил. Ленин был несогласен.
– А ты что скажешь, товагищ Тгоцкий? Сколько у тебя уже людей?
– Людей достаточно, – ответил Троцкий. – Но числом тут проблему не решить. Враг необычайно силен.
– А не пегеоцениваем ли мы часом силу вгага? – склонив голову набок, хитро прищурился Ленин. – Нет ли здесь ошибки? Не может ли статься, что пегед нами – колосс на глиняных ногах? Вот что, товагищи, тут необходимо пговести сегьезнейший анализ. В этом суть магксистского метода: где дгугой бьет с газмаху, мы должны спегва понять пгичину, найти слабое место и удагить именно туда, пгицельно и точно.
– В том-то и дело, Владимир Ильич, – мягко заметил аккуратно постриженный рябой человек с усами. – Мы корней его силы не знаем.
– Пгавильно, товарищ Сталин, – подтвердил Ленин. – Не знаем когней. Это – плохо.
– Похоже, классовая теория тут дает сбой, – заметил Зиновьев.
– И правда, чьи классовые интересы защищает этот так называемый Хозяин? – поддержал его Каменев.
– Дело не в этом, – уверенно ответил Ленин. – Не теогия ошибочна, а наше понимание ее. Я полагаю, понятие классовой богьбы нам еще пгедстоит всемегно углублять и гасшигять. Жизнь постоянно пгеподносит сюгпгизы. В космических масштабах классовое пготивостояние несомненно пгиобгетает иное качество. Наша геволюция закономегно погождает сильное пготиводействие, товагищи, как всякий пгогъесс. Пгигода этого пготиводействия, эта инегция матегии, пока скгыта от нашего научного згения. Нельзя все пгедугадать, товагищи, к сожалению, нельзя.
– И все же, – попытался уточнить Орджоникидзе. – Научный подход тут должен быть возможен.
– Несомненно, товагищ Огджоникидзе! – согласился Ленин. – Как всякая инегция, этот пгоцесс погожден самим действием, пгеобгазующим матегию, то есть, погожден самими нами. В нас пгичина, товагищи. Возможно, мы где-то опять допустили ошибку, где-то не туда свегнули, пошли не тем путем. Это нужно сегьезно пгоанализиговать. В любом случае я нахожу пгоект товагища Тгоцкого очень полезным. Какое будет мнение, товагищи?
– Проект хороший, – сказал Зиновьев. – Однако прошу обратить внимание, что для его реализации потребуются значительные ресурсы, а их и так не хватает.
Его поддержал Каменев.
– Я думаю, ресурсы мы найдем, – возразил Сталин.
Проголосовали за проект Троцкого. Все были за, кроме Зиновьева и Каменева, которые воздержались. Клаве понравилось, как они дружат, во всем поддерживают друг друга. «Это счастье – постоянно иметь рядом друга», – подумала Клава. Она вспомнила о мокрой, неизвестно где идущей под дождем маленькой Варваре, и слезы, неподходящие к величию окружающего собрания, навернулись ей на глаза.
– А это правда, что у вас есть сын? – шепотом спросила Клава у Ленина в автомобиле, по пути в Кремль.
– Пгавда, – склонившись к ней, еле слышно ответил Ленин. – Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Вы с ним, навегное, свегстники. У него совсем мало дгузей, потому что он не может ходить.
– Почему не может? – спросила Клава.
– Ног нету, – грустно сказал Ленин. Надежда Константиновна тяжело вздохнула. – Будешь дружить с мальчиком без ног? – спросил Владимир Ильич.
«Что за судьба», – вздохнула про себя Клава. «Один без головы, другой без ног». Но вслух она ответила:
– Это не важно, есть у человека ноги и нет. Важно, чтобы он был хороший.
Ленин не ответил, он только прислонил к себе Клаву и погладил ее по голове. Клава обняла Ленина и прижалась щекой к его груди. Ей было горько за несправедливость: у человека, который так любит детей, только один на свете сын, да и тот без ног. «Стану Ленину вместо дочери», – решила Клава. «Все равно у меня отца расстреляли. А Варвара пусть будет дочерью своего Бога. Ленин лучше, он добрее».
– А как его зовут? – спросила Клава.
– Ваней, – тихо сказал Ленин. – А хочешь, пгямо тепегь к нему и поедем?
– Давайте, – согласилась Клава.
– Ну что ты Володя, зачем, – обеспокоилась Надежда Константиновна. – Девочка устала, она, наверное, спать хочет.
– Нет-нет, я нисколечки не устала, – заверила ее Клава, хотя ей и вправду очень хотелось спать. – Давайте поедем.
– В Гогки! – велел водителю Владимир Ильич, заметно повеселев.
«Страшный», – вспомнила Клава одинокое Варварино слово.
В Горках осень была уже при смерти. Бурые листья на деревьях прогнили до черных костей и обвалились на землю, шурша под шинами автомобиля, как бумажный ковер. Солнце не открывалось на небе, а жило где-то за границей пасмурных облаков, в ясной, свободной пустоте. Кругом застыла тишина, которая может существовать только в тех местах, где нет ничего живого. Ничто не шевелилось в молчании намокших от дождя ветвей.
Ваня Ульянов сидел в кресле, к которому приделаны были колеса, чтобы мальчика можно было катать по дому и вывозить на веранду. В комнате было темно, хотя уже наступило утро: холодные тучи пропускали слишком мало света. Ваня Ульянов действительно был страшен: настолько бледен, что кожа его казалась сделанной из плесени, а глаза его смотрели все время одно и то же место. Клава сперва даже подумала, будто он мертв, что ее привели к трупу, что Ленин и жена его от горя просто позабыли, как давно уже умер их сын, и по-прежнему ищут для него друзей. Но Ваня пошевелил рукой, когда Ленин подвел к нему Клаву, хотя смотреть на нее не стал, ему, видно, было все равно, какая она.
Ленин посидел немного на плетеном стуле и уехал в Москву, где назначено было важное совещание, а Надежда Константиновна пошла вглубь дома готовить чай, оставив Клаву и Ваню наедине. Ваня молчал и неподвижно глядел за окно, а Клава прислушивалась, пытаясь различить звук его дыхания, но никак не могла. Тогда она тронула восковую руку Вани, лежавшую на ручке кресла. Рука была холодной, как остывшее молоко, но живой.
Потом пили чай, а Ваня сам пить не мог, его поила Надежда Константиновна из ложечки. Пришла еще какая-то женщина, худая, темноволосая и с морщинами у глаз. Иногда она улыбалась словам Надежды Константиновны и экономно ела к чаю лежащий на столе хлеб. Надежда Константиновна сказала, что это сестра Владимира Ильича, Мария. Клаве сделалось очень тоскливо и к тому же холодно у открытого окна, она обхватывала ладонями стакан с чаем, чтобы согреться, и рассматривала корешки расставленных на полках книг. Ваня вскоре просто уснул, тихо опустив веки, рука его упала с перил, и голова съехала чуть набок. Надежда Константиновна заботливо поправила ему подушку под головой и бесшумно принялась собирать со стола.
– Ты у нас останешься, или в детский дом хочешь? – шепотом спросила она Клаву.
– У вас останусь, – ответила Клава. – Если можно.
– Мы были бы очень рады, – ответила Надежда Константиновна и впервые на памяти Клавы улыбнулась.
Так Клава и осталась жить в Горках. Надежда Константиновн уехала вслед за Лениным в Москву, и Клава теперь помогала Марии Ильиничне по хозяйству: подметала комнаты и перебирала книги в шкафах, вытирая с них сырой тряпочкой пыль, это можно было делать даже в кабинете, где изредка работал, наезжая в Горки, сам Владимир Ильич. Там все книги были потрепанные, зачитанные, а если открыть какую-нибудь – везде почерченные карандашом. На письменном столе Владимира Ильича всегда лежало несколько стопок книг, и еще несколько раскрытых томов, также разложенные листы рукописей, все одно на другом, но в каком-то непостижимом порядке, который Клава страшилась нарушить, а потому старалась каждую книгу положить на то же место, где она лежала, чтобы Ленин мог по приезде сразу продолжить прерванную работу. Когда он появлялся, в Горках бывал настоящий праздник. Повсюду зажигался свет, за столом гостиной, покрытым шершавой скатертью, подолгу пили чай, Надежда Константиновна, приезжавшая вместе с Лениным, играла на пианино. К чаю бывали кислые сухари, а иногда пряники или колбаса, один раз Владимир Ильич привез даже конфеты, пусть не такие вкусные, какие Клава ела в детстве, но все же шоколадные, с орешками внутри. Сам Ленин старался пораньше встать из-за стола, чтобы уйти в кабинет поработать, однако все продолжали ждать его к вечернему чаю, какого в обычное время не пили, только с его приездами. Чай этот происходил почти уже ночью, было очень весело и интересно, как под Рождество. Ленин рассказывал всякие смешные истории и играл с детьми в загадки, загадки он часто придумывал сам, да и наизусть он знал их множество. Нередко вместе с Лениным приезжали и другие товарищи, несколько раз был Троцкий, которого Клава отчего-то стыдилась, и не знала, что при нем говорить, зато Троцкий очень забавно показывал фокусы, со сложенными бумажками, ножницами и коробочкой, все было так просто, а ни за что нельзя было понять, как он это делает. Все смеялись и шутили над этими фокусами, Владимир Ильич называл Троцкого обманщиком и шельмой, а Клава как-то потихоньку заглянула в коробочку, когда никто не видел, но ничего там не нашла, а ведь она сама видела, как Троцкий положил туда два бумажных шарика, и больше их не вынимал.
Один только Ваня не участвовал во всеобщем весельи, первые дни Клава даже думала, что он вообще ничего не понимает, потому что Ваня не отвечал, когда она с ним заговаривала, и по-прежнему даже не смотрел в сторону Клавы, будто ее и не было на свете. На третий день Клава подглядела в приоткрытую дверь, как Мария Ильинична принесла Ване судочек и сняла с него подвернутые штаны, потому что ног у Вани не было не совсем, а только до коленей. Подставив судочек под кресло, Мария Ильинична села к Ване спиной на стул и стала ждать, она ждала долго, а Ваня словно спал с раскрытыми глазами, и ничего в судочек не делал. Наконец Мария Ильинична устала ждать, убрала судочек и опять надела на Ваню штаны, и тут он описался. Мария Ильинична расстроилась, рывком развернула кресло и заплакала, покатив его к гардеробу. Клава вышла из-за дверей и стала ее утешать, а Ване сказала, что он бесстыжий, только делает вид, что ничего не понимает, и носись тут с ним. Мария Ильинична настрого запретила Клаве ругать Ваню. Клава замолчала, но через два часа, когда покатила его на веранду дышать воздухом, сказала ему, что он всем надоел своим молчанием, и вообще надоел. Тогда у Вани потекли слезы, и он хотел отвернуться от Клавы, чтобы она их не видела, а Клава принесла стул, присела около Вани и стала вытирать ему слезы платком и читать ему книгу. Книгу читать Ване Клава придумала сама, и книгу ему тоже сама нашла в книжном шкафу, автор был Ф.Энгельс, а названия Клава никак не могла запомнить. Она полагала, что это вовсе и не важно, какую книгу Ване читать, лишь бы читать что-нибудь, чтобы он не спал и не смотрел непрерывно в одну точку. Однако на этот раз Ваня во время чтения заснул, наверное, утомившись от плача, и Клава перестала читать, сложила ему руки на живот и поцеловала Ваню в щеку. Лицо у Вани было невкусное, какое-то твердое, а из приоткрытого рта дурно пахло.
«Ну что за урод такой», – подумала Клава и решила вечером обязательно почистить Ване зубы порошком. В ванной комнате были ведь зубные щеточки и мятный порошок в картонной коробке. Ваня бездыханно спал, повернутый лицом в парк. Дождь, собиравшийся еще с утра, все не шел, а прилетавший ветер был попросту морозным. Клава сбегала в комнату и принесла плед, которым накрыла Ваню поверх сложенных на животе рук, подвернув плед под неподвижное тело. У нее получилось неловко, Ваня очнулся, он тут словно впервые заметил Клаву и вдруг улыбнулся ей, еле-еле, недолгая, смутная улыбка эта измучила его лицо даже до какого-то страдания.
– Тут не холодно, – сказал он, очень тихо, но Клава, привыкшая все время прислушиваться в Ваниному дыханию – не умер ли он, прекрасно расслышала его слова.
– Да ты сам-то холодный, как лужа, – ответила она. – Может, тебе чаю сделать?
– Не надо… чаю, – слабо ответил Ваня. – Посиди со мной.
– Да я все время с тобой сижу, – не унималась Клава. – А ты все молчишь и молчишь. Я вот тебе и книжку читала, а ты уснул.
– Снег, – произнес Ваня. – Пошел.
Клава обернулась и увидела, что действительно пошел снег, легкий и редкий, словно он не был, а только казался иногда.








