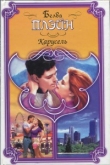Текст книги "Карусель (Рассказы)"
Автор книги: Илья Крупник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Завыла за спиной сирена "скорой". Он оглянулся и сразу завернул за угол дома.
Он шел по какому-то переулку вниз. Сворачивал, снова сворачивал. Наконец начал подниматься куда-то вбок, вверх. Стало отчего-то опять много людей. Навстречу шли, кто-то перегнал. Мальчишка вдруг выскочил из ворот, наскочил на него.
Тихого места не было, хотя совсем стемнело. Ноги больше не шли. Сесть. Надо сесть.
За что?! Колесо прошло в сантиметре, даже меньше от его сандалет. Проклятая. Костлявая...
Маленький сквер. Скамейки. Но всюду сидят.
Он пошел наискось. Вот свободная, почти в кустах. Положил рядом пакет с больничным барахлом. Синяк, наверное, на левой руке над сгибом, куда вцепилась (какая сила была невозможная!).
Надо уходить. Не к Антошке, к себе. Скорее...
Он все гладил правой ладонью то место на левой руке.
Когда добрался до больничных ворот, они были замкнуты на ночь на цепь. Он двинулся вдоль решетчатой ограды к боковым воротам. Он шел, шел вдоль решетки. Боковые ворота, он дергал их, были заперты.
Теперь он шел медленно, очень медленно и смотрел вниз: может, подкопано где-то, кто-нибудь пролезал ведь под оградой... Фонари светили бледно, очень редкие.
Вон, скорее всего. Он раздвинул мятый бурьян, нагнулся. Наверное, это был собачий лаз, такой узкий и маленький.
Тогда он стал на колени, прикинул, лег на живот. Совсем вжался в землю, как небольшая, наверное, эта собака, просунул голову, толкнул вперед целлофановый пакет и пополз.
Концы решетки врезались ему в спину, он осторожней, извиваясь, подвинулся вперед, разгребая, как собака, землю. Не сдавайся... Не сдаваться? Нельзя сдаваться.
И отполз назад. За что?.. Никто не поможет. Не сдавайся. Не сдаваться, слышишь!..
Снова по-собачьи пополз вперед.
Весь ободранный спереди и сзади, словно концы решеток полосами изрезали ему спину, он ткнулся, задыхаясь, лицом в развороченную, с сухими комками землю. Наконец подтянулся с трудом на локтях, высвобождая из-под решетки ноги. Он лежал теперь в больничном дворе на боку, согнув ноги в коленях, ждал, когда успокоится грохот в голове, в ушах, в груди, разрывающий сердце.
Потом вытащил из пакета больничное под тусклым фонарем: штаны и пижамную куртку. Надо переодеваться. Штаны и куртка были полосатые, он впервые подумал об этом, скривившись, – словно на концлагерных снимках. Вдалеке мелькнул и ударял все ярче, приближаясь, фонарик, сильный, как прожектор. Но он уже был одет в больничное. Человек в десантно-пятнистой форме – луч фонарика то описывал круги, а то утыкался в землю – шел, немного покачиваясь, к нему. Пьяный, что ли?.. Сторож? Охранник?
И, стискивая зубы, встал, выпрямился, чтобы не сидеть бессильным на земле.
Человек – от него действительно попахивало водкой – осмотрел его, подойдя чуть не вплотную, поводя снизу вверх лучом.
– Значит, выздоровел. Из терапевтического? В самоволку ходил? – Голос, странно, был не молодой, а старческий. – Да не дрожи ты, малый, это я у сына форму взял, чтоб сподручней, – хихикнув, объяснил, как своему, сторож. – Ну что, кинул палку Марухе, а? Иди, иди, не заблудись. – И посветил фонарем. – Вон терапевтический.
Он долго стоял у стены чужого корпуса, слушал, как уходит, что-то бормоча, сторож.
Потом, держась за стену, – только б не упасть, – перебирая руками, завернул к себе, в ортопедическое, в хирургию.
* * *
Почему ж теперь он знал точно, что умирает?
Не боль в ногах, ее можно терпеть, еще терпеть, а от непонятного забытья.
Он выныривал оттуда, но на минуты только, и проваливался. Слишком, оказывается, долго не приходит он в себя после наркоза, после операции.
Когда открывал глаза, то видел врачей. Они стояли, наклонясь, двое. Нет, Саморукова больше не было. Эти стояли, хирурги.
Один был Дмитриев, другой – Егоров. Но почему Дмитриев был такой сутуловатый, неопределенных лет и такой же гладко-седой, с таким же пробором?.. А у Егорова были большие и даже теперь как будто ироничные черные глаза?
Однажды – вечером это, ночью? – он увидел, как нянечка, врачи ее звали Анусей, пыталась снять его боль. Она-то думала, что он спит.
Она отвернула его одеяло и, нагнувшись, шепча непонятное (по-татарски, что ли), едва не касаясь ладонью, водила в воздухе вдоль обвязанных, забинтованных его ног. Доходила до пальцев, там, где под бинтами пальцы, и отбрасывала что-то в сторону, прочь, отмахивала ладонью изо всех сил. Что отмахивала...
Не проходило забытье.
То музыка была далеко какая-то, то сны вроде, люди были, но не запоминалось.
Зато так четко вдруг пришло, как в воскресенье вечером, никаких врачей в отделении, понятно, не было, он на Антошкиной машине с Антошкой перед самой операцией ездил к себе домой.
Вава к нему ни разу не приходила. С того дня, первого, как звонил из больницы и все объяснил, телефон у нее не отвечал. Или вдруг трубку вечерами брал курский "братец", но после "але" молча слушал и на полуслове отключался молча. Антошка сказал, что, когда он сам звонил, было то же.
Машину Антошка остановил, не доезжая до дома. Бабки в платочках, вечные как будто, сидели на своих лавочках у третьего подъезда, у второго, и, как говорил Антошка, пока дойдешь до своего, до первого, хоть какая будет информация. Да и ставить машину под своими окнами было ни к чему.
Все бабки смолкли сразу, уставились, прищурясь, но не на Антошку, на него.
– Добрый вечер, – он кивал в сторону бабок, хотя лиц не различал.
– А-а, здравствуй, здравствуй. Что, на девятый день идете? Это они Савельевну помянуть. – Бабки переглядывались.
"Умерла уже Манюня", – понял он.
Но у своего первого подъезда сидела одна только Анисья, опираясь на палку, и жену его она чего-то давно не видела.
– Там живет какой-то, – шепотом сказала Анисья. – Мужчина ходит, очки на носу толстые.
Они поглядели на окна, свет там не горел.
Он вынул из кармана ключи от квартиры и первым, за ним Антошка, вошел в подъезд.
Его ключ к дверному замку не подходил: замок явно был другой, замененный.
Совсем непонятно было: если это действительно девятый день с тех пор, как Манюня умерла...
Он лежит на спине на кровати, приподнятой на винтах, боль не затихала. Антошка намекал, что это никакой не "двоюродный братец", да и у самого тоже ведь давно закрадывалось, но только где она, Вава?..
Он закрывал от боли глаза, и лезла в голову газетная статья какая-то о людоеде, который поедал потом своих любовниц.
Теперь он видел ясно застеленную чем-то белоснежным, а уже в пыли кровать со спинками, огороженную, как в музее, тонкой лентой, и лежали бумажные цветы на подушке.
Но ведь такое видел он наяву! – в квартире своего знакомого: все было в память умершей любимой жены. Правда, знакомый этот скоро тоже умер.
Любимой... Настоящее, самое настоящее у него, что он давно понял, было – у многих было такое?! Ну и что! – только в девятнадцать лет. Когда была Лена. Осенью, никого нет, а еще светло, листья всюду сухие и рядом тоже, на скамейке. Но не холодно совсем.
И проходит мимо человек с велосипедом, ведет его за руль, листья хрустят, колеса кажутся слишком большими, если сидишь на невысокой садовой скамейке и смотришь, когда уж он пройдет мимо.
Болят ноги. До чего... Все-таки до чего болят. Но надо терпеть.
"Надо потерпеть, – рассуждает с кем-то теоретик Саморуков (этот еще откуда выполз?), – пациенты нуждаются иногда в физической боли, чтобы отвлечься от всяких мук совести".
Стоп!.. Под тумбочкой на балконе действительно что-то сидит. Не там ли динамик Саморукова? Копошится что-то и даже скребется, трепыхается иногда. Бред... Все бред. Сдают нервы.
Итог: значит... Или – конец, или останешься навсегда калекой. Выходит, так обернулось... Где ж это он прочел в книжке: "У каждого гриба свои иллюзии"?
Но он ведь неплохо жил! Институт закончил, работал!.. Институт... Работа... Разве имеет это теперь значение?
Бабы, амуры. Все. Конец. И не может Ваву ни за что упрекать, да и не любил он ее давно.
Она хотела детей, но не было детей. А у него есть! И от первой парень, и от второй – хорошая его, разумная девочка...
Когда ж умерла Манюня? Какой был день?! Он все не мог сосчитать, когда именно он шел к Антошке через проспект.
Лена... Все над ними смеялись, он ей был по плечо. Любимая, она его любила... Он больше не видел ее никогда.
"Красота спасает"? "Красота спасет мир". Спасет?.. Он считал, для нас, для всех, для всего мира наступило время, когда...
Но даже если выживет он... Он калека. Нет больше дома. Милостыню просить? Но для калеки, и это особенно, чтобы оставаться во всем человеком, нужен талант. Талант!
Это смерть все уравнивает... Как сказала восьмилетняя его девочка, когда уходил он к Ваве: "Такова человеческая жизнь".
Не к кому обратиться. Один. Всегда. К кому обратиться?
– Прошу Тебя, все равно прошу! Прошу! Я прошу Тебя, чтобы только, только не умирать...
* * *
Утром нянечка Ануся длинной щеткой медленно прибирала уже балкон. В небе почему-то стояло зарево. Как радуга, что ли. Но не ко времени. Черные дымы, не двигаясь, торчали далеко, рядами под непонятно радужным небом, словно черные деревья. И кверху они расширялись даже, будто густо было там от листьев.
Ануся набок наклонила тумбочку, сдвигая ее, вымела оттуда щеткой неизвестно что, как тряпки, и выбросила вниз на голые ветки осин. Показалось, что это – с растопыренными белыми крыльями.
В первый раз, весь закутанный, с Анусей как сопровождающей, опираясь на костыли, он спустился на лифте во двор больницы.
Он стоял долго, поддерживаемый Анусей, на бетонном крыльце корпуса, обвиснув на больших костылях. Голова кружилась, и так было плохо от слабости, от вольного, от весеннего воздуха.
Прошла мимо нянечка-старуха в синем халате, несла поднос с едой, накрытый салфеткой. По дорожке от дома ехал человек в инвалидном кресле, двигал руками рычаги.
Он спустился наконец с крыльца, ушла Ануся, он глядел вверх на осиновые ветки, где застряло, наверно, то непонятное, с крыльями, но ничего там не увидел.
В больничном дворе на скамейках сидели калеки, закутанные, в платках, в ушанках, подложив все теплое под себя: еще даже не растаяла кое-где ледяная корка под деревьями. А всем хотелось на волю.
Он проковылял мимо этих убогих, некоторых из них он уже знал по фамилиям, даже по именам. Они тараторили, взмахивая руками, или сидели, зажмурив глаза, лицами кверху, загорали под слабым солнцем. На него никто внимания не обращал.
На скамейке возле Ургалкина, неунывающего пенсионера, было место, и он подсел к нему.
Ургалкин в очках занимался делом, плел вроде бы сувениры, маленькие такие лапоточки (для иностранцев, что ли?). Выходило у него ловко. Ургалкин подмигнул:
– Весной пришивали еще по две деревяшки, знаешь, вот сюда и сюда, к подошвам, чтоб не промокали, к пяткам и к носку. Это к настоящим лаптям. Братики у меня сразу наденут и давай по избе друг за другом: стук-стук, стук-стук, стук-стук.
– Да, – кивнул он. – Молодец.
У скамейки под ногами, под тонкой ледышкой, вроде пленки, ползла уже, прямо бежала, разливалась весенняя вода. Он потыкал туда костылем. Хотелось бы встать.
В палате, в боксе, но там никто ведь не видел, он тренировался: чтоб без костылей. Он оперся ладонями о скамейку, стараясь приподняться. Привстать не получалось. Все, будь вы все прокляты, проиграл.
Может, надо еще как-то, боком. Но только б не упасть. При всех с размаху вниз лицом...
Когда ж привстал наконец, цепляясь судорожно за скамейку, все равно не мог он идти. И стоял так, вздрагивая, без костылей, сгорбившись, видя только бегущую под ногами воду.
Потом сделал мелкий шаг, второй. Поднял голову.
Он был огромного роста. И все вокруг, затихнув, глядели снизу вверх на него.
Тогда он зашагал по воде. Вначале, как деревянными, двигая ногами, потом все лучше, потверже. Над всеми! Над всеми людьми! Да! Он был самый высокий, выше даже этих, молодых, как палки, тонких деревьев. Он потрогал верхушки пальцами. Вот! Вы! – чудо шагает по вашему ничтожному, убогому двору!
Да ведь он и есть чудо! И стоит он теперь не жалкие три миллиона, а пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто миллионов! Или даже больше. Новый владелец "Надежды" Святослав Костюков оплачивал все широко!
Сколько же лет, выходит, он прожил зря. Но, правда, разве можно было это раньше...
Но все равно: он ведь не стар еще! Здоровье! Сила! Красота! Не зависит это теперь от возраста! Есть целый комплекс: не одна хирургия, даже курс липоскульптуры и др. и пр. Его кожа станет упругой, она станет гладкой, разгладятся все морщины, и даже может измениться форма ушей и разрез глаз...
Он шел по воде, разбрызгивая воду. Уволили – жалко, конечно, – дурака Антошку, но разве ж дело в Антошке?! Есть Костюков, есть чудодеи-хирурги.
Да он и сам теперь может все! Весь мир болен, а он может все! Любое! Будет жить как хочет. Да! Потому что он выше людей! Выше всех людей. Да. Ну прямо-таки "человек-легенда". Но ведь неплохо кто-то сказал: легенда – это много раз повторенная правда.
Калека в инвалидном кресле глядел на него во все глаза снизу вверх, и стоял не двигаясь совсем малорослый "афганец", он все еще тренировался с двумя палками. И только какой-то чужой ехал по дорожке на маленьком велосипеде, озираясь.
– Стой! – приказал он этому дурацкому велосипеду, словно не в себе. – Стоять! Слышишь!
И чужой пригнулся низко к жалкому своему велосипеду, оглянулся в испуге.
Боже мой, стерлось давным-давно в памяти лицо Лены; прекрасные, какие прекрасные волосы ее, запах. Но лицо человека, который по листьям мимо скамейки вел с огромными колесами велосипед, почему-то осталось. Молодой был, черноволосый.
У человека на маленьком велосипеде было то самое лицо. Этого, конечно, быть не могло...
Надо было снова скомандовать, резко приказать остановиться, он по дорожке двинулся широким и очень твердым шагом, но тот все быстрее крутил педали, а когда оглянулся, в глазах был страх и даже было отчаянье: неужели догонит чудовище?
1993
Заморозь – и съешь!
Последнее время странное ощущение: я отлично чувствую собственный череп. Нет, не лоб, именно череп! Когда приложишь ладонь. И вовсе не мудрые мысли, так, машинально. А не похудел. Наверное, от безделья.
То есть достиг желанного: я не делаю ничего. "Я б хотел навеки так уснуть (как у Лермонтова), чтоб в душе дремали жизни силы и, дыша, вздымалась тихо грудь".
Правда, у меня вздыматься начало пузо. Но ведь это почти у всех городских мужиков к сорока годам начинает из штанов выпирать пузо. Менталитет, как говорится. Сам, может, активный, дела делает, а – пузо. А я не делаю дел.
Если припомнить, давно тайно я и хотел ничего не делать. В институт постун пал – известно, родители зудели, пусть земля им пухом. Службу мою – восемнадцать лет! – даже поминать скучно. И только сейчас, к середине жизни, "везунчик"; конечно: живу на халяву.
Дядя умер, я продал его старинный письменный стол (взял зелеными), его старинный буфет новым буржуям, часы с маятником, XIX век, ломберный столик. В общем, все. Вложил в акции, получил проценты. Большие. Но не втянуло, лень. Забрал свое, оттого и не проиграл. Наоборот. Еще как! И на их митинги, акционеров, мне ходить незачем.
Я, понятно, делаю вид, что ищу работу, контора наша вконец протухла, закрылась, и на улице стараюсь не улыбнуться, вроде жизнью озабочен, как все. Хожу, покачиваю хмуро деловым дипломатом, втягиваю пузо и – счастлив.
Ну пусть, пусть пока. Но чего загадывать? Я не хиромант. Они говорят, раньше лучше жили. Лучше?.. Для меня правильней поддакивать и, еще раз повторю, на людях не улыбаться.
Правда, рожа иногда выдает. Умиротворенная. "Как луна", да! И нос, им видится, картошкой. Но это считается, что добродушный. Вроде молодой отставник, огородник, моложавый пенсионер.
Только вот, помню, в командировке, тысячу лет назад, познакомился: инженер по гидроресурсам, здоровяк, сорок с небольшим, мечтает: "Выйду на пенсию, тогда и оформлю, что задумал". А что задумал? Не ресурсы никакие, а историю края, шире – республики! И все собирает для будущего. Даже статистику по старым журналам венерических заболеваний в тысяча девятьсот двадцать восьмом году.
А ведь я в полном соку мужчина, и на кой мне венерические заболевания в двадцать восьмом году. Да и на пенсии, это обычно, вовсе хотят оформить, описать не историю республики, а собственную жизнь. Почему? Понятно.
Мне это не надо. "В жизни живем!" – говорил Никанор, как прочел когда-то у одного писателя. Точно, вот совершенно точно.
Что еще важно: хорошая у меня жена. У нас как обычно бывает, сплошь пилит, пилит и пилит, и то не так, и это не так, и то не сумел, и это не может он. А он... Ну, две собаки. Ав-ав, гав-гав. Гав.
Но моя мудрая. Когда поженились мы семь лет назад, ей уже за тридцать было, значит, хорошо понимала – нельзя требовать от человека то, что противно его натуре, ну что никак делать не может он.
Поэтому считает так же, что покамест могу вполне от службы отдохнуть. К тому ж детей у нас нет, сколько ни ходила к врачам, и я тут не виноват, глава семьи.
Сама она конструктор, опытный. Но настоящий заработок подсобный теперь. Сметчик. Составляет сметы для новых богачей, для коттеджей. Это мало сейчас кто тянет, расценки старые, но везде ж коэффициенты! Надо рассчитать. А она – как семечки: щелк, щелк, щелк, щелк. Умница. Инженер ведь. Правда, тучная уже стала и как бы ниже ростом, теперь в очках постоянно, и такие каштановые ее волосы посерели, и веснушчатая. Но эти веснушки детские меня умиляют.
Сегодня спустился я, как всегда, утром в пол-одиннадцатого вниз на лифте за газетами к почтовым ящикам. Вижу: с самого края ключи торчат в нижнем ряду, целая связка в запертом чьем-то ящике. Какой-то дурак забыл, раззява.
Сую связку в карман, замечаю номер квартиры и со своими газетами под мышкой еду на лифте туда, на восьмой этаж.
У дверей квартиры на заляпанном полу сидит человек в джинсах и в такой же голубоватой куртке. Положил голову на поднятые колени, волосы длинные, белокурые, свисают чуть не до пола. Спит, значит.
– Ну, ты, – говорю я, трогая его ногой.
Он поднимает голову и пальцами с трудом прибирает волосы. Вот так-так! Это девка. Глаза непонятные, они, что ли, синие, но как стекло. Смотрит неотрывно, а вроде вообще меня не видит! Пьяная? Или "под газом"?..
– Клю-чи, – выговаривает, еле двигая распухшими губами, и облизывает их. – Вой-ти не могу. По-теряла.
– "Потеряла"! Вставай. "Ключи". Ну, вставай, вставай.
Бросаю газеты, поднимаю ее, просовывая ладони ей под мышки. Ух ты, какая грудь упругая.
Встает, пошатываясь, глаза закрыла. Я ее поддерживаю за локти уже.
Высокая, почти моего роста. А красивая. Ресницы... И нажралась. С самого утра.
Скажу честно, я-то вообще не слишком пьющий. Вот разве что пиво. Иначе как растянул бы баксы свои безбедно? Ну на торжествах – понятно, на поминках – это охотно, люблю. А так... И тут вспомнил: да видел недавно, даже поразился – милиционер выталкивал эту, учреждение там какое-то недалеко отсюда, днем было, а она кричала, а приличная вроде, ненамазанная, вся в "фирме".
Придерживаю ее одной рукой, лезу за ключами в карман, тычу ей:
– Держи, на, открывай.
Бесполезно. Как спит стоя.
Левой рукой обнимаю, ой, какое тело теплое, под курткой голая, значит; принимаюсь отпирать дверь. Потом, все так же обнимая, – заграничным мылом пахнет – вволакиваю ее в квартиру, в коридорчик.
Однокомнатная. Там, прямо, кухня, слева комната большая, все раскидано и разбросано. Тахта широкая, заграничная. Подволок туда и уложил ее.
Лежит на спине, раскинувшись. Не могу, нагнулся. Великолепная! Джинсы модные, самые дорогие вроде, молодежные, с прорезями широкими, как оборваны над коленками, а там... Белоснежное, блондинка же. И руку всовываю в эту дырку, в ее брюки. Как бархат тело... Выше, выше. Ноги прямо из-под мышек, что ли. Нужно... Нужно "молнию" расстегнуть впереди! Она ж без трусиков, похоже.
Дергаю "молнию" вниз.
Рывком, как чертик, привскакивает и отбрасывает мою руку.
– Вы кто? Кто? – Не понимает кто, держится за "молнию". Какие огромные глазищи...
– Вася я. Василек, – улыбаюсь ей, задыхаясь. – Лежи, лежи так, лежи. Я сейчас. Сразу. Я Василек. Лежи. Я Василек.
– Ва-си-лек?.. – Она отталкивает меня и садится, опустив ноги на пол. Смотрит.
– А... Василий Васильевич, вас я знаю. Здрасьте. Вы с пятого этажа.
– Я... Здрасьте.
– Не помните меня? Я же Таня.
– Та-ня?..
– Прошлый год, помните, Ксения Антоновна, жена ваша, помните, помогала нам? Мама моя болела, помните? Умерла мама. Помните?..
– Мама. Да... – Я нащупываю сбоку стул и, так же согнувшись, стараясь, понятно, чтобы не выпрямиться, сажусь на стул. Ну и ну. – Татьяна, значит. Ладно... А где целый год была?
– В Голландии, Василь Васильич.
– В Гол-ландии? И чего тебя туда понесло, Татьяна?
– Меня... – Молчит. Отводит глаза.
Стоп. Да я ж ее знаю! Была такая еще закривленная, тощая и вредная малявка. Это сколько ж тому назад?.. И тоже молчала, насупясь. Я еще, обозлившись, разъяснял ей, будто я папаша, что, когда в лифт входишь, – вас что, в школе не учат? – старших надо пропускать. И вообще. Да-а. У женщин это бывает. Но как они появились, уйма, красавицы длинноногие пацанки!.. Или у них мини до... Конкурсы сплошь, "Мисс Россия". Раньше куда ни посмотришь, все кургузые вроде, и ножки как у рояля. Менталитет. А может, с солидностью эти тоже понизятся? Вон Ксения моя хорошего была роста. Да что говорить...
– Ты чего, чего? Ты плачешь?! Таня, Танюша, ну извини меня. Я... Я ничего плохого... Ну чего ты плачешь, Таня? Извини. Фу-ты... Не плачь, слушай!..
Плачет. Пригнулась совсем, плечи дрожат, лицо в ладонях.
– Танечка, да успокойся, – говорю, – Танечка, не надо, слушай, успокойся...
Встал. Что делать?.. Глажу так осторожно по голове, точно младенца. Что делать...
А она руки протянула, и сел я рядом, близко, ткнулась мне в грудь и плачет. И тенниска, чувствую, на груди у меня намокает. В общем, идиот.
– Ксенюшка, – говорю я, когда пришла моя с работы домой. Мы уже отужинали, сидим за столом, она в халате, и я предлагаю – что надо бы сироту удочерить. Как-то... Чтоб, в общем, ну по-человечески, не по-голландски.
Это ж как оно, по-голландски?! Заключили контракт, фирма, пригласили пожить в семье сироту. От нас, отсюда. Хозяйка бесплодная, и хозяин, по их согласию, живет с контрактницей. А ей двадцать с половиной тысяч долларов! Беременна, угождают хозяйка с хозяином, ухаживают. Ребенка родила, записали голландцем счастливые хозяева, и контракт закончен, сироту отправляют домой. Это как?!
– Перевяжешь палец? – вместо ответа просит Ксения, и я совершаю наш вечерний обряд: делаю компресс на палец. Я считаю, что она просто руку перетрудила, а не артроз это.
Потом она достает Библию, приобрела ее недавно, листает, наклонившись, поправляет очки, ворот халата сзади у нее приподнимается, лицо сморщилось, челка редкая на лоб, и мне моя Ксеня с челкой вдруг напоминает черепаху.
– "А Сара, жена Аврама, – начинает Ксеня вслух читать, – не рожала ему. И была у нее рабыня, египтянка, – читает Ксеня, – имя ее Агарь. И сказала Сара Авраму: "Вот не дает мне Господь рожать. Войди же к моей рабыне – может, родится от нее". И услышал Аврам речь Сары... И он вошел к Агарь, и она понесла".
– Да остановись ты! – перебиваю ее. – Понимаю, не хочешь. Ох ты ханжа.
Совсем уже поздно вечером я все сидел в кресле, бросив на пол газету, в своей комнате, спим мы отдельно, две наши комнаты смежные. Думал. Ксения наконец перестала скрипеть пружинами у себя, ворочаться.
Но за окном неспокойно. То голоса пьяные, то собаки хрипло залают наперебой, как в деревне, а то сверлящие вдруг звуки во всю мощь. Будто он взорвался, охранный этот сигнал, или как он там называется, чтоб машину не увели, у меня-то нет машины. Нет. А внизу у домов уже сплошь машины... Машины и машины. И этот проклятый звук никак не затихает, бесконечно. Вопит. И – прерывается.
Тишина. Ох, тишина... Но теперь почему-то, когда утих, этот звук напоминает такое сверлящее тарахтенье игрушки в детстве. Она китайской называлась, как и мячики бумажные на резинке и "уйди-уйди", что продавали в праздники на углу. А короткую палочку надо было вертеть, вертеть, вертеть, на ней нитка, и на нитке вот это. Тарахтело громко, долго. Я думал о Тане.
В общем-то, у каждого поколения свои потрясения. И даже в самых чепуховейших, любых мелочах... И с самого детства. Даже припомнились сгинувшие давно наши лифчики "девчачьи" с резинками, их ненавидел я, и к ним надо было пристегивать вовсе не дамские, понятно, а мои заштопанные чулочки в рубчик.
Я сидел в кресле, оно казалось твердым теперь, как стул, и вроде возле двери. Сбоку тоже, только пустые стулья вдоль стены. Один я еще сижу. А они все толпятся, народу вдруг полно, у длинного стола, чтобы их записали. За столом двое служащих записывают. Нам всем, одногодкам, надо обязательно отрубить сейчас палец на правой руке. "Проснись! – я прошу. – Ну проснись!" Но не помогает.
Первым с левого края у стола Вадька, мой бывший однокурсник, который прошлой зимой умер. Я вижу, как нагибается он, вытягивает, кладет на стол руку и стонет, вскрикивая. Служащий то ли рубит, то ли режет ему палец. И второй служащий, напротив меня, вытаскивает клинковый, ножевой штык. И все уже сгрудились тут, интересно им... А я больше не вижу, встаю тихонько, и, единственный, я выскальзываю в дверь, пряча в левом кулаке мой правый, еще не отрубленный палец.
– Если тебе мертвецы, – говорит мне утром Ксения, – бредятся во сне, скверно. Но хуже, что тебе, по-моему, приснился военкомат.
Тон у нее независимый сегодня, очки посверкивают, на меня не смотрит. Она – с самого утра! – уже причесалась давно, и не в халате, а в американских джинсах, зад выпирает, и в белой футболке сиськи ее торчат.
– Объявляли уже по радио, – говорит Ксения, – из запаса будут призывать офицеров и – туда, похоже. А ты ж офицер? Да, ты офицер.
И, накрасив неприступно губы, надела модный, не надеванный еще ни разу плащик, вильнула хвостом и унеслась. На работу. Гордая вдруг...
"Не спешить, только без паники. Только без паники. Не торопись, говорю я себе. – Не торопись".
Медленно, сознательно не торопясь, надеваю брюки вместо тренировок и кроссовки. Поверх майки медленно надеваю куртку. У меня это давний принцип. Прочел когда-то, не помню где, но усвоил, как родное: никогда и никуда нельзя опоздать. Беды, они ведь найдут всегда. И потому не спеши никуда. А счастье – это ведь случай.
Выхожу из квартиры, еду вниз на лифте за газетами. Может, напечатали о призыве. Обычно в газетах, ясно, проглядываю я не все, о происшествиях больше, спортивное. Мог не заметить ничего.
Газет в ящике почему-то не было. Лежала только узкая бумажная полоска.
Свет в подъезде не горел, темно. Я вышел из подъезда прочесть. Там было напечатано очень четко: "Нет, Андрюша, все будет хорошо".
Я держал в руках бумажку, перечитал еще раз об Андрюше, кому будет хорошо. Ящики перепутали.
Мимо прошел в подъезд высокого роста человек в измаранном халате, на ходу натягивая брезентовые рукавицы. На голове у него была иностранная зеленого ядовитого цвета шапочка с длинным козырьком. Он кивнул мне слегка, я ответил.
Только это был, понятно, не Андрюша, мне неизвестный, а наш уборщик мусоропровода. Единственный, кого запомнил четко из тех, кто вступает молча в лифт и – "вам на какой?" – потом исчезает так же молча в нашей башне. Это ж не маленький домик, где жил я когда-то.
Я все вертел в руках "Андрюшу", не понимая, и заподозрил вдруг нечто в конце концов. Вошел в подъезд, поехал на восьмой.
– Кто?.. – мне ответил наконец на звонки сонный-сонный голос.
– Я. Андрюша, – сказал я бодрым молодым баритоном. – Открой, Танечка.
– Какой Андрюша? Не сюда! Отваливай! – и зашлепали от двери ее длинные, босые, дивные ее ножки.
Ну, что ж, надо было начинать активно – только опять-таки не спеша! – кое-что предпринимать.
В нашем дворе укромный был закуток в высоких кустах, и еще прикрывали это место деревья. Здесь я встал и закрыл глаза, тренируясь.
Пальцем правой руки было необходимо ни за что не дотронуться до носа. То же самое с указательным пальцем левой руки. Почему-то это было не просто, пальцы сами собой тянулись к носу.
Кроме того, вытянув обе руки, надо было растопырить дрожащие – но только обязательно дрожащие! – все свои десять пальцев. За восемнадцать лет после института и военной кафедры от любых лейтенантских сборов я – или на бюллетене у невропатолога, или в командировке дальней, естественно.
Когда я приоткрыл глаза, две бабули, одна простоволосая, другая в берете, замершие перед моими кустами, сразу дернулись в стороны, отворачиваясь, словно никогда они не подглядывали!.. Почему я не потренировался дома, самому непонятно.
Я шел по проспекту, сдерживая шаг. Солнце так светило, и все было ярко. Шли люди, одетые ярко, и пестрые-пестрые витринки палаток, и блестели зеркальные стекла нового банка. А мне очень хотелось бежать. Скорей. Я сдерживал шаг, даже на секунду прижмурил глаза. И наткнулся.
Перегораживая тротуар наискосок, как змея, тянулась толпа. Они стояли в затылок друг другу, но как-то не везде, растрепанно. И еще: толпа была серая, разве что с прокладками цветными, то куртка была оранжевая или шаровары китайские с лампасами. Вся змея дергалась, переступая, влево, только очень медленно.
Вообще-то у каждого, ну пусть не у самых молодых, сохранилось, не важно сколько лет прошло: коли дают, стань в затылок. Но я ведь не мог, я очень спешил, надо было обойти. А прямо передо мной был большой затылок крепкого старика. Он стоял к толпе лицом, ко мне затылком. Руководил или следил?.. Соблюдал порядок?
Прямые седоватые волосы его были как подрублены топором. Явно, дочка или, скорее, внучка ровняли сзади садовыми, что ли, ножницами, и это было похоже на короткую стрижку ударниц с фотографий тридцатых годов.
Я шарахнулся от него левее, чуть не сбив очень радостных пацанов, они шныряли, меняя что-то в толпе. Что – я не понял.
– Ух ты да ух ты! – навстречу мне вдоль толпы, ликуя, плясала бабка, хлопая в ладоши и притопывая, и даже пыталась кружиться, кружиться.
– Ну, чокнутая. – Я попятился.
– Нет, – ответил мне сзади голос. – Если верблюда качает буря, козла ищи уже в воздухе.
– Что?.. – я обернулся.
Какой-то человек с рыжеватенькими щетинками-усами мне улыбался.
– Это пословица, – кивнул он. – Только казахская.
Может быть, оттого, что нацелился я в поликлинику и так боялся растренироваться, соображал я туго. Как будто всерьез я нервный.
А толпа передо мной уже разбредалась с досадой, и танцорка прекратила, остановилась и плюнула.