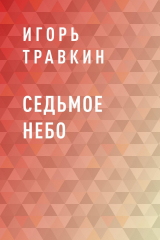
Текст книги "Седьмое небо"
Автор книги: Игорь Травкин
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Зеркальность.
– Дом Неназываемого? – покосился на друзей Троль.
Семеричный пожал плечами.
– Скорее – загородная вилла, – невесело усмехнулся Пыш, тревожно поведя своими огромными ушами. – Ну, и куда теперь? снова в Башню?..
– Так может продолжаться до бесконечности… – задумчиво вымолвил Семеричный. – Так можно заблудиться, в конце концов!..
– Но, как всегда, выхода у нас нет, верно? – с явной долей иронии снова покосился на своих спутников Троль; Семеричный вновь пожал плечами.
– Выход всегда есть… – вновь напомнил оптимистично настроенный Пыш. – Как, впрочем, и вход…
– Ну, что ж, тогда вперёд! – махнул Семеричный и первым вновь шагнул к Косой Башне с мечами наголо; товарищи его двинулись следом.
Зеркальность.
Следовательно, на сей раз Башня не спешила путникам навстречу, как в прошлый раз, а, напротив, отдалялась с каждым их шагом, сделанном в её направлении, и чем целенаправленней они шагали, тем дальше становилась от них Косая Башня; перебираясь через жидкие огненные реки по каменным, ветхим мостам, друзья продолжали свой путь, и сколько времени занял этот путь никто из них с точной уверенностью сказать не мог: может – мало, может – много, а может, и вовсе не было здесь никакого времени, потому как кроме огня и камня здесь, по всему, и вовсе ничего не было; так или иначе, но к тому времени, как друзья полностью выбились из сил, они стали намного дальше от своей цели, нежели в начале своего пути, поэтому они решили сделать привал – перекусить немного и отдохнуть. Семеричный достал из своего вещмешка лепёшки, которые Оксана испекла ему по эльфийскому рецепту перед дорогой, и протянул друзьям: лепёшки эти были не простые, но волшебные – съев одну, можно было потом неделю не принимать никакую пищу и не испытывать при этом чувства голода, прибывая в силе; Троль недовольно покосился на эльфийскую пищу, но, вздохнув, всё же принял угощенье: как не любил он эльфов, прекрасно еще помня Хрустальную Войну Голубых Вод, лепёшки были так вкусны, что пришлись по вкусу даже зелёному монстру, друзья запили трапезу красным вином сакъянов, и снова двинулись в путь, вновь с каждым шагом отдаляясь от Башни.
– Может, подойти к ней с другой стороны? – наконец, предложил Троль, устав от этого бессмысленного пути.
Они попробовали обогнуть башню и подойти к ней по берегу огненного озера, на дне которого слышались чьи-то адские стоны, полные муки и боли, но и это не дало результатов – озеро изогнулось, вогнувшись внутрь самого себя, и тоже отдалило их от Косой Башни.
Башня не исчезала, но становилась всё дальше, а удушливая, нестерпимая жара выпивала все силы нежданных гостей этой реальности, даже не смотря на чудодейственные свойства лепёшек.
Путь продолжался.
…Семеричный открыл глаза и тут же зажмурился, перевернулся на бок и принялся отчаянно тереть их руками, потому как за то время, что он спал, пепел и зола покрыли и глаза, и лицо толстым, жирным слоем гари, которая налипла на потный лоб, как глиняная маска, дышать было настолько тяжело, что лёгкие отзывались в груди огненной болью, отказываясь поглощать это горячее, грязное марево, заменяющее здесь свежий воздух, сил почти не осталось, не смотря на то, что Воин только что проснулся, и чудовищная жажда сводила с ума, мутя рассудок не хуже грибочков гоблинов! рядом с Семеричным вдруг зашевелился огромный валун, заёрзал и задвигался, неожиданно поднялся и сел, и только теперь Семеричный понял, что это вовсе не камень, а его верный друг Троль, вскоре нашёлся и Пыш, который теперь походил на комок грязных портянок, полностью потеряв свой нежно-розовый цвет из-за пепла и сажи: друзья привалились под сушённый ствол единственного здесь, – мёртвого, – дерева с двумя крючковатыми ветвями, на которых не было ни одного листочка и попытались придти в себя, вспомнить, кто они есть и что здесь делают!.. Башня по-прежнему была очень далеко, за время их сна не приблизившись ни на версту, супротив предположениям Троля, который уверял, что они смогут достичь заветную цель во сне, и бесконечные алые вены огненных рек по-прежнему разделяли их целой речной долиной, сложным лабиринтом огня и дыма.
– Что-то не похоже, чтобы мы в Башне были! – фыркнул Пыш, многозначительно глянув на зелёного товарища, который тоже потерял свой цвет под толстым слоем гари.
– Я хоть что-то предпринял! в отличие от некоторых! – прорычал в ответ Троль, сузив свои красные глазки на друга. – Может, у тебя есть какие-нибудь предложеница?! – ехидно осклабился он.
– Конечно, – невозмутимо ответил Пыш. – Чтобы попасть в Башню, нужно идти не к ней, а, наоборот, – в противоположную сторону. Зеркальность, Тролик, понимаешь?
Троль опешил и удивлённо уставился на друга: Пыш-то, верно, был прав, по крайней мере, предположение его было вполне логичным… оба они посмотрели на Семеричного, который сейчас созерцал задумчиво красно-чёрную долину, за которой возвышалась стрела Косой Башни, в его голубых глазах отражались огненные всполохи и росчерки, друзья терпеливо ждали его ответа.
– Что ж, – наконец, вымолвил он, – это не лишено логики… можно попробовать.
Друзья перекусили всё теми же эльфийскими лепёшками и двинулись в обратный путь, который, по предположению Пыша, должен был привести их как раз к башне, которая теперь устало клонилась к земле за их спинами.
– Главное, не оглядываться! – с умным видом наставлял Пыш, сам едва сдерживая желание оглянуться, чтобы посмотреть, верны его предположения или нет, приблизилась Башня хоть немного к ним или же и это не помогает и всё напрасно. И снова время растянулось в удушливую, огненную реку вечности, в полотно из плавленого свинца, бесконечную долину адских мучений, неоправданных и жестоких, и друзья вновь шли и шли, отсчитывая свои собственные шаги, отдаляясь от Башни, пока она вдруг не сомкнулась вокруг них: словно чудовищный хищник прыгнул бесшумно на них со спины и проглотил, закрыв мощные челюсти: лабиринт жёлтого камня раскинул свои неведомые просторы во все стороны на сколько видел глаз в этом жареном сумраке, рассеиваемый лишь огненными рунами, высеченными на стенах, где-то монотонно раздавался металлический, тягучий звук, будто били в набат, и звук этот гулким эхом наполнял лабиринт, сводя с ума.
– И что теперь? – огляделся по сторонам Троль.
– Теперь нужно найти выход, разумеется! – расправил уши Пыш, тоже оглядывая перекрёстки и развилки лабиринта. – Вот всегда так… никак нельзя по прямой с двумя-тремя отточенными поворотами, непременно нужны эти запутки, иллюзорность и шифровка! – недовольно проворчал он.
– Нужно разделиться – так мы быстрее найдём выход, – предложил Семеричный.
– Мы так долго искали вход, чтобы теперь так же стремительно начать искать выход… – с усмешкой хмыкнул Троль. – Может, это Смысл Жизни?
– В таком случае, нам не нужно искать Седьмое Небо, и можно остаться тут, – резюмировал Пыш.
– Нет уж, увольте! Здесь мне отчего-то совсем не нравится! – проворчал Троль.
– «Тому, кто счастье нашёл в этом Мире, нечего бояться, и можно идти в другие!» – улыбнулся Семеричный, процитировав одного из Мастеров, и шагнул в лабиринт Башни.
– И всё же я думаю, что с разделением, это не самая удачная мысль, – испуганно заверещал огромный Троль, но друзья его уже растаяли в дебрях лабиринта, который проглотил их словно голодный зверь – стремительно и без сомнений; Троль вздохнул и тоже нырнул в запутки.
…Пыш видел, как босоногий мальчик бежит по бескрайнему розовому полю, которое нигде не начинается и нигде не заканчивается, в руках у мальчика сачок и он ловит им голубых и салатовых фей, которые со звонким смехом улетают от него, едва успев ущипнуть за нос или ухо, и каким-то умиротворённо-счастливым блаженством веет вокруг, не смотря на то, что неба здесь тоже нет, здесь вообще ничего нет, акромя поля, которое нигде не начинается, а, следовательно, нигде и не кончается, – бескрайнее поле, так сказать, широкое и свободное; Пыш захотел пошевелиться, чтобы как-то определить самого себя здесь для самого себя же, но это не получилось, он не обратил на это никакого внимания и продолжил наблюдать за весёлой и безмятежной игрой мальчика с феями: бескрайнее чистое поле и звонкий, счастливый детский смех, звенящий над всей этой благодатью: Пыш почувствовал, как огромные синие глаза его подернулись влажной плёночкой, и одновременно-неожиданно вдруг родилось смутное, противное чувство тревоги, чувство, которое съедает всё в тебе, не оставляя ни одного живого места, ни единого островка надежды, на которых и держится в нас зыбкое, но такое нужное чувство стабильности, обусловленное кратковременными радостями, верой в лучшее будущее и мечтами, где всё всегда хорошо и удачно складывается для нас: жаль только, что в жизни так не бывает!..
…или бывает?..
Так или иначе, но за мерзопакостным чувством тревоги тут же родилась у Пыша – всегда трезво мыслящего и здраво настроенного – депрессия (болезнь Западных Земель, разнесённая вкруг всех Миров вирусом прогресса, сиречь цивилизации), и услышал он тогда хлопочущий, словно крылья ветра, звук, приближающийся с каждой секундой, и что-то зловещее было в этом звуке, какая-то скрытая угроза, будто кто-то ходит под окнами одинокого лесного дома, когда ты дремлешь в холодной постели и никак не можешь проснуться… Звук нарастал, приближался, становясь громоподобным, то есть, заслоняя собой все запахи и цвета непроницаемой плёнкой страха.
– Не-е-т! – истошно закричал Пыш, уже понимая, что происходит, но с ужасом определив, что не слышит собственного голоса и вообще не ощущает своего верного доселе тела! он в панике попробовал вновь нащупать свои члены, биополя ушей, но какая-то болезненная онемелость нейтрализовала все его усилия, сведя их на 0.3; а звук, между тем, всё приближался, и вот уже и босоногий мальчик с сачком услышал этот грохот, и феи перестали смеяться и с тревогой, которая по мере усиления громкости таинственного звука, превращалась в панику, смотрели в полевую даль, откуда и доносился устрашающий звук; в следующий миг из воздуха материализовался металлический голос и сообщил о чём-то безжизненно, а потом все увидели гигантского стального дракона с длинным хвостом и широким пропеллером на спине, вращающимся со скоростью противного звука, который он и издавал, дракон приближался, и уже видны были его холодные черты, тускло поблёскивающие в этой мирной благодати, его чёрная чешуя растопырилась воинственно и он, изогнувшись в свежем воздухе, направился к мальчику и феям, онемевшим от ужаса.
– Не-е-т! – снова заорал Пыш, пытаясь пересилить ту боль, что сковала и его голос, и его тело, которое по-прежнему отказывалось слушаться мозг, но тщетно, и Пышу оставалось только бездвижно и молча наблюдать за воинственно приближающимся к мальчику драконом, уже разинувшем свою пасть: Пыш словно бы был здесь, совсем рядом, и одновременно далеко, словно всё это происходило на его глазах, но он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что он совсем в другом месте и максимум, чем может касаться всего происходящего, так это тем, что происходило всё это в его собственном разуме: ему было страшно, но он не мог ничего поделать, потому что звучал сейчас совершенно в ином коде запахов и углов, которых было около пяти тысяч одного. А железный дракон уже планировал к мальчику и бросившимся врассыпную маленьким феям, и распростёр над этим Миром свою кровожадную пасть, в которой внезапно и смертоносно полыхнули языки пламени, сорвавшиеся с кончика языка монстра, в ту же секунду, с мельчайшей задержкой, вместе с яростным, диким рёвом чудовища, земля встала дыбом, взвихрилась жидким огнём и грязью, превратившись в узкую, глубокую траншею, в которой исчезли мальчик и феи, и только обожжённый, переломанный пополам сачок лежал чуть в стороне, напоминая о детстве и святости; из последних сил, собрав в кулак всю силу воли, ярость и злость, Пыш вновь попытался вырваться из своих невидимых пут (себя он, кстати, тоже не видел, прибывая в данное временное измерение одним лишь сознанием, развёрнутом на квадраты и смешные кружки с острыми краями), и движение это отозвалось в его естестве адской болью, которое оное вынести никак не могло и тут же приняло единственно верное решение – погибнуть, Пыш понял это уже каким-то затуманенным разумением, ускользающим по самому краю сознания, обрывающегося в бездонную пропасть, чёрную и холодную, и так бы, верно, и погиб Пыш, если бы не сверкнула мимолётным росчерком огромная дубина Троля, опускаясь на хребет стального дракона и переламывая лопасти на его неуловимом пропеллере в самый последний момент, когда дракон уже бросился на парализованного Пыша, потом кто-то усиленно потянул его куда-то в сторону, увлекая вниз-вверх одновременно, что уже противоречило нынешней физике Пыша, но он не стал сопротивляться, по большому счёту, потому что не мог, что-то вспыхнуло стремительно и коротко и обернулось просторным холлом со сводчатым потолком и арками вдоль стен, в которых ждали своего часа каменные девы-воительницы, не знающие страха и боли, рядом лежал на полу, выложенном чёрно-белой плиткой, Троль и кряхтел, потирая ушибленный бок.
– Ты это видел?.. – простонал Пыш, ещё не оклемавшийся от жестокой боли своего сна… или видения?..
– Видел! – с досадой ответил Троль, глядя на свою переломанную пополам дубину. – Нашёл время в «салочки» с птицами играть! Как будто заняться больше нечем! – обиженно махнул он на друга рукой. – И где мы теперь?! Где Семеричный?!
Пыш с трудом поднялся и огляделся: холл, как холл, не так здесь и жарко, факелы горят в арках, сжимаемые руками каменных дев-воительниц, играя бликами на кафельном полу, но главное, что привлекло острое внимание Пыша, так это стеклянные двери с красными кружками в центре, и надписями на иморе: «Выхода Нет», за дверьми виднелась ночь и длинная-длинная липовая аллея, уходящая, как известно, в никуда, лужи на дорожке, в которых отражался мутный свет фонарей, покачивающихся и поскрипывающих на ветру, голые, осенние деревья, деревянные скамеечки с витыми, чугунными ножками и подлокотниками, и всё, и больше ничего.
Дорога в Вечность.
– Что делать-то будем? – простонал Троль, тоже глядя на бесконечность за стеклянными дверьми с весьма красноречивой надписью, а главное – простой и понятной, как сибирский валенок! – Видишь, как оказалось, – выход не всегда есть… – горько бросил он; Пыш осмотрелся: зала, в которой они находились, имела цилиндрическую форму и другого выхода, кроме стеклянных дверей, через которые нельзя было выйти, не имела.
– Да-а-а… – протянул растеряно он.
– Смотри! – вдруг встрепенулся Троль, указывая на прозрачность дверей: по аллеи издалека к ним кто-то приближался; Пыш посмотрел в указанную сторону и, рассмотрев идущего в их сторону незнакомца, тоскливо взглянул на друга; Троль с горькой миной осмотрел свою сломанную дубину. – Эх! – вздохнул он.
Время текло мерно и неторопливо, отсчитываемое металлическими ударами гонга откуда-то сверху, Пыш и Троль ждали неизбежного появления незнакомца, приближающегося по аллее, но вскоре они смогли рассмотреть, что незнакомец этот вовсе не был незнакомцем, – это был Семеричный, не сговариваясь, друзья бросились к дверям и принялись отчаянно жестикулировать и кричать о том, чтобы он не входил сюда, откуда нет никакого выхода, но Семеричный продолжал не спеша приближаться, словно бы и не замечал своих друзей и их отчаянных знаков, с каждым ударом гонга он приближался всё ближе, явно намереваясь войти внутрь, а Пыш и Троль ничего не могли поделать, в конце концов, они выбились из сил и безысходно опустились на каменный пол, не в состоянии остановить своего сен-и-сея, который, ничего не подозревая, сам шёл в ловушку.
– Это ты виноват! – бросил Троль Пышу, глядя, как Семеричный приближается; Пыш не ответил, тоже глядя на неизбежность предстоящего.
Семеричный открыл дверь и вошёл. Дверь сама захлопнулась за его спиной.
– О! а вы тут чего расселись? – удивился он своим спутникам, но у них не осталось сил, даже чтобы ответить ему.
Семеричный огляделся и снова воззрился на своих друзей. Прозрачные двери за его спиной стали матовыми и совсем не прозрачными, попросту – каменными стенами, как и все стены вокруг.
– Отсюда нет выхода, сен-и-сей, – обречённо вздохнул Пыш, виновато взирая своими глазами-блюдцами на Семеричного; Троль тоже виновато потупился; Семеричный ещё раз огляделся и вдруг обнажил оба свои меча, которые покинули ножны с тихим шелестом.
– Да, верно, житель Лиловых Лесов, – вдруг раздался за спиной Пыша жуткий, мёртвый голос, от которого не хотелось жить. – Отсюда нет выхода… – Троль и Пыш тут же вскочили на ноги и повернулись на этот ареальный отзвук, – в центре залы стоял некто закутанный с ног до головы в просторный чёрный плащ и глубокий капюшон, скрывающий его лицо.
Они знали, кто это.
В следующий миг Троль метнул в незваного хозяина этого пространства остатки своей дубины, но они прошли сквозь знакомого незнакомца, не причинив ему ровным счётом никакого вреда, Пыш свернулся в розовый пушистый мячик и заскакал в сторону пришельца ярким огненным шаром, расплёскивая вокруг отрицательные стереополя энергий, но пришелец одним неуловимым жестом руки отбросил его в сторону: Пыш ударился о стену, распрямился и съехал по стене безвольно на пол, Семеричный атаковал стремительно: его смертоносный выпад непременно достиг бы цели, но закутанный в плащ некто легко увернулся и сгрёб воина в охапку, Семеричный издал полный боли крик и обмяк, и в следующий миг всё вокруг стало таять, стекая вниз грязными разводами гуаши, унося с собой и Троля, и Пыша, и через какое-то неопределимое время всё вокруг стало белым и чистым, как титульный лист в ненаписанной книге…
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Коммуналка «Х»
«Это коммунальная, коммунальная квартира!»
Гр. «Дюна»
«Процент сумасшедших в нашей квартире
увеличится, если ты не придешь.
И весна – не весна, если ты позабыла
свой город дождей, этот садик и дом.
В коммунальной квартире -
Содом и Гоморра:
кошки рожают, дети орут,
и посудой гремят соседские монстры,
курят, курят и счастье куют.
Весна, весна идет.
Весне – дорогу!»
Диана Арбенина
Коммуналка «Х» располагалась на последнем этаже, под самой крышей благородного дома с богатой родословной, укрывшегося в уютном скверике с фонтаном, шумящем под раскидистыми кронами каштанов, и огромными песочными часами, что неслышно отсчитывают век за веком на Моховой, и была заселена пятью семьями, не считая Буянова Василия Митрофановича и неспокойного призрака бывшей хозяйки дома, прелестной насмешницы Анны Карловны, к которой, как известно, так часто заезжала на чай Императрица, поболтать и посмеяться, пошутить над пышными усами Воронцова и удивиться «Недорослю» Дениса. Надо заметить, что номер квартира имела «117», что всегда так пугало Шуру.
Василий Митрофанович Буянов мало чем отличался для остальных жителей коммуналки от призрака Анны Карловны, которая по-прежнему громко смеялась вместе с Елисаветой Петровной в бесконечно длинных коридорах и на кухне, он имел три аршина росту, покосившуюся сажень в плечах, огромную мохнатую голову, окаймлённую львиной гривой светло-русых никогда не мытых волос и глубокий раскатистый бас голоса, которым он исполнял под гитару, а иногда и под скрипку соседки Кати, песни группы «Руки Вверх» (знаете эту? «Забирай меня скорей в темноту вытрезвителей, и лечи меня везде – восемнадцать мне уже!» вот-вот! в наше время это очень актуально!..), но, право, трудно было представить, чтобы этого пьяного Зевса, размахивающего с высоты собственного роста гитарой, мог кто-нибудь куда-нибудь забрать, хотя доблестные полиционеры, оскорблённые явным бесстрашием и фатализмом Василия Митрофаныча, частенько пытались это сделать: и, устыдившись своей силушки, ясности мысли и всех прочих превосходств пред ликами этих несмышленых слуг неизвестно кого и чего, Вася сдавался, раскаивался и горько плакал, прося у побитых им господ полиционеров прощенье из-за железной зелёной двери КПЗ; любимым занятием этого огромного и наидобрейшего человека являлись прогулки по странному, придуманному им самим же, маршруту с Шуриками, покуривая огромную узорную трубку: он надевал непременно перед этим походом высокие синие «гады», рваные танкистские галифе песочного цвета, старую затёртую тельняшку на могучий торс атланта и поверх длинный немецкий кожаный плащ времён Гиммлера и Исаева, вихри свои он пленял красным беретом, в которых художники всегда изображают художников, как монтёра-высотника непременно изображают в каске, берет этот он носил, так же, как художники – чуть набок, – и они отправлялись: на все праздные вопросы-распросы друзей и знакомых про это священное действо, которое он совершал, таща при этом за собой близнецов, каждую последнюю ночь каждого месяца, Вася отвечал просто и точно: «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!», заканчивались эти прогулки завсегда посиделками на обшарпанной кухне своей родной коммуналки, под бряцанье кастрюль старой еврейки Розы Абрамовны Цукерман, сопровождаемое её же ворчаньем про беспутство и бестолковость Васи, под отголоски фанвизинских чтений под строгий, и цитаты некоего Григория Адамовича, которого сам Василий называл просто – дядя Гриня. Маленькая комнатушка Васи находилась у самой кухни, которой заканчивался бесконечно длинный коридор и за которой притягивал животным ужасом, сочащимся из-за закрытой двери, тёмный, пыльный чердак, как всегда заваленный всяким хламом, пережитками прошлых лет: осязаемой историей страны и людей эту страну населявших и населяющих, в комнате Васи не было никаких признаков двадцать первого века – ни компьютера, ни стерео системы, ни телефона, ни даже банального телевизора, кровать заменял матрац, уложенный в угол прямо на пошарканный, выцветший паркет под высоким окном, выходящим прямо на крышу соседнего крыла здания, из всей мебели в комнате находился только древний тяжёлый шкаф, тёмный с витым узором на дверцах и на гнутых ножках, под которые были подложены старые, смятые в маленький квадратик газеты для того, чтобы шкаф не шатался и стоял аккурат посередине комнаты, в этом шкафу Василий и держал все свои немногочисленные физические вещи (вроде как шкаф этот достался ему по наследству от трижды прабабушки, но информация эта не подтверждена фактами): будучи человеком призирающим современные уклады и общественный строй вместе со всей дьявольской, навязанной политикой непременного жизнеобеспечения, Вася не смотрел телевизор, не интересовался тем, что происходит в мире, не слушал популярную музыку и не подчинялся рекламе, которая приказывает нам действия на следующий день, нет, день его происходил совершенно иначе: начинался он почти всегда на крыше дома, где Вася встречал рассвет, затем он долго и с удовольствием пил крепкий чёрный чай на кухне, поглядывая весёлыми и озорными голубыми глазами на выползающих по очереди на кухню соседей и ухмылялся в свою густую длинную бороду, а после чаепития он отправлялся в город и подолгу по долгу гулял по лабиринтам Петроградки, навещал знакомых и не очень, к вечеру он становился непременно пьяным и случайные прохожие цепенели в некотором ужасе, когда эта расхлёбанная бородатая громадина, пышущая смачным запахом горькой и лука, мурлыкая себе под нос стихи Пушкина или Летова, мерно двигалась по Каменноостровскому проспекту с гитарой за спиной, иногда пританцовывая или отстукивая чечётку тяжёлыми панковскими башмаками синего цвета; весь доход Василия составляли заработки бродячего музыканта, играющего в подземных переходах и в электричках, но и в самом деле у людей замирало сердце, и душа встревожено затихала, когда он вытягивал своим мощным голосом, не знающим преград и барьеров непонимания и неодобрения, «Коня» «Любэ» или «Ой-Ё» «Чайфов», правда, как правило, заработки все эти уходили на пирожки да чай для малолетних вокзальных беспризорников и портвейн для друзей бесприютных; Вася разменял уже четвёртый десяток, но так и не обзавёлся, как говорят, семьёй (будто семья это скотина какая-то, которой можно обзавестись, а не Дар Небесный, дарованный далеко не всем супротив мнению распространённому у нас), возможно, тому причиной были его железные принципы отвержения всего, что было принято в современном цивилизованном обществе, отвержение всяких законов, устоев и духа стадности, порождающие лицемерие, ложь и страх, всевозможные нервозы и помешательства, которые, в свою очередь, выливаются извращениями и вовсе адскими помутнениями человеческой здоровой морали: Цивилизация, Прогресс – всё это имена Неназываемого; возможно, причиной тому был его сумасбродный, – простецкий, как выражалась старая Цукерман, – образ жизни, который не уважают девяносто восемь процентов женщин («…эти парни не являются мечтой гламурных дур…»), а возможно, от того, что возлюбленная его умерла за несколько веков до его рождения, но так или иначе, а Вася жил один одинёшенек среди сотни знакомых, коммунальной своей семьи, нескольких друзей и ста сорока трёх миллионов совершенных незнакомцев. «Не умеете вы жить, Василий…» – укоризненно качала головой Роза Абрамовна. – «Босяк! Иван-дурачёк без царя в голове и камня за пазухой! Впрочем, и карманы ваши пусты! Вам бы жениться с умом!» – добавляла она, пряча что-то по многочисленным горшочкам и кастрюлькам. ««Так неуютно под пристальным взглядом умеющих жить!»» – вздыхал Вася и улыбался открытой, располагающей улыбкой; а когда на кухню выходила дурнушка Катя, поправляя на носу огромные круглые очки с сильными линзами, которую бросил муж с трёхлетней дочкой на руках, Вася улыбался всей своей необъёмной фигурой и читал с неожиданной для такого чудовища артистичной проникновенностью:
Коль видеть Вас, Екатерина, моя единая отрада,
Коль незаметен зной растерзанной души, и сердца пыл,
В объятиях мёртвого стального града
Вы не увидите моих широких крыл!
Катя улыбалась застенчиво и бросала на него восторженные взгляды, пытаясь быть красноречивой одним лишь своим видом.
«Эх, Катька, бросить бы тебе всё, да покинуть этот обречённый город вольной птицей, ищущей счастья!» – вздыхал уже серьёзно Вася. – «Не пойму я, чего ты тут сидишь! Ну, что тебя тут держит?!»
«А тебя?» – обижалась Катя и злилась.
«Я б давно уехал, если б не могила моей ненаглядной Алин, которую я никак не могу оставить!» – вздыхал Вася, и Катя, расстроенная в который уже раз, качала головой, мол, горбатого могила исправит, поправляла огромные очки и уходила, а Вася вновь оставался один-одинёшенек: и в самом деле Вася был одержим тремя сомнительными идеями, сиречь мечтами: первая: в пьяных посиделках с легендарным дядей Гриней, который, – тут же поясним, – являлся второй навязчивой идеей Василия, и которого никто никогда не видел, Вася часто утверждал, что он считает весьма сомнительной ту теорию общей влюблённости и предопределения всех судеб, которая непременно определяет всех влюблённых на один материк, как правило, в один город, и зачастую, даже в один университет, на одно место работы или даже в один дом, если не на один и тот же этаж. «На земле миллиарды людей!» – задыхался от возмущения Вася, потрясая тесную кухоньку своим громоподобным голосом. – «Миллиарды людей! Предположим, что природа или там Божественное Начало определили так, что каждому нужна вторая его половинка, родственная душа, так сказать! Пусть так, – это ещё можно принять и как-то логически обосновать, но разве в «Теории Вероятности» возможно такое, что все половинки всех живущих на сей планете, все влюблённые на земле непременно рождаются в одном близко стоящем временном отрезке, да к тому же всегда рядом территориально! Ну, это же просто невозможно! Миллиарды людей на планете и все те, кому предопределено встретиться и любить друг друга, всегда оказываются рядом! Это невозможно! «Теория Вероятности» подобное совпадение исключает напрочь! А что это значит?» – вонзал он в дядю Гриню свои небесно-голубые очи, попыхивая трубкой. – «Верно! Что девяносто процентов всех влюблённых – ни хрена не влюблённые! а просто поддавшиеся стадности бараны, которые боятся одиночества, а потому придумывают себе любовь, лишь бы не быть одному! Отсюда столько несчастных браков! Они хватают тех, кто покрасивше и поприятнее из ближайшего окружения и громко радостно вопят: «Я Тебя Люблю!», совершенно при этом ничего не зная про эту самую Любовь, потому что они не нашли её, не дождались, а возможно, и вовсе не могли её найти или дождаться, потому как вторая половинка в это время совершенно на другом континенте, али вообще ещё не родилась или двести лет, как умерла!»
«Как в твоём случае, Вася?» – добродушно улыбается дядя Гриня, глядя сквозь своё чёрное пенсне на горячего оратора.
«Да, примерно», – нехотя отвечает Василий.
«А что же с остальными десятью процентами, профессор?» – спрашивает дядя Гриня.
«???» – недоумённо глядит на него Василий, не замечая, что его трубка погасла.
«Ну, ты говоришь, что девяносто процентов влюблённых – врут и не влюблены, а остальные десять процентов? какова их Судьба?» – по-прежнему улыбается дядя Гриня.
«Пять из них действительно встречают суженого, а пять, зная то, о чём я сейчас говорю, ждут, ищут, но так никого и не встречают, не в состоянии преодолеть временные, географические или конструктивно-бытовые факторы. Они понимают, что в этом Мире и в это Время его второй половинки нет, но общему кретинизму не поддаются и коротают свой век совершенно одни!» – пожимает плечами Вася, мол, это очевидные вещи.
«Ты, значит, принадлежишь к последним пяти процентам?» – усмехается дядя Гриня, но Вася не обижается на него: он вообще никогда ни на кого не обижается! – «Но, Буян, ты же сам сказал, что признаёшь справедливость того, что каждому человеку суждено и предписано встретить свою вторую половинку… – замечает дядя Гриня, – а раз так, то уже по определению они должны родиться где-то рядом, в одно и тоже время или хотя бы так, чтобы пути их непременно имели шанс пересечься!»
Но Вася тяжело качает огромной бычьей головой.
«Вот я, Вася Пупкин, родился в России и встретил Машу Кастрюлькину и, допустим, мы полюбили друг друга! Истинно полюбили! А теперь предположим, что я родился не в России, а в Бразилии этим же самым Васей, пусть и с другим именем, а Маша Кастрюлькина так и осталась рождаться в России, и по социальному статусу она никогда не сможет покинуть свой островок, и мне будет без надобности лететь сюда… что ты думаешь, она никого не встретит в этой стране и никогда не выйдет замуж? даже интуитивно ощущая, что я где-то есть, чувствуя ритм моего сердца… Да конечно выйдет, я бы даже сказал – выскочит, ПОТОМУ ЧТО НАДО, А КАК НЕЗАМУЖНЕЙ-ТО?! И будет и дальше чувствовать меня, и понимать, что муж её – не её вторая половинка, но она будет замужем! БУДЕТ! Будет обманывать его и себя! И я в Бразилии, женясь на какой-нибудь фрау, буду жить с чувством неполноценности, которое с годами заглушу бытовухой и бренди, забыв навсегда свою единственную Кастрюлькину!» – с горькой досадой махал рукой Вася и наливал ещё по одной.








