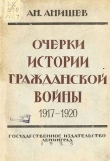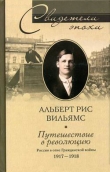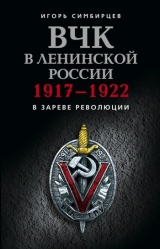
Текст книги "ВЧК в ленинской России. 1917–1922: В зареве революции"
Автор книги: Игорь Симбирцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Все это свидетельствует в пользу того, что Каплан все же была одной из участниц покушения. Второго стрелявшего, мужчину, видели несколько очевидцев покушения, но его так никогда и не нашли. Есть очень веское предположение, что это был эсер-матрос Протопопов, вскоре арестованный и очень поспешно расстрелянный ЧК. Он до 6 июля 1918 года тоже недолго сам был среди эсеров-чекистов и в истории с восстанием левых эсеров известен тем, что в момент ареста Дзержинского в отряде Попова именно этот лихой моряк отобрал у своего бывшего начальника по ВЧК револьвер и крутил ему руки. Это вполне возможно, ведь некоторые свидетели покушения сразу после выстрелов в Ленина характеризовали второго стрелявшего как «матроса». Семенов позднее в своих показаниях на процессе 1922 года называл вторым активным участником покушения члена своей боевой группы Новикова. Но сам Новиков, тоже бывший матрос-эсер из разбитого отряда Попова, себя признавал лишь подавшим сигнал о приезде Ленина на завод Михельсона, указавшим на Ленина не знавшей его в лицо Каплан и специально устроившим в дверях давку для отхода стрелков. Позднее в 1937 году Новиков опять «чистосердечно» признает в НКВД себя участником стрельбы в Ленина и будет расстрелян, но для истории такие признания не аргумент. По показаниям Семенова, кроме этого Новикову отводили и роль добивающего, если выстрелы Каплан и Протопопова не убьют Ленина, но Новиков приказа не выполнил и в раненого Ленина стрелять не стал, предпочтя скрыться с места покушения.
Семенов утверждал также, что его группа действовала в Москве если не по поручению всего ЦК партии правых эсеров, то хотя бы с ведома его членов, Гоца и Донского. А затем якобы Гоц с Донским отказались признать причастность партии к акции на заводе Михельсона, объявив Семенову партийный выговор за излишнюю инициативу, а попавшую в руки ЧК Каплан постановили считать непричастным к партии частным лицом. Хотя, как показывал Семенов, член партийного ЦК Анастасия Биценко вместе с ним и Коноплевой приезжала в тот день к заводу Михельсона, и у ворот завода они устроили сходку всей боевой группы, разогревая друг друга речами о предстоящем им великом деле. После чего Биценко забрала у Каплан предназначенную изначально для покушения бомбу, которую решили не использовать из опасения больших жертв случайных людей в заводском дворе, и покинула место покушения, дав приказ группе Семенова действовать. Все это выглядит очень правдоподобно, если учесть, что глава Московского отделения партии эсеров и опытная террористка Биценко организовала не одну подобную акцию, что из ее рук и Блюмкин получал бомбу, идя убивать посла Мирбаха. Но эти показания оказались очень удобными для ЧК тогда, да и позднее, когда бывшая эсерка Биценко после второго ее ареста по этому делу расстреляна в 1937 году вместе с Семеновым и Коноплевой.
А вот дальше спор между лидерами большевистского правительства и ведшими следствие руководителями ЧК и быстрый расстрел Каплан до выяснения всех обстоятельств покушения говорят в пользу того, что ни в каком детальном расследовании дела власть не была заинтересована. А получила из личности Каплан улики против эсеров и торопилась объявить назревший с ее точки зрения «красный террор». Советская спецслужба в лице всероссийской ЧК здесь еще выступала в нехарактерной для нее затем роли жесткого поборника законной процедуры, требуя отложить казнь и продолжать расследование. Слишком много в ее руководстве поначалу было искренних фанатиков революции, верящих еще в своеобразную, но все же этику своего дела, в ущерб «политической целесообразности», о которой им твердили в те дни Свердлов с Троцким. Дзержинский с Петерсом в чистом виде олицетворяли тогда именно класс этих революционных романтиков.
Именно об этой первой касте чекистов английский автор книги «Большой террор» Роберт Конквест справедливо заметил, что они действительно были похожи на российских Робеспьеров, что это «люди, у которых при всей их беспощадности можно найти некоторые своеобразные черты извращенного благородства». Многие искренние противники советской власти, ужасавшиеся «красному террору» первых чекистов, возмущались и обрушивались на Конквеста с критикой за такую характеристику. Но он попал практически в точку, уловив этот парадокс, к тому же словосочетание «извращенное благородство» вряд ли можно отнести к комплиментам в адрес дзержинскому племени, как и сравнение с такой небесспорной исторической фигурой, как якобинский вожак Максимилиан Робеспьер.
Когда руководивший в те дни всей властью в Кремле при раненом Ленине Свердлов уже 31 августа после первого же допроса Каплан потребовал у Петерса завершать расследование, чтобы дать официальное заявление ВЦИК о том, что стреляли правые эсеры из партии Чернова (повод для «красного террора»), Яков Петерс категорически воспротивился. Судя по дневниковым записям самого Петерса, дошедшим до историков после их изъятия при аресте в 1938 году, зампред ВЧК дал второму после Ленина человеку в Советской стране настоящий революционный отлуп с точки зрения законности: «Никаких ее связей с партией пока не выявлено, что она правая эсерка – говорит пока лишь она сама. А таких дилетантов, как мы, самих надо сажать!» Если верить запискам Петерса, опубликованным позднее в «Известиях», Свердлов на это раздраженно отвечал: «Ну так посадите самих себя, а эту даму выпустите!» – и поначалу уехал с Лубянки ни с чем. У себя в кремлевском кабинете в присутствии подчиненных из ВЦИК Свердлов в сердцах прошелся по ВЧК и лично по Петерсу, обвиняя их в чистоплюйстве и дилетантстве. К неудовольствию сторонников версии о провокации самой ЧК в истории с покушением на Ленина, похоже, что именно руководство ЧК собиралось продолжать детальное расследование и даже поначалу могло оспаривать мнение первых лиц советской власти. Петерс ждал возвращения из Петрограда своего начальника и кумира Дзержинского, уверенный, что будет поддержан Железным Феликсом в своей позиции не допускать преждевременной расправы с Каплан.
При этом никаким гуманизмом действия Петерса в те дни не пахли, он лишь требовал соблюдения советской же законности и детального расследования, а оппонентам постоянно заявлял, что лично-то он Каплан ненавидит и что сам готов ее расстрелять. Вряд ли тут уместно говорить о какой-то попытке Петерса помочь Каплан как старой революционерке-каторжанке, как считают некоторые историки, или уж тем более – из личной симпатии к ней как к женщине, как полагают самые романтичные из них. Петерс таким мотивам явно был чужд.
1 сентября 1918 года, отказываясь форсировать следствие, уже приехавшему на Лубянку члену большевистского ЦК Луначарскому Петерс повторил: «Пока никакой связи Каплан с правыми эсерами, кроме ее дружбы со Спиридоновой на акатуйской каторге при царе». Луначарский даже упрекнул чекиста-законника: «Вам, может быть, жаль ее?», а Петерс в ответ сразу завелся от такого упрека в мягкотелости: «Да мне она омерзительна, шла убивать Ленина, а в голове у нее мыло». Вырванную из контекста их разговора эту фразу можно понять как то, что Каплан пошла стрелять в вождя, не домыв как следует голову, что так оскорбило заместителя главы ВЧК. На самом же деле взрыв эмоций Петерса, ударившего при этом картинно кулаком в стол, вызвало совсем другое мыло: в промежутках между рассказами о деле 30 августа Каплан изливала ему свою душу, в том числе и важными для нее воспоминаниями о бесценном куске мыла, которое ей в тяжелый день дала соратница по каторге эсерка Спиридонова, чтобы она смогла помыться перед встречей с любимым террористом из рядов анархистов Виктором Гарским. По мнению Якова Петерса, переплетение великого злодейства в виде выстрелов в Ленина с мелодраматичными рассказами о каком-то куске мыла из далекого прошлого было оскорбительным для ЧК, хотя для самой партии эсеров такой тип мышления с переплетением террора с романтикой любви очень характерен. А затем Петерс так же упрямо повторял: «Мы ее расколем, не таких раскалывали! Но пока никаких улик против эсеров. Не забудьте, у нее за плечами одиннадцать лет каторги, а это огромный опыт!»
Идеализировать Петерса не стоит даже после этой истории, именно этот яростный «законник» в деле Каплан уже несколько месяцев спустя выступит на коллегии ВЧК со страшной инициативой брать в заложники членов семей офицеров-военспецов в Красной армии, расстреливая их в случае перехода самих военспецов к белым. И он же внесет в ЧК жуткое предложение «брать по телефону»: будучи направлен в 1919 году для зачистки Петрограда при наступлении на город белой армии Юденича, Петерс по-простому предложил арестовать всех находившихся в телефонной книге горожан, поскольку телефон тогда мог быть только у обеспеченных и не последних при царском режиме лиц. А в 1921 году Петерс был направлен Дзержинским руководить от ВЧК подавлением мужицкого восстания Антонова на Тамбовщине, и там он не протестовал против бойни войсками Тухачевского восставших крестьян с помощью химического оружия, а своим чекистам дал команду расстреливать всех захваченных в бою антоновцев мужского пола и старше восемнадцати лет. В том же году при занятии Красной армией Грузии Петерс и там будет возглавлять специальную комиссию ВЧК, вместе с назначенным начальником Тифлисской ЧК Панкратовым возглавляя массовые расстрелы, когда трупы горами валялись на Соборной площади Тифлиса (в 1938 году Панкратова и Петерса расстреляют за «троцкизм»). И везде в годы Гражданской войны проявлявший такое благородство по отношению к Каплан чекист Петерс выглядит уже почти маньяком и садистом. Он на коллегии ВЧК почти маниакально твердит: «За каждое посягательство на власть нужно отвечать так, что прежний «красный террор» перед этим побелеет». Понемногу такие заклинания даже в ВЧК Петерсу создадут славу левого экстремиста, что позднее приведет к потере поста первого заместителя при Дзержинском, а позднее и к выводу за рамки госбезопасности вообще. По свидетельствам очевидцев, во время расстрелов на Дону за стрелявшим лично в обреченных Петерсом бегал его восьмилетний сын и просил: «Папа, дай я стрельну». Знай об этом Конквест, он мог бы поменять свое мнение о личности зампреда ВЧК Петерса. Но против быстрого расстрела Каплан он действительно протестовал яростно и вполне искренне, видимо действительно тянул время и ждал приезда Дзержинского.
Хотя в советские газеты за подписью Свердлова и шла уже информация о том, что Каплан входила в боевую группу партии левых эсеров, в протоколах допросов террористки Петерсом эта связь так четко не прослеживается. Не подтверждалась и выдвинутая чекистами (тоже по намеку с верхов советского олимпа) версия об «английском следе» в покушении на Ленина. Петерс даже водил Каплан в камеру к арестованному послу Локкарту в надежде на невольную очную ставку, но английский дипломат и бывшая анархо-террористка друг друга не узнали и узнать не могли.
Локкарт затем тоже писал о двойственном впечатлении, которое за время ареста на него произвел занимавшийся им Петерс: одновременно чем-то к себе притягивавший и тут же своим железным фанатизмом ужасавший. Вот к Локкарту при допросах на Лубянке не применяли силовых методов, но вряд ли и здесь можно говорить о какой-то гуманности. Петерс его откровенно запугивал, по словам самого Локкарта: «Признавайтесь, Локкарт! Здесь у нас не такие поначалу молчали, а потом признавались, что рыли подкоп под проливом Ла-Манш!» По приказу Петерса, чтобы во избежание дипломатических проблем не трогать самого Локкарта, но сломить его волю и вынудить давать нужные показания, на глазах англичанина чекисты до полусмерти избили какого-то арестованного уголовника, а затем на его глазах увели на расстрел сокамерника – бывшего при царе начальника Департамента полиции (тайного сыска Российской империи) Степана Белецкого. И если опять же верить Локкарту, после всего этого, когда он был выпущен, Петерс спокойно подошел к нему и сказал: «Вы меня проклинаете после всего этого и считаете врагом, а я лишь выполнял свой революционный долг. У меня ведь, Локкарт, жена-англичанка осталась в Лондоне, а почта давно не работает, не передадите ли ей мое письмо?» Вот такой, мягко сказать, неоднозначный человек был Яков Петерс. Пусть уж читатель сам судит, можно ли вслед за Конквестом или Локкартом назвать такую породу людей личностями с извращенными понятиями о благородстве, или речь скорее идет о явной патологии.
Характерно при этом, как метались чекисты в попытках привязать Каплан к какой-нибудь организации. Не подошли англичане, не подошли затем левые эсеры (уже арестованная после событий 6 июля Спиридонова и ее соратники от связей с Каплан сразу отреклись, с «левоэсеровским следом» Свердлов явно поторопился), тогда стали разрабатывать версию правых эсеров. В конце концов, признавшие позднее свое руководство действиями Каплан и организацию самого покушения Семенов и Коноплева входили именно в правую фракцию разветвленной тогда партии эсеров. Когда участников этой группы в 1937 году повторно арестовали и расстреляли, разница между левыми и правыми крыльями партии эсеров, видимо, для советской власти уже окончательно стерлась. Ведь и лидеров левых эсеров, казалось бы реабилитированных в 1918 году по этому делу, в 1937 году тоже повторно арестовывали, и их в НКВД, как Спиридонову и Биценко, тоже заставили признать руководство действиями Каплан летом 1918 года. Но тогда уже шпионы, работавшие сразу на несколько иностранных разведок, никого не удивляли, так же не удивляла и давно казненная террористка, получавшая задание сразу от нескольких независимых друг от друга партийных групп.
2 сентября Свердлов вызвал Петерса в правительство для отчета о расследовании и опять завел свое: «Она же призналась, вношу представление: расстрелять». Петерс вновь уперся: «Одно признание – не доказательство». Свердлов напомнил о целесообразности, и Петерс бросил ключевую в этой дискуссии фразу: «С дела Каплан мы имеем шанс раз и навсегда отказаться от подмены закона какой бы то ни было целесообразностью!» Здесь Свердлов вышел из себя и рыкнул на Петерса: «Мы начинаем в ответ на выстрелы в Ильича «красный террор», а Каплан мы сегодня же у вас заберем, вам это понятно? Тогда идите!»
На этой истории стоило остановиться столь подробно даже независимо от дела Каплан и его роли в начале кампании «красного террора». Здесь один из первых ключевых узлов сложной истории взаимодействия советской власти и ее служб госбезопасности. Это был недолгий период романтически-кровавой фазы советской истории, и часть руководства ЧК еще считала себя носителем некоей революционной истины, имеющей право столь яростно оспаривать решение верховной власти в Кремле, видимо полагая это право происходящим от собственных заслуг в революции и определенного стиля военной демократии ленинской Советской России. Очень скоро таким отношениям придет конец, и власть просто встроит органы советской госбезопасности в свою машину в качестве послушного механизма. В истории же с Петерсом и Каплан упрямство законника в чекистской кожанке было сломлено еще быстрее. Уже утром 3 сентября на Лубянку явился конвой во главе с комендантом Кремля Мальковым и едва ли не силой по указанию Свердлова отобрал арестованную у чекистов Петерса, продолжавшего твердить о букве закона и необходимости продолжать следствие. Петерс так с этим и не смирился, от ВЧК решение о расстреле подписывал вместо него член коллегии этой спецслужбы Варлам Аванесов, перед уходом в чекисты работавший как раз при Свердлове во ВЦИК одним из свердловских заместителей.
В свете этого спора становится понятно, почему Каплан вопреки очевидной логике и практике тех лет расстреливали в Кремле не чекисты, а кремлевский комендант из революционных матросов Мальков и зачем-то увязавшийся с ним участвовать в казни женщины пролетарский поэт Демьян Бедный. Каплан была расстреляна в тот же день, ее тело Мальков сжег в кремлевской подсобке, любознательный поэт Демьян Бедный при этом упал в обморок, а масса вопросов и недоговоренностей в этом деле осталась, порождая все новые версии о заговорах.
В том числе, например, и довольно экстравагантную версию о заговоре против Ленина самого Свердлова, о борьбе фракций в верхушке большевиков (наиболее расширенно эту версию разрабатывал историк советских спецслужб Ю.Г. Фельштинский, полагая главным подозреваемым именно Свердлова), в которой ЧК могла и не участвовать, а потому так сопротивляться свердловским инициативам быстрого расстрела. И сейчас странная позиция Свердлова, едва ли не одновременно с прозвучавшими на заводе Михельсона выстрелами в партийного вождя озвучившего обвинение партии эсеров, а затем столь истово настаивавшего на свертывании дела и расстреле Каплан, вкупе со странной историей с сейфом Свердлова, приковывают к нему внимание многих исследователей как к подозреваемому в организации этого покушения на Ленина:
«Так почему же Свердлов так торопился? Почему так старательно заметал следы? Одни считают, что убивать Ленина никто не собирался, а его кровь надо было пролить для того, чтобы организовать красный террор. Другие уверены в том, что Свердлову, в руках которого к лету 1918 года была сосредоточена вся партийная и советская власть, необходимо было стать еще и Председателем Совнаркома, то есть главой правительства, а эту должность занимал Ленин. Вот Свердлов с помощью преданных ему и недовольных Лениным лиц из чекистской верхушки и организовал Ильичу, как тогда говорили, «почетный уход из жизни смертью Марата». Подчеркиваю, это – версии, правда никак не опровергнутые, но всего лишь версии. Я ни в одну из них не верил, пока не обнаружил в одном из архивов уникальный по своей мерзости документ. Оказывается, еще в 1935 году, то есть через шестнадцать лет после довольно странной смерти Свердлова от испанки, тогдашний нарком внутренних дел Генрих Григорьевич Ягода (он же Енох Гершенович Иегуда) решился вскрыть личный сейф Свердлова. То, что Ягода в нем увидел, повергло его в шок, и он немедленно отправил Сталину секретную записку, в которой сообщал, что в сейфе обнаружено: «Золотых монет царской чеканки на 108 525 рублей, 705 золотых изделий, многие из которых с драгоценными камнями. Чистые бланки паспортов царского образца, семь заполненных паспортов, в том числе на имя Я.М. Свердлова и его родственников. Кроме того, царских денег на сумму 750 тысяч рублей…» Так что дыма без огня не бывает. Один из большевистских вождей по фамилии Свердлов на поверку оказался то ли взяточником, то ли коррупционером… Нет никаких сомнений, что, как только у стен Москвы оказался бы первый казачий разъезд, человек с партийной кличкой Макс, он же Малыш, Андрей и Махровый, открыл бы свой неприметный сейф, побросал бы его содержимое в чемодан и рванул бы туда, где не требуют партийных характеристик, а интересуются лишь суммой банковского счета».[1]1
Сопельняк Б.Н. Три покушения на Ленина. М., 2005. С. 282–283.
[Закрыть]
Петерс же исходом этого спора и свертыванием расследования о выстрелах на заводе Михельсона был подавлен. Если верить тем же дошедшим до нас его дневниковым блокнотам, в момент приезда за обреченной Каплан Малькова с солдатами он колебался между тем, не застрелить ли Каплан при них самому или не отказать ли пришедшим и защищать Каплан для дальнейшего следствия с оружием в руках, «а затем застрелиться самому», – мрачно видит итог такой своей акции Петерс.
В свете вышесказанного здесь в искренность Петерса можно поверить, и версия участия ЧК в разыгранном фарсе с покушением на Ленина становится совсем зыбкой. Уж если бы такой заговор под режиссурой председателя советского ВЦИК и второго после Ленина человека в партии большевиков Свердлова и был, то явно не вся верхушка ВЧК оказалась в него посвящена или дело вообще организовывалось в обход ЧК. Хотя при всем этом необходимо заметить, ни Фельштинский, ни Сопельняк, ни другие обвиняющие в организации этого покушения Свердлова историки так и не привели против Якова Михайловича никаких убедительных улик его вины, каким бы отталкивающим ни являлся его образ. История со вскрытым Ягодой годами позднее свердловским сейфом и его занятным содержимым – это правда, но лично я не очень понимаю логики такого мостика перехода: будь Свердлов трижды взяточником и безыдейным вором, собиравшимся сбежать за рубеж в случае краха ленинцев, – как из этого следует его авторство в покушении на своего шефа.
Петерс же переживал в этой истории, похоже, больше всех. И переживал явно не за расстрелянную Каплан, а за попранную, по его мнению, революционную справедливость и отказ считаться с озвученной им позицией ВЧК, за это поражение в споре с властью в лице Свердлова, включившей, говоря нынешними словами, в этот спор административный ресурс. Пе-терс даже написал в личном дневнике, что в тот день, отдав Каплан на расстрел, он перестал быть праведником и потерял право быть чему-то судьей.
В этой драматичной и запутанной подковерной борьбой эпопее особенно интересна именно нестандартная для многих последующих поколений чекистов принципиальная позиция Петерса. Яков Христофорович Петерс, второй человек в ВЧК в первые ее годы за спиной Дзержинского, одна из лучших иллюстраций всего этого «романтического среза» первого поколения чекистов, олицетворяемого также Лацисом, Блюмкиным, Трифоновым, Атарбековым, Скрыпником, Манцевым, Евсеевым и подобными им дзержинцами первого призыва. К ним же явно относился и убитый в 1918 году Урицкий, даже фактом своей смерти оказавший ЧК посмертную услугу, позволив развязать ей руки в «красном терроре». По воспоминаниям многих, глава Петроградской ЧК, как и Петерс, мог спокойно визировать длинные списки обреченных на смерть, но был зациклен на соблюдении революционной законности, даже запрещая своим сотрудникам пытки при допросах. Он мог позволить себе в начале 1918 года отпускать царских сановников, как бывшего при царе премьер-министром Коковцова, поскольку они «не были уже опасны советской власти и могли бы стать свидетелями на народном суде над Николаем Романовым», но спокойно приказал казнить молоденьких юнкеров из Михайловского училища. И тот же Урицкий приказал держать под арестом как заложников великих князей Романовых, которых ЧК в Петрограде должна была бы казнить в случае теракта против кого-либо из советского руководства страны – их и расстреляли в начале 1919 года в качестве мести за убийство самого Моисея Урицкого. Некоторые фанатики из питерской ЧК даже просили Дзержинского прислать из Москвы нового начальника Петроградской ЧК, обвиняя Урицкого в мягкотелости, а он просто, как и Петерс, был фанатиком революции иного рода, с той самой «извращенной системой своих понятий о законности» по Конквесту.
Как и многие из них, Петерс пришел в ЧК уже с опытом подпольной работы среди социал-демократов Латвии и даже террористической работы. В 1911 году, скрываясь после бурных событий 1905 года в Лондоне, он стал участником знаменитого «инцидента в Хаунсдиче», где латышские социалисты устроили для нужд революции экспроприацию ювелирной лавки и перестрелку с полицией. Эту группу возглавлял двоюродный брат Петерса Фриц Думниекс, убитый здесь же, в Лондоне, в перестрелке с британскими полицейскими. Думниекс (в Великобритании он жил и был похоронен по подложному паспорту на фамилию Сваарс) не был большевиком, он возглавлял анархистскую террористическую группу латышей Лиесма в эмиграции. Именно Думниекс с соратниками по Лиесме Вателем и Малером устроил налет на лавку лондонского ювелира. А после окружения полицией их логова на Сидней-стрит они более двух часов вели бой с британскими полицейскими и подошедшими к ним на помощь шотландскими стрелками гвардии, пока от пуль полиции в дыму подожженного дома Думниекс и Ватель не погибли. Сам кузен лихого анархо-террориста Яков Петерс впрямую в налете и этом знаменитом бою с полицией в Лондоне не участвовал, но он был арестован как соучастник террористической деятельности Думниекса в числе других латышских политэмигрантов в Англии. Участие в партии большевиков не мешало Петерсу сотрудничать с группировкой анархистов двоюродного брата, как и быть связным латышских социал-демократов с ирландскими боевиками молодой еще тогда ИРА и ее политического крыла Шинн-Фейн в Лондоне.
Петерс после недолгого заключения был английской Фемидой помилован и вернулся в Россию, расставшись перед отъездом со своей английской женой Мэй Фримэн. Здесь в 1917 году он и получил должность зампреда ВЧК. По его собственным воспоминаниям, 7 декабря 1917 года они с Дзержинским сидели в полупустом доме бывшего питерского градоначальника на Гороховой улице, и с ними было всего 23 человека, вся канцелярия будущей ЧК была еще в тоненькой папке Дзержинского, а вся касса молодой спецслужбы – в кармане шинели Петерса. Они думали, с чего начать строительство первой советской госбезопасности, как полагали – временного и необходимого лишь на первых порах органа, оказалось – будущего монстра-спецслужбы почти с вековой историей, и кого-то из них этот монстр съест через двадцать лет. А Ленин называл Дзержинского Робеспьером российской революции, прося Петерса быть при нем искренне-восторженным Сен-Жюстом. Петерс действительно по типажу похож на вдохновителя якобинского террора Французской революции Сен-Жюста.
Эти двое тогда действительно сливались в один тандем и во многом были похожи, всю историю ВЧК в 1917–1922 годах они возглавляли эту службу. Только с 1920 года Петерс несколько отходит на второй план после споров с Дзержинским, его на посту первого зама председателя ВЧК заменяют на гораздо менее фанатичного Иосифа Уншлихта и затем направляют с понижением руководить ЧК в Туркестанском крае. За эти несколько бурных лет, когда каждый год по насыщенности его событиями шел за десяток иных мирных, состав коллегии, руководящей всероссийской ЧК, сменился несколько раз, там побывало свыше четырех десятков чекистов. И только три человека состояли членами всех составов коллегии ВЧК: Дзержинский и два его ближайших заместителя Петерс с Ксенофонтовым. Остальные главные руководители первого поколения чекистов в разные годы то появлялись в коллегии, то выбывали из нее в связи с отправкой их на усиление ЧК на фронты Гражданской или на другую партийную работу: Аверин, Манцев, Лацис, Полукаров, Фомин, Пузырев, Яковлева, Кедров, Аванесов, Уралов, Пульяновский, Медведь, Менжинский, Эйдук, Корнев, Ягода, Мессинг, Чугурин, Ковылкин, Жиделев и др. И только эти трое всегда на месте и у руля ЧК, как в Древнем Риме его республиканского периода им управляли тройки «триумвиров». Хотя в чекистском триумвирате, в отличие от древнеримского, Дзержинский по своему месту все же был почти императором, а Петерс с Ксенофонтовым – верными проконсулами при нем. Самим же им, безусловно, ленинское сравнение с Робеспьером и Сен-Жюстом понравилось бы больше. И если Дзержинский с Ксенофонтовым не повторили в точности пути Робеспьера, умерев своей смертью в один, 1926 год, то Петерс, которому Железный Феликс перед смертью завещал хранить в органах госбезопасности дух той первой ЧК, путь Сен-Жюста прошел до конца, сам в итоге став жертвой им же запускаемой машины чекистского террора. Сталин, на людях подчеркивая свое неизменное уважение к Петерсу, именуя его пафосно «последним романтиком революции», постепенно убрал Петерса из госбезопасности, а затем и его в свой час отправил на заклание. Бывшие коллеги по ЧК, именуемой теперь НКВД, пришли в 1938 году к советскому Сен-Жюсту домой, раздавив при обыске ногами его ордена, и увезли в подвалы так знакомой ему Лубянки, где в апреле этого года Яков Петерс был расстрелян.