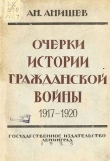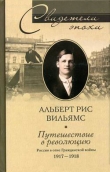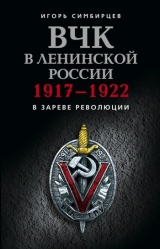
Текст книги "ВЧК в ленинской России. 1917–1922: В зареве революции"
Автор книги: Игорь Симбирцев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
По логичной версии разбиравшегося с этим делом Щорса – Дубового военного историка Н.С. Черушева в его книге «Невиновных не бывает» о репрессиях в РККА: Дубовой просто попытался затянуть время на следствии или надеялся «переквалифицироваться» из заговорщиков в банальные убийцы пусть и героя Гражданской войны. В связи с этим Н.С. Черушев вообще не верит ни в убийство Щорса кем-то из собственных красных рядов, ни в результаты эксгумации его тела в 1949 году для проверки этой версии о странных пулевых отверстиях в черепе трупа, который некоторые упорно считают останками Щорса. В любом случае видно, как была все эти двадцать лет живуча версия о гибели Щорса от пули из собственных рядов, раз и Дубовой в безысходной ситуации за нее ухватился.
Там же, в Украине, очень популярный, хотя и менее в истории известный, чем Щорс, командир красных партизан Василий Боженко, выбивавший со своей партизанской «Таращанской дивизией» Петлюру из Киева, узнал, что его жена за что-то арестована и расстреляна в молохе «красного террора» в подвале Киевской ЧК в 1919 году. Его комиссар успел сигнализировать, что Боженко собирается взбунтовать верных ему бойцов и пойти разгромить ЧК в Киеве в отместку. Боженко мог стать неуправляемым и опасным атаманом типа Махно или Григорьева, но ЧК успела тихо ликвидировать его путем отравления ядом прямо в его партизанском лагере. В советской истории Василий Боженко остался несгибаемым большевиком и борцом за советскую власть на Украине, которого якобы отравили подосланные наемники из петлюровцев.
При схожих обстоятельствах в том же 1919 году погиб другой кумир украинских большевистских партизан Тимофей Черняк, командир известной «Чертовой бригады» красных и комбриг РККА. Его убили прямо в штабе полка Красной армии, как объявлялось в советской истории – посланные то ли белыми, то ли петлюровцами наемники. По более ранней официальной версии, красноармейцы из партизанской братии Черняка элементарно взбунтовались на станции Ровно, командир вышел с ними поговорить в защиту советской власти, но собственными озверевшими бойцами поднят на штыки. Хотя странная смерть Черняка в штабе посреди красных войск почему-то ЧК даже не расследовалась, очень похоже на случай со Щорсом.
Такое количество странных смертей неуправляемых, но очень полезных поначалу вождей «красной партизанщины» порождало слухи об их тайной ликвидации ЧК даже в тех случаях, когда смерть наступала в боях с врагами или от болезни. Как и в случае со Щорсом, руку ЧК видят в гибели популярного красного командира Василия Киквидзе, убитого на Дону в бою с белыми казаками Краснова в начале 1919 года. В годы Гражданской войны была устойчивая версия, что и слишком необузданного бывшего левого эсера Киквидзе застрелили в спину во время атаки чекисты, а не сразила в бою казачья пуля. Пусть в случае с Киквидзе никаких доказательств его ликвидации ЧК нет, но сама такая тенденция характерна, эти слухи появились не на пустом месте, а после расправ с Сорокиным, Щорсом, Калашниковым, Думенко и другими похожими личностями.
Заметим, что в небольших масштабах эта тенденция затронула в те годы рикошетом даже противоположный лагерь белых, где вообще-то такие тайные расправы с «белыми партизанами» не практиковались. Но и в рядах Добровольческой армии и затем в белой эмиграции был устойчивый слух, что решительного и ультраправого добровольческого генерала Дроздовского в январе 1919 года в госпитале после ранения отравили тайно чины белой же контрразведки по приказу не любившего его главкома Деникина. Хотя Дроздовский умер неожиданно от начавшегося заражения крови при не самом опасном для жизни пулевом ранении в ногу, в эту версию все же совсем уж трудно поверить, не говоря уже о полном отсутствии тут доказательной базы. Скорее всего, эпидемия таких изъятий со стороны ЧК «красных партизан» в 1918–1920 годах просто забросила свою бациллу подозрительности через фронт в белый лагерь, как гуляла, невзирая на линию фронта от белых к красным и обратно, в те годы эпидемия тифа или испанки.
В Средней Азии командир Туркестанского фронта красных Фрунзе практиковал переманивание ряда басмаческих командиров с их отрядами в Красную армию, где их бандам присваивали номера красноармейских частей и направляли бить непримиримых лидеров бандформирований. Многие из таких поверивших Фрунзе «красных басмачей», честно воюя долгое время за установление в здешних краях советской власти, когда в них отпала надобность, также «изъяты» или ликвидированы чекистами. Так известный узбекский курбаши басмачей Ахунджан, к тому времени уже долго возглавлявший очередной «красный туркестанский полк», после одержанных побед выстроен со своим полком на парад на центральной площади Андижана. Здесь весь полк бывших басмачей и примкнувших к ним узбекских дехкан окружен и под прицелом пулеметов красноармейцев разоружен, Ахунджана чекисты арестовали еще раньше в штабе полка.
Отчасти еще можно понять ликвидацию чекистами тех красных командиров, кто открыто и недвусмысленно выступил вдруг с оружием против советской власти, как Калашников, Найда, Рогов, Лубков или Монстров, здесь есть еще элемент самозащиты в условиях кровавой Гражданской войны. Так под Царицыном был разгромлен отряд взбунтовавшегося против красных анархиста Петренко, до того действовавший в подчинении Красной армии, но ударившийся в грабежи. Петренко сразу после пленения расстрелян ЧК, но в этом хотя бы была суровая логика войны. Так был в Симбирске летом 1918 года застрелен при подавлении «муравьевского мятежа» красный командующий Восточным фронтом Муравьев. Он официально был левым эсером, не скрывал после событий 6 июля своей враждебности советской власти, поднял на нее свои части, арестовал в Симбирске Тухачевского, а сам его мятеж позднее открыл путь в город белым и чехословацким легионерам.
Таким же левым эсером был командир дивизии Сапожков, долго и удачно воевавший на Урале против Колчака, а в 1920 году также открыто развернувший свои части против Советов, его также ликвидировали вместе с большинством приближенных. Сапожков, как и лидер сибирских анархистов-партизан Рогов, даже в той разноголосице платформ и лозунгов отличился совсем уж экстравагантным изложением своей политической цели, он тоже был «За большевиков, но против коммунистов». Кажется, у Василия Ивановича Чапаева в культовом советском фильме была совсем обратная установка, но он хотя бы помнил, что он за тех, где вождем Ленин. Свою же чудную формулу Сапожков объяснял уральским крестьянам выдуманной им же в пугачевской манере байкой, что в Москве РКП(б) раскололась на две фракции «коммунистов» и «большевиков» и первые за тиранию и продразверстку, а вторые вместе с Сапожковым – за простой народ и свободы. Так что анекдотический вопрос дремучего крестьянина в фильме «Чапаев»: «А ты, Василий Иванович, за большевиков или за коммунистов?» – не возник на пустом месте, не придуман режиссерами Васильевыми, он отзвук нашей истории. Оригинальнее «большевиков, которые против коммунистов» вроде Сапожкова и «левее всех левых» вроде анархиста Рогова в своей платформе за все годы Гражданской войны оказался их собрат и народно-партизанский вожак в Сибири Петр Щетинкин. Он руководил крупной Тасеевской группировкой партизан и сражался против белых, но и советскую власть признавал с оговорками, хотя позднее официально вступил в РКП(б) и участи Рогова или Сапожкова избежал. Он после Гражданской войны официально перешел в чекисты, был представителем ГПУ в дружественной Монголии, где и умер в 1927 году. А в эти бурные годы нашей Гражданской Щетинкин своим бойцам и крестьянам в селах вдоль Енисея так излагал поначалу свою политическую платформу: «Я монархист, я за государя императора, я против свергшей его Февральской революции и стоящих за нее разрушителей России – белых Колчака и Деникина». И тут же рассказывал ошарашенным сибирякам: «А вы знаете, что в Москве монархисты во главе с великим князем Николаем Николаевичем Романовым в союзе уже с Лениным и Троцким, и все они с нами за сильную неделимую Россию, а Колчак с Деникиным против нее – они дружки Керенского. Призываю всех православных встать с князем Николаем и Лениным против белых на защиту святой веры и России от поругания кадетами!» Приз за оригинальность политической идеи будущему большевику Щетинкину за всю Гражданскую войну следует отдать безоговорочно. И как только люди того времени в этом потоке идейного бреда со всех сторон вообще умудрялись ориентироваться, когда иные «политики» свою платформу формулировали: «чуть левее правых эсеров и немного правее левых эсеров»?
Можно понять еще ликвидацию тех ультрареволюционеров из красных командиров, кто просто взбесился, не признавал уже никакой власти и творил даже не санкционированные Советами зверства на фронтах Гражданской. Речь о том же Сорокине или сорвавшемся с цепи бравом сибирском партизане Тряпицыне. Он, оставаясь крупным красным командиром (себя при этом именуя то большевиком, то эсером, то анархистом), без приказа пронесся по Амуру, сея кругом смерть и массовые казни, из-за резни тряпицынским отрядом японских граждан в Николаевске-на-Амуре и убийства им же здесь 80 японских солдат у Советской России едва не начался очень несвоевременный тогда вооруженный конфликт с Японией. Сам Ленин телеграфировал своему сорвавшемуся в резню солдату, что убийства японцев необходимо немедленно прекратить, на что в Москву от Тряпицына ушла недвусмысленная ответная депеша: «Тебя самого, Ленин, поймаю – повешу!» С Тряпициным все стало ясно. Обезумевшего Тряпицына тайно захватила вместе с его штабом специально прибывшая команда чекистов и тут же расстреляла партизана-анархиста вместе с его начальницей штаба и любовницей Лебедевой-Кияшко, зверствовавшей в этом походе не меньше своего друга. Во всех таких и подобных им случаях в годы Гражданской войны, как мы видим, происходивших повсеместно от приморских сопок до степей Украины, чекистам обстановка часто не оставляла другого выхода, а подобные жертвы чекистских расправ сами часто ставили себя вне всякого закона.
Речь о другой тенденции, когда часто по не столь очевидным основаниям ликвидировали командиров типа Филиппа Миронова уже после того, когда они столько сделали на фронте для этой же советской власти. Или о главном командире латышских красных стрелков Вацетисе, подавившем для советской власти мятеж левых эсеров в Москве летом 1918 года, осенью того же года стабилизировавшем Восточный фронт и отбившем у белых Казань с Симбирском и вообще столько сделавшем для становления Красной армии, где он был одним из первых ее главкомов. После всех этих заслуг перед Советами Вацетиса уже в конце 1918 года едва не арестовали чекисты при первых же неудачах красных войск под Казанью. Годом позже все же арестовали, и глава чекистов в Сибири Павлуновский долго допрашивал главного «красного латыша» на предмет его сомнений в советской власти. При этом сразу вспомнили об офицерском прошлом Вацетиса в царской армии и сразу забыли, как этот человек тревожным утром 6 июля 1918 года расставлял своих латышских стрелков на позиции в Кремле в день эсеровского мятежа, а в Казани водил их лично в атаку с винтовкой в руках и сам у пулемета дрался в окружении белых в Казанском своем штабе, пробившись из города с остатками войск только ночью.
После Гражданской Вацетиса направили на заурядную должность советского служащего, а уже в 1937 году все же добили пулей в чекистском подвале. А его арест ЧК в 1919 году повлек за собой еще и ряд арестов в Главном штабе РККА, так называемое дело о «заговоре в Полевом штабе», когда были арестованы приближенные к Вацетису военспецы из царских офицеров-штабистов Исаев, Доможиров, Григорьев и другие. Эти аресты военспецов в поисках заговора в Полевом штабе РККА коснулись и молодого Разведупра, где в числе этих «заговорщиков» ЧК арестован Вольдемар Зиверт, до революции кадровый военный разведчик царского Генштаба.
Чуть позже ЧК провела массовые аресты бывших морских офицеров и в морском штабе РККА, что осталось в архивах чекистов как операция «Вихрь», начавшаяся с доноса на товарищей некоего Павловича. Как и в случае с арестованными штабистами, дело закончилось ничем, ведший его чекист и родной племянник Дзержинского Роман Пилляр приказал моряков освободить, а ложного доносчика арестовали и позднее расстреляли. Хотя тогда дело «Полевого штаба» заглохло, после оправдания Вацетиса были амнистированы и арестованные военспецы, но в 1937 году советские спецслужбы довели дело Вацетиса до логического конца.
А сколько советских партийных деятелей или красных командиров чином поменьше пали от рук чекистов в подобных историях за 1918–1922 годы, просто не счесть. Ведь были еще истребляемые часто по ничтожным поводам военспецы из бывших царских офицеров, помогавшие отстроить Красную армию, у которых еще и семьи по бесчеловечной традиции в тылу оставались в заложниках у чекистов. А первым признавший советскую власть из генералов царского Генштаба военный разведчик Клембиовский, расстрелянный по первому же подозрению в контактах с белыми на юге. А брошенный в камеру и с трудом вышедший из нее за одно письмо другу-офицеру самый знаменитый советский военспец генерал Брусилов.
Военспец из царских генералов Селивачев, командовавший в РККА армией на Южном фронте и яростно противостоявший наступлению Деникина на Москву, осенью 1919 года внезапно скончался в своем штабе: как предполагают не без оснований, его тайно отравили чекисты из особого отдела после телеграммы Ленина из Москвы в Реввоенсовет Южного фронта о полученных сведениях об измене Селивачева и его контактах с белыми. Селивачев был из старого офицерства, еще летом 1917 года за участие в выступлении Корнилова его арестовали как правого заговорщика в армии, он сидел в Быховской тюрьме под следствием вместе с Корниловым, Деникиным, Романовским, Марковым. Затем его судьба сделала кульбит, и Селивачев оказался против своих бывших товарищей в Красной армии военспецом, защищая от деникинцев Царицын и отбивая в 1919 году их поход на Курск и Орел. Вроде бы Селивачевым был очень недоволен в Царицыне Сталин, жаловались на царского генерала и другие командиры РККА вроде Ворошилова, и телеграмма из Москвы могла повлечь тайную ликвидацию Селивачева, хотя по официальной версии в истории он умер от гулявшего тогда по фронту тифа.
И что говорить о царских офицерах, изначально подозреваемых в контрреволюции и сочувствии белым, когда в неразберихе тогдашних фронтов легко стреляли, не разбираясь, в своих, и чекисты часто оказывались на передовой такого «дружественного огня». Мне в этой традиции искать постоянно внутреннего врага в своих рядах, «пробравшуюся в ЧК контру», в отстрелах самых верных еще вчера бойцов за советскую власть видится начало будущей большой дороги выкашивания собственной проверенной гвардии с кульминацией в сталинские чистки конца 30-х годов.
В истории царских тайных служб до 1917 года такой мотив регулярных расправ со своими сотрудниками был совершенно нехарактерен, за исключением совсем уж древних времен опричнины Ивана Грозного. Зато он очень характерен для революционного подполья последних десятилетий империи Романовых, откуда в большом количестве ленинские спецслужбы черпали свои руководящие кадры. Много уже написано и сказано о предложениях не последних людей в большевистском подполье Камо или Свердлова проверять новых товарищей фальшивым арестом с переодетыми жандармами и пытками, а не выдержавших такой проверки тайно ликвидировать, как нестойких борцов за счастье трудового народа. Тогда широкой поддержки это начинание Камо не нашло даже у Ленина и ЦК большевистской партии. После октября 1917 года Свердлов с Камо оказались среди руководителей Советской России, а их товарищи из боевиков часто шли в ЧК или Разведупр РККА, и эта идея опять всплывала различными жестокими экспериментами и проверками собственных рядов.
Традиция же использовать людей в трудные дни на фронтах Гражданской войны, а затем за отсутствием уже в них особой необходимости сводить с ними счеты за старые грехи перед большевиками или просто за неправильное происхождение периодически просачивалась со страниц книг или из кадров кинофильмов о Гражданской войне даже в советское время.
Поэтому мало кого удивляло, и даже советская цензура не пыталась скрыть, отчего бравый командир в исполнении Ролана Быкова из фильма «Служили два товарища» был всего лишь разжалован в рядовые в Красной армии после бессудного (и, похоже, безмотивного) убийства офицера-военспеца, при этом оставаясь в кинофильме вполне положительным героем, рабочим рубахой-парнем. Или почему в «Тихом Доне» Григорий Мелехов, даже отслужив в Первой конной армии РККА и повоевав с поляками, по возвращении в родную станицу по-прежнему вынужден прятаться и бегать от сверхбдительных товарищей, собирающихся спросить с него за давнюю службу у белых и за участие в Верхнедонском восстании. Этот мотив мстительности и прагматичности одновременно, когда давали власти Советов послужить, а затем вспоминали прошлые претензии к людям, был в Гражданскую войну в ЧК так распространен, что даже выхолощенное идеологией советское искусство его не могло скрыть.
То же можно сказать и о вызревшей в недрах ЧК в годы Гражданской войны традиции мистификации заговоров или умышленного раздувания действительно существующих заговоров для оправдания масштабных репрессий «красного террора». Из этого же ряда и попытка прикрыть некоторые свои акции действиями бесконтрольных банд «зеленых», в огромном количестве плодившихся по просторам Гражданской войны. Это же сам Ленин писал Дзержинскому и зампреду Реввоенсовета Советской России Склянскому в столь часто цитируемой теперь телеграмме осени 1920 года: «Прекрасный план. Под видом «зеленых» (мы потом на них свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков». И такие приказы в ЧК исполняли, слово Ленина здесь было законом.
Прятать собственный террор ЧК за безликих «зеленых», за истреблявших якобы Романовых в Пермской губернии погорячившихся рабочих, за убивших поверивших советской амнистии белых генералов «мстителей», за «убившего без суда изменника Сорокина» простого красноармейца – все это давало ЧК еще одну прививку. Здесь власть и ее спецслужба даже отказывались признать часть своего террора, легитимизировать его хотя бы в рамках своей социалистической законности.
Отсюда затем со временем пойдут нагромождения лжи ГПУ – НКВД – МГБ – КГБ по самым различным поводам, даже там, где могли бы сослаться просто и на исполнение собственных законов. Отсюда отказ признать похищения белых генералов в эмиграции, отсюда подписанные в подвалах Лубянки бредовые показания о работе одновременно на множество разных заграничных разведок. Отсюда объявления родственникам уже расстрелянных НКВД людей о «десяти годах без права переписки». Отсюда затем внезапные катастрофы и подозрительные инфаркты у неугодных власти лиц. И много чего еще вышло из этой первой лжи, хотя кровь вполне официального и разрешенного «красного террора» 1918–1920 годов, казалось бы, позволяла признавать свою руку в большинстве таких дел.
Дела о раздутых в ЧК антисоветских заговорах или полная их фальсификация тоже берут свои истоки в эпоху «красного террора» времен Гражданской войны. Настоящие тайные организации в тылу Советов, бесспорно, тоже были и раскрывались чекистами. Были и достаточно сильные подпольные офицерские организации, способные на антисоветский мятеж и захват целых губерний, как это случалось в Самаре, Ярославле, Сибири, Закаспийском крае. Был достаточно сильный «Монархический центр» в Москве и «Добровольческая армия Московского района» в подполье, были группировки националистов-сепаратистов, были хорошо законспирированные эсеровские группы с многолетним опытом подпольного террора еще против царской власти в России.
Но уже тогда в ходу была модель, когда незрелый заговор молодых офицеров или городских интеллигентов, часто не пошедший дальше замыслов и мечтаний, ЧК после его раскрытия представляла серьезной опасностью советской власти и использовала для оправдания всего богатырского замаха «карающего меча революции». Когда такую не созревшую до конца группу раскрыли в Петрограде летом 1919 года, ее сразу связали с восстанием против большевиков гарнизона форта «Красная горка» под началом бывшего царского поручика Неклюдова, только что подавленным красноармейцами под Питером. Именно на эту петроградскую организацию монархистов после массовых арестов и расстрелов причастных к ней по городу специально работавшая в Петрограде комиссия ЧК под началом лично Якова Петерса списала поражения Красной армии на Петроградском фронте от Юденича.
Возглавлявший от ВЧК комиссию по обороне красного Петрограда от наступавшей белой армии генерала Юденича Петерс руководил следствием по этому подполью «Национального центра», закончившимся массовыми арестами и расстрелами. Это тоже не полностью сфальсифицированный заговор, группа сочувствующих войскам Юденича дворян и интеллигентов в бывшей столице была, ее возглавлял инженер Швейнингер, именно его арест после перехвата курьера с его письмом к Юденичу на линии фронта позволил арестовать ядро этой группы заговорщиков. Но затем по делу «Национального центра» начали арестовывать уже повально многих просто недовольных советской властью или лиц непролетарского происхождения. Группа не готовых даже к серьезному восстанию петроградских интеллигентов и мятежные солдаты «Красной горки» были объявлены главным ножом в спину революции, а Дзержинский по итогам этого расследования подписал воззвание «Берегись шпионов!», когда его заместитель Петерс руководил в объявленном на осадном положении Петрограде расстрелами и пытками.
Позднее история здесь повторилась с раскрытием еще более масштабного «монархического заговора», имевшего целью связаться с выступившим в марте 1921 года против большевиков гарнизоном Кронштадта из бывших соколов революции – матросов. Очередное искоренение «контрреволюционной тайной организации», усиленно раздуваемой в ЧК, привело просто к очередному витку террора против не приемлющих новую власть интеллигентов и дворян, включая такие заметные фигуры, как профессор Таганцев и поэт Гумилев, расстрелянные по итогам этого дела чекистами.
Еще одну выявленную тайную группу противников большевиков ЧК объявит главным виновником успешного поначалу наступления войск Юденича на красный Петроград. По официальному сообщению ВЧК, именно эта созданная бывшими царскими офицерами при помощи английского разведчика Дукса группа готовила восстание в городе и переправляла Юденичу данные об обороне города.
Причем раскрытие и аресты большинства членов этой питерской организации «Агента Дукса и английского пастора Норта» происходили в начале 1920 года, когда армия Юденича уже давно потерпела поражение и откатилась от Петрограда. Сам же талантливый разведчик британской МИ-6 Пол Дукс, так много попортивший тогда крови питерским чекистам, еще осенью 1919 года ушел от их ареста на лыжах по льду Финского залива на финляндскую территорию. Невозможность захватить резидента англичан Дукса в Петрограде (а Пол Дукс дома был пожалован за заслуги рыцарским титулом и дожил до 1967 года) Дзержинский назвал тогда обидным поражением и горьким уроком ЧК, аресты связанных и не связанных с ним противников большевизма были призваны компенсировать эту горечь руководства ВЧК.
По всей России тогда было много мнимых или раздутых до гигантской величины из реальных «белогвардейских заговоров». В.Е. Шамбаров, в своем исследовании «Белогвардейщина» рассматривающий историю Гражданской войны со стороны Белого движения, находил целый ряд таких заговоров, которые в полной мере и заговорами не были. Вот его мнение об одном из самых знаменитых из раскрытых чекистами тех лет московском заговоре «Национального центра»:
«Даже в примере с крупнейшим из заговоров, вошедшим в анналы ВЧК – КГБ, «Национальным центром», обстоятельства более чем сомнительные. 22.08. зам. начальника особого отдела ВЧК Павлуновский направил Ленину доклад об этой организации, и тот начертал резолюцию: «На прилагаемую бумажку, т. е. на эту организацию, надо обратить сугубое внимание. Быстро и энергично и пошире надо захватить». Разумеется, такое указание вождя было успешно выполнено. Аресты продолжались с 29 августа по 20 сентября, общее число схваченных в разных источниках варьируется от 1 до 3 тысяч. Точно известно, что всего лишь за одну ночь на 19 сентября было арестовано 700 человек. Только в первой партии расстрелянных – 68 руководителей заговора. Вот уж действительно – «пошире». Да только состав «руководителей» какой-то уж очень жиденький. Четыре престарелых отставных генерала, пара офицеров, юнкер, два студента, директор школы, профессор сельхозакадемии, актриса, учительница, несколько членов Государственной Думы, домовладельцы… Изначально в материалах дела целью заговора значился захват Москвы, якобы намечавшийся через две недели. Но до этого чекистам дотянуть не удалось. Великоват оказался процент актрис и учительниц. Если уж Савинков с пятью тысячами офицеров не решился…
И 24 сентября на Московской партконференции Дзержинский формулирует замысел преступников уже поскромнее. Оказывается, они намеревались захватить Московскую радиостанцию и передать в эфир сообщение о падении советской власти. Чтобы посеять панику на фронте и дезорганизовать войска. Что ни говори, план гениальный, разве что родиться он мог только в чекистском бреду. Потому что красные войска практически не были радиофицированы, и вся связь от центра до штабов соединений и частей отправлялась по телеграфу».[5]5
Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М., 2004. С. 312–314.
[Закрыть]
Такая картина характерна почти для каждого такого «белогвардейского» или «монархического» заговора, раскрытого чекистами в тылу советской власти в годы Гражданской войны. И подобный кадровый состав заговорщиков, не соответствующий заявленным чекистским следствием серьезным задачам заговора, и требования сверху «взять пошире» и «обратить на бумажку особое внимание», и сотни с тысячами расстрелянных, уносящих в общую могилу вопросы о степени их причастности к таким заговорам.
От Петрограда до Дальнего Востока катились эти первые камни будущей лавины «заговоров против советской власти» при Сталине.
Не стоит забывать, что и прелюдия расстрела в Екатеринбурге царской семьи была цинично обставлена местными чекистами самой настоящей мистификацией белого заговора в городе. Запертому в Ипатьевском особняке царю подбрасывали записки от неких офицеров-монархистов, готовящих его освобождение, их же потом использовали как улики при оправдании расстрела Николая II вместе со всей семьей. На самом деле эти записки писали в самой Екатеринбургской ЧК по приказу ее начальника Хохрякова, вскоре погибшего при бегстве красных из города. А на французский язык для правдоподобия их переводил местный чекист Войков, в 1927 году уже на дипломатической работе убитый русскими белоэмигрантами в Варшаве и зачисленный советской властью в мученики пролетарской революции. И даже в последний момент перед расстрелом царя с семьей привели в подвал дома Ипатьева, и здесь командовавший их расстрелом чекист Юровский для избежания паники или сопротивления объяснял это обреченным тем, что уже некие анархисты собираются напасть на дом и расправиться с императорской семьей. Даже в последние минуты перед убийством они слышали чекистскую ложь о несуществующем заговоре. От мифических монархистов до мифических анархистов гуляла фантазия чекистов уже тогда, чему же удивляться при знакомстве с материалами о процессах 30-х годов, когда каких только совершенно немыслимых и абсурдных заговоров не изобрели. Букварь для составления этих многотомных дел о заговорах против советской власти первые чекисты осваивали именно в 1918 году.
Такими странными заговорами, раздутыми в масштабах или временами вовсе выдуманными в стенах ЧК, пестрит вся эпоха нашей Гражданской войны 1918–1922 годов. И не только в Москве, Петрограде или Екатеринбурге, не только в таких крупных и важных для власти промышленных центрах России, вплоть до самых далеких окраин Советской России такая тенденция докатилась. Вот еще пример уже не из столицы, из самого далекого угла Семиречья в Туркестане у китайской границы, приведенный в книге исследователя истории Белого казачьего движения В.А. Шулдякова, сибирского историка:
«Историографы советских органов госбезопасности сообщают о раскрытии и ликвидации в Семиречье во второй половине 1920 – начале 1921 года целого ряда тайных организаций и заговоров. По их мнению, у подпольщиков был широко задуманный, согласованный с атаманом Дутовым план переворота в Верном… В условиях зрелого военного коммунизма ЧК, как правило, громила тайные организации в зародыше. Доказательств для уничтожения врага, явного или мнимого, не требовалось, для ареста и расстрела хватало одного лишь подозрения, поэтому многие мероприятия ЧК по сути носили превентивный характер. Просто хватали «социально чуждых» лиц (офицеры, дворяне, купцы и т. д.) и устанавливали их контакты. Интеллигентные люди, конечно, тянулись друг к другу, создавая свой круг общения. Еще проще было, когда подозрительные типы служили в одном и том же учреждении. Готова «нелегальная группа»! По-видимому, в 1920–1922 гг. по этой схеме чекисты сфабриковали немало дел о «контрреволюционных организациях».
Известно, что в Семиречье ЧК (группа Орлова) с помощью информаторов заблаговременно составила списки неблагонадежных, в том числе по каждой станице. Показательно раскрытие самой важной из «подпольных организаций» Семиречья «Александрова-Бойко». Чекисты получили донос о подозрительных сборищах у казаков станицы Надеждинской Р. Шустова и А. Есютина. Выяснилось, что на них бывает и войсковой старшина С.Е. Бойков, тот самый, который зимой призывал белоэмигрантов возвращаться с повинной в Советскую Россию, а теперь служил в облвоенкомате. Там же, в облвоенкомате, работала целая группа амнистированных белых офицеров. В эту среду был внедрен агент, выдававший себя за бывшего офицера, который якобы подтвердил подозрения. Тогда ЧК арестовала офицеров, служивших в облвоенкомате: войскового старшину Бойко, ротмистра Александрова, капитана Кувшинова, штабс-капитана Воронова, поручиков Покровского и Сергейчука (осень 1920 года). Затем похватали лиц из окружения… Был ли Бойко организатором подполья или просто обсуждал со знакомыми станичниками ситуацию, в которую завели страну и казачество коммунисты, сейчас пока нельзя сказать. Но показателен конец. С.Е. Бойко и группу офицеров, арестованных в Верном и в области, вывезли в Ташкент, где и расстреляли 06.1921 г.»[6]6
Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего войска. М., 2004. С. 80–81.
[Закрыть]