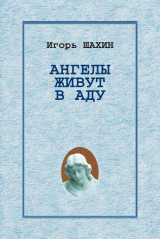
Текст книги "Ангелы живут в аду"
Автор книги: Игорь Шахин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Игорь Шахин
Ангелы живут в аду
© ГУ «Издатель», 2010
© И. Ю. Шахин, 2010
© Волгоградская областная организация общественной организации «Союз писателей России», 2010
Сюрпляс
Роман
1. Звонарев
Ветла сказал: «Примешь двести пятьдесят – полегчает», – и уехал в Голицыно за спиртным, а я готовлюсь к страшному. Может быть, меня просто-напросто прикончат и – вся недолга?.. Это было бы несправедливо, ведь я еще полон сил и в оставшиеся годы жизни могу отработать все долги, отмыть всю грязь, гнилые ошметки болота, в котором барахтался столько лет. И вот только выкарабкался на твердую почву, прочистил глаза, увидал прерывистый, извилистый след своих барахтаний, уходящий к самому горизонту, самое время начать жить, а меня охватила паника, и я убежал сюда, за тысячу верст от моего города. Может быть, это не паника? Страх?
Нет, и не это… Меня не убьют. Какой-нибудь шанс, какая-то возможность, дверца, выход всегда есть, и надо к этому готовиться. Вот и готовлюсь. Как? Да никак, лежу себе, тасую мысли, слова. Да вот: «Поезд уже тронулся, и мне пришлось в каких-то пять-десять секунд сочинить чарующую поэму из жалостливых жестов, судорожной мимики и нескольких бессвязных фонем, в результате чего проводница со своим грязно-желтым флажком отступила в глубь тамбура, что было нежелательно в установленном распорядке работы бригады поезда, но мои извинения и благодарности затактовыми аккордами в стаккато пощелкали, словно комариков, эти мгновения даже еще не родившихся ее угрызений совести». Почти шестьдесят слов в одном предложении. Пустышка. Чушь. Глупь.
Примерно так я объяснялся или писал сочинения или письма кому ни попадя в пятнадцать-шестнадцать лет. Моя память была лучшей в мире липучкой и, справедливости ради сказать, отличной отдавучкой. Все слова мира так же легко входили в нее, как и выходили при необходимости – вот тут-то и начиналась потеха. Это походило на ошеломляющий сотнепалый и многолапый высокопрофессиональный обыск души. Слушающий меня, мои речи, всего лишь делал что-то бровями и веками, поводил плечами, туловищем, и руки шевелились, словно намек на дирижирование, ноги переступали: кто пятился, а кто и приближался. И вот ему только-только начать действовать, а я уже в общих чертах предполагал, с кем имею дело.
Секрет был прост: всяк по-своему зажимает нос, попадая в авгиевы конюшни пустых слов и фраз, кто-то этого не делает, герои же приступают к их чистке. Многие были героями: спорили, возражали. А мне дать возможность поспорить – как рыбу в воду пустить… И при всем при этом я считался замкнутым юнцом.
Так бывало до самостоятельной жизни. Институт не в счет. Он пополнял мой словарь иностранными языками и педагогической терминологией. На экзаменах эта моя словесная взрывчатость страх как помогала. Один «Я» говорил, убеждал, доказывал, возражал, а другой, затаив дыхание, потрясенно наблюдал за первым и в эти минуты им восторгался, и даже любил.
Самостоятельная жизнь, оказывается, прекрасно могла обходиться без меня и моего словарного запаса, оттого, надо полагать, и звалась самостоятельной. В ней хватало двухсот, ну, трехсот символов для делового общения.
Я научился помалкивать, и спрашивать, и слушать, а это, ко всему прочему, мало красит учителя. Школа, печальная моя школа, даже не успев как следует узнать, отторгла зародыш будущего Песталоцци раз и навсегда.
Нет, я не молчальник – уже в силу того, что экскурсии по городу длятся три-четыре часа, и все это время я «шпрехаю» иностранцам и нашим туристам навечно заученный текст, пусть даже в нескончаемых его вариациях, но он выхолощен десятками сотен повторений, и в нем нет уже души моей, лишь кое-какие эмоции. В нем осталась только формула города – такого же вечного, как Рим.
Механический мой язык поясняет, отвечает, информирует, а всем остальным существом наблюдаю, вслушиваюсь, всматриваюсь, оцениваю. Ох, как много, ничего не говоря, рассказывают мои и не мои сограждане о планетах своих миров.
Ирония, скажете, ирония и еще раз ирония? А значит – комплексую? Да, пожалуй, можно было бы с этим согласиться, если никак не учитывать особых свойств неполноценности, когда она оборачивается сердцем наизнанку.
Наступает понимание: отчего, когда и каким образом.
Это не сок алоэ, вкус которого, сколько его в нос ни закапывай и ни приговаривай «сладко-сладко», ни на одно деление шкалы в вашем ощущении не сдвинется в сторону удовольствия. Дело совсем в другом, и можно бы говорить о подмене понятий по Достоевскому, но этим, пусть его, занимается Кузнецов, вооруженный, как наемник, знаниями по психологии и психиатрии. Вот лишь толку-то от того: сам себе помочь не может. А ведь все так просто.
Кто не знает, что у детства есть свои и только свои тайны, секреты, даже – анекдоты. Вы их помните? Смутно. Или не помните совсем. Вот в этом все и дело… Дитя человеческое, имея свои тайны, никому их не раскрывает, разве что в рисунках, но зато постигает секреты и непонятности всего того, что ворочается вокруг него, и особо – тайны старших. Отрок стоит к детству спиной, юность стоит спиной к отрочеству.
«Ах, детство, детство!» – продекламирую я, и вспомните тысячелетний литературный штамп: «в детстве перед нами тысячи дорог». Да, миллионы путей, которыми уже ходили все, жившие на планете, и те, которыми следуют живущие теперь. Да, тысячи путей! Но это – до первого шага, с которого начинается единственный путь из тех тысяч, прядение еще одной нити Парки, в чем-то отличной, в чем-то похожей на все предыдущие.
Страшно представить все то, что ожидает человечечка на этом его пути? Страшно, кабы не самая совершенная в подлунном мире ЭВМ[1]1
ЭВМ – электронно-вычислительная машина, компьютер.
[Закрыть], смонтированная природой в мозгу каждого из нас. Небось просчитывает такое количество вариантов каждого следующего шага, что цифра эта никому из нас и не снилась. Прядем себе нить своей судьбы, а ЭВМ обеспечивает повороты, изгибы, пересекая, свивая, разводя с нитями многих других судеб.
Да-а… Это и не наука, и не литература – нечто такое, что застряло между ними, но все же чертовски интересно, как это все с нами происходит! В буднях, в суете, это любопытство умирает. Маятник «день-ночь» убаюкивает, очертания многих тайн размываются, работа, с ее объемом и качеством, дает какие-то удовольствия или печали, но количества прогрессируют энергичнее, нежели качество, гонка за количеством подменяет подлинную жизнь паршивой ее репродукцией. Есть разница: смотреть на фотографию зала с росписью Давида Альфаро Сикейроса «Смерть захватчику» или метаться по этому залу в поисках единственно верной точки, из которой рождается перспектива. Как, вы не были в той школе в Чильяне? Я, впрочем, тоже. Но у меня такая работа…
В конце концов, когда-то надоедает слово «жизнь» вместо самой жизни, и мы ищем выход, каждый – в силу своего ума или глупости.
Я тут раньше ляпнул о каком-то прогрессе объемов. Так вот, обещаю впредь не рассуждать туманно, разве что вы сами несколько рассеянно будете относиться к моим словам.
Конечно же вам подавали на завтрак диалектику и вы знаете, что количество съеденного переходит в качество, форма вслед за съеденным вынуждена изменяться. А в том случае речь шла о «недожитках» коммунизма, и вы понимаете, о чем я говорю. Вот хотя бы несколько заголовков из газет: «Аристократия духа», «Цена амбиций», «Круг для избранных». Да-да, о той самой монополии на литературу, искусство, науку. А монополия она и есть монополия, что уж тут рассусоливать. Но кое-кто плевать хотел на всех этих избранных, мы умеем находить выходы – и порознь, и, если случается, все вместе.
* * *
…Отдышавшись в тамбуре, я отыскал свое купе и вошел.
Жара была тут плотная, едва прозрачная. За столиком сидела пожилая женщина и смотрела в окно. Обернувшись на шум, – а дверь открылась с грохотом, словно в поезде промчал еще один поезд, – она, увидев меня, ойкнула и вскинула к лицу руки. Конечно, встреть меня кто внезапно, из-за угла ночью – лишился бы сознания от одного вида всех этих шрамов на лице, но дело оказалось не в этом. Другая женщина стояла у столика в одних трусиках и смотрела в окно.
Не оборачиваясь, она едва наклонилась вперед, отчего бедра стали чуть шире, протянула руку к полке, взяла оттуда халат, вошла в него и словно захлопнула за собою светонепроницаемые шторы.
Меня била мелкая дрожь. Этого не могло быть! А почему бы и нет?! Она конечно же, Мария. У других такой способности самопогружения в неизвестно что и безразлично при каких обстоятельствах мне встречать не приходилось.
«Здравствуйте, извините, здравствуйте, привет, проходите, садитесь», – и больше ничего, и никакой Марии. Но как давно я о ней не вспоминал! Чем же таким сверхважным я был занят? Ах, да! Ну, конечно… экскурсии, сбор и обновление информации для текстов, хобби: экология, биология… В общем, «день-ночь, день-ночь, день-ночь». По-божески, как сказал бы отец Кузнецова. Мария-дубль спросила о металлургическом заводе, мимо которого мчал поезд:
– Он что, всегда так коптит?
Оказывается, это красные его дымы так поглотили мысли женщины в тот момент, когда мне пришлось войти.
– Всегда, есть еще тут «Химпром», алюминька, «Фосфат», еще с десяток дьяволят.
– А у нас в Новомосковске…
– Да, конечно, цена безответственности того, кто все это видит и научился не замечать.
До вечера мы говорили об ускорении и перестройке. Пожилая раз за разом приговаривала:
– Пора, давно бы пора.
Молодая в тон ей поддакивала. Мне грустно было от того, что она оказалась не Марией, что курица была холодной и пресной, что существуют красные дымы, поедающие такие прекрасные тела, что о перестройке и здесь, в купе, и у меня на работе, и где бы то ни было говорят так, словно ее наконец-то придумали там, в верхах, чем облагодетельствовали людей. Что поделаешь, так испокон веков у нас, у русских – поднакопим обид, поднасоберем силенок, поднимемся было на большое дело, а тут у какого-нибудь царя в башке прояснение, при опасности за свою шкуру мысли, они быстренько выстраиваются так, как ему надо. Он и давай послаблять. А мы – за нашу же силу – давай царя хвалить!
Ладно, когда так вот говорили бы только обыкновенные трудяги, но если и такие, как Черепанов, начинают утверждать, будто бы ускорение с перестройкой продуманы до мелочей на все пятнадцать лет вперед «во всех сферах человеческой деятельности», это как лишнее доказательство того, что долго еще и многие будут по старинке ожидать распоряжений сверху. Это все одно, что запутаться в кем-то давно искаженном библейском выражении «сначала было слово».
Слово и дело суть едины. И вначале, и теперь, и после…
Хм, надо же такое измыслить: продумано до мелочей! А как же тогда понимать эту истину: практика определит меру? Показали бы мне того гения, кто мог бы предположить развитие взаимоотношений в последние месяцы в нашем коллективе. Если и раньше в нем было «не фонтан» – так, выполняли общее дело люди, имеющие мало чего общего, но все же опытные что-то где-то подсказывали новичкам, считая за удовольствие показать свой профессионализм; на что-то, на фарцу, например, закрывали глаза, хотя и высказывали в кулуарах неодобрение, которое никого ни к чему не обязывало, с чем-то свыклись, – то теперь расслоились, заизолировались и забурлили: «перестроился-не перестроился». И так, скорее всего, не только у нас.
Что касается меня, то я, по выражению Черепанова, в эти игры не играю. Мне себя перестраивать незачем, и физиономия тому лучшее доказательство. Первое впечатление от моего вида у гостей города, особенно у интуристов, не самое лучшее. И хорошо, что люди, в случае со мной, прощаются, уже имея неплохой набор впечатлений.
Мария-дубль украдкой рассматривала меня, все более и более утопая в своем любопытстве, а я ничем не мог ей помочь, не хотел. Каждый способен без посторонней помощи выкарабкаться из собственной глупости. И потом, она из тех женщин, для которых любая загадка не загадка, а вот всякое объяснение для них превращается в неразрешимую головоломку. Ну, а уж если совсем начистоту – не до нее было, и это несмотря даже на то, что именно она стала первотолчком обвала часов, дней, недель, месяцев, лет, в течение которых я ни разу не вспомнил о Марии.
Проводница разносила журналы, газеты. Я посоветовал соседкам купить роман-газету, напечатавшую воспоминания строителя, Героя соцтруда Владислава Пахомовича Серикова, Черепанов недавно взахлеб о нем рассказывал, они знакомы. Полистал сам. Не литература, но во многом – любопытнейшая информация, над которой если как следует подумать…
Если бы да кабы во рту росли грибы…
Себе взял вместо снотворного политическую брошюру о ленинских двух тенденциях и развитии национальных меньшинств. Читал, а перед глазами чего только не промелькнуло: и киношно-открыточные образы стран, и лица, вереницы лиц интуристов, нашлось тут местечко и друзьям детства Олжасу Ветле и братьям Гримпельштейн.
* * *
Сон приснился дикий, фантастический: ангелы и монстры без имен и каких-либо определенных намерений. Я во сне кричал и свалился с полки. Напуганные соседки по-семейному хлопотали над моими ушибами, прибежала проводница. Постепенно все успокоились, я просил прощенья и улыбался. Для них все улеглось, стали готовить завтрак, скоро Москва, мимо мчали сосны, березы, дачные поселки, а во мне продолжало рушиться красивое здание, возводимое семь долгих лет, разлетался вдребезги, словно в замедленной съемке, небоскреб, в осколках которого не было ни единой черточки Марии. Только что были опыт, судьба, и вдруг – ничего, пыль и необъяснимый страх!
Такая пустота не может быть вечной, душа не вакуум, в ней постоянно должно что-то дышать и копошиться, рождая надежду на жизнь. И надежда эта появится! Помимо монстров, ангелов, химер, во сне, помнится, виделись образы реальной жизни моего близкого будущего, и это не мистика. Вы же знаете о таких случаях, да и сами их переживали, когда, впервые попав в какую-то ситуацию, удивленно замечали: это уже было однажды! Нет же, ничего такого не было и быть не могло, но пророческие мгновения этой бытности в мозгу вашем уже возникали. Из чего они складывались?
Наверное, из всего того, что влетело в нашу память. Мы, сдается мне, помним гораздо больше, нежели отмечает для себя наш разум. Я беседую с человеком, слежу за его мыслью, поглядываю на него и на все, что ни попадает в поле зрения: идущие мимо люди, газующие неподалеку автомобили. Прохожие обмениваются взглядами, фразами, небо то прояснится, то вновь сомкнутся тучи – не перечислить всего того, что рядом в эти моменты происходит со звуками, запахами, цветом, жарой и холодом, и все это пронизывает наше тело и мозг. И разговор мой с собеседником запечатлен там, под черепной коробкой, но разум отмечает для себя только это: смысл беседы, только смысл.
И не из этой ли всей информации тысяч дней предыдущих и этого дня тоже моделирует память образы дикие, фантастические и реальные?.. Весь мозг спит гораздо меньше, чем его мыслящая часть, если вообще спит.
Или этот, недавний пример. Как тут не поверить в наличие у каждого из нас этой самой ЭВМ?.. От Казанского вокзала до Белорусского, а от него до Звенигорода и затем почти до самого Дома творчества я в пути вспоминал и как-то пытался проанализировать фрагменты дикого сна, приснившегося мне в поезде, и это длилось до того момента, пока не заметил из окна автобуса человека, отчаянно махавшего водителю, чтобы тот остановил машину.
Автобус остановился, и в дверь, низко пригнувшись, протиснулся Олжас Ветла и, увидев меня, что называется сошел с лица. Его можно было понять: по представлению Олжаса только чудо могло свести нас вместе за тысячу километров от нашего города и именно в этой точке страны. Я тоже был потрясен, но не фактом встречи. Начиная с момента «человек стоит на дороге и отчаянно машет руками» – все это уже было в том сне. Ошеломило то, что невозможно было понять, каким же это я образом добрался до Звенигорода и дальше? Как прошел по маршруту, по которому ни разу в жизни не следовал? Добрался машинально, думая все это время о чем угодно, но только не о том, на красный или зеленый свет переходить дорогу, и много чего другого.
Словно кто-то вел меня за руку.
А наша встреча объяснилась банально. В райкоме профсоюза работников культуры появились «горящие» апрельские путевки в Звенигород, и ничего тут нет невероятного, что наборщик издательства и методист бюро путешествий одновременно решили отдохнуть «почти бесплатно».
Ветла набрал с собой чекушек, но их хватило лишь на два дня. Откуда ему было знать, что после Указа спиртное тут нигде рядом не продают, а его только что испеченные приятели-отдыхающие совсем не прочь выпить на свежем воздухе.
Сегодня после обеда они собрали деньги на коньяк, и Ветла вызвался съездить в магазин в Голицыно. А я лежу в своем одноместном номере и жду, когда сбудется еще одно мгновение реальности, увиденной в поезде во сне. Неприятно то, что я ее не помню, эту реальность, но вспомню сразу же, как только это произойдет. Помню только, что это должно случиться после отъезда Олжаса в Голицыно. Почему я тогда во сне кричал?..
Олжаса жаль, но с ним уже ничего не поделаешь. Выпивать он начал лет в двенадцать, но ни разу не приходил в школу нетрезвым, как и теперь никто ни разу не видел его на работе «под мухой». Отец говорил, что казашка Зульфия нагуляла Олжаса с залетным свадебным баянистом – брехуном и пьяницей. Был тот худ, высок, белобрыс и откликался на прозвище Ветла, а может, это и была его настоящая фамилия. Как бы то ни было, в поселковом совете Зульфия получила свидетельство о рождении Олжаса Ветлы. Из поселковых мужчин мало кто входил в число любителей закладывать за воротник, а те, что пропадали в буфетах причаливавших к пристани пассажирских пароходов, всегда щедро угощали местного дурачка Додю, который крепко сдружился с Олжасом и всегда берег для него долю спиртного, не допивая стакан вина или кружку пива.
Другой страстью Ветлы стали книги. Бог дал ему память десятерых, но тут же восполнил свою излишнюю щедрость тем, что полностью отобрал у него способность анализировать. Так и живет – то в пьяном, то в придуманном мире.
* * *
А теперь: спокойно, спокойно. Я спокоен, я абсолютно спокоен… Километрах в ста дышит ночными рабочими сменами огромный город; ближе, в еловых чащах и березняках – поселения поменьше, туда и поехал Ветла; еще ближе – хуторки в редких огоньках полночи, но ничего этого я сейчас не знаю. Есть только зеленая настольная лампа, чуть выше и полметра дальше распахнутое огромное, во всю стену, окно. Встать, сделать шаг к нему, протянуть руку – уколешься о мокрые ветки ели, тоже зеленые, хотя на дворе и тьма-тьмущая. Они такие от моей лампы, словно зеленые волосатые руки, протянутые ко мне из черноты, бездонности. Усталые руки.
И один-единственный звук, прерывистый, дробный – капли дождя разбиваются о цинковый козырек окна моей комнаты в коттедже.
Говорят, что зеленый свет успокаивает, и, наверное, это так и есть, если ты в белой больничной палате выздоравливающих или хотя бы у себя на работе зимним вечером, перед тем как отправиться домой: коллеги кричат по телефону, поминутно хлопает дверь, а тебе, как всегда, в последние минуты, надо сосредоточиться, чтобы набросать план завтрашних дел. Вот тогда зеленый свет – что надо…
Прохладно, чуть знобит, но я не закрываю окно, не раздеваясь, ложусь под одеяло и пытаюсь заснуть. Сейчас это у меня не получается. Такое ощущение, что, пытаясь пробиться туда, в сон, пробуждаюсь от сна более долгого, чем одна ночь.
Раздражает непривычное совпадение: чистые простыни похрустывают, чистое тело по ним скользит. Все не так, как дома: то нет напора воды и ложишься спать потным и липким, то сам чист, но простыни не постираны или не проглажены… Скользит чистое по чистому. Есть повод для раздражения, но это не причина для бессонницы.
Что ж, пойдем от противного: не можешь уснуть – старайся изо всех сил не уснуть. Глядишь, так себя и обманешь. Самое главное, не сосредотачиваться на чем-то одном…
Я знал, чем буду заниматься в доме отдыха: есть, спать, читать и смотреть на эти вечные облака, березы, ели. Я не знаю другого: какие причины заставили, в буквальном смысле слова, вырваться из однообразного повторения дней, взять и оформить путевку за несколько часов до отправления поезда в Москву. Странности тут такие: я никогда не отдыхал по путевке, никогда вообще в отпуске не отдыхал – обязательно находились дела, и никогда не уходил в отпуск в апреле, это всегда было летом.
Да и на карьеру мою этот отпуск мог повлиять отрицательно: уехать в момент самой бумажной запарки… В последний год работы в бюро моя карьера резко пошла в гору. Все бы ничего, но так со мной уже было несколько раз. И в школе меня вводили в комитет комсомола, и в институте вовлекали в научное общество, и в сельской школе, куда отправился работать по распределению, намерены были назначить завучем, и уже в городе, на заводе, куда я ушел из школы, в профсоюзном комитете мне пророчили любопытное будущее. Но всякий раз деятельность свою разворачивал медленно, и получалось так в силу одной-единственной причины: не считал себя достаточно хорошо подготовленным к выполнению предлагаемых обязанностей.
Учиться же по ходу работы не хватало то ли наглости, то ли смелости. Эта нерешительность прорастала оттуда, из глубины прошлого, из самого детства. Но я из тех времен хорошо помню только детский оздоровительный лагерь, в который попал уже будучи семиклассником.
* * *
На речном вокзале, куда нас свезли из городов и сел, мне на глаза попался пакетик, какие взрослые обычно кладут под свои матрацы или подушки, не подозревая о гораздо большем любопытстве маленьких недоумков к их личной жизни. Думаю, на моем месте любой бы подобрал. Еще бы! Чего стоили уважительные взгляды моих новых товарищей, когда я полускрытно, полунебрежно показал им это. А еще и вид такой сделал, мол, эти дела мне давно знакомы. Потеряй бы я этот пакетик неизвестно где – и забыл бы думать, но он выпал из кармана на виду у взрослых, когда мы снимали одежду для профилактики от насекомых.
Господи, как это давно было! Неужто и сейчас на этот предмет досматривают одежду? Надо бы спросить…
* * *
Тогда на меня в упор смотрели две воспитательницы и говорили одно и то же: «Для чего ты это привез сюда?».
Когда выбирали председателя дружины, я чувствовал, что выберут меня, – все старшие ребята эти первых три дня от меня ни на шаг не отходили и заглядывали в рот, слушая небылицы о моих похождениях в роли тайного агента милиции. Какое-никакое, но это было лидерство. Я очень хотел, чтобы выбрали, но опасался, что эти две шепнут кому-то: «А он привез в лагерь такие штучки». Никто ничего не шепнул, и меня избрали.
Несколько дней на общелагерных линейках упивался своей исключительностью. Как же, «товарищ председатель совета дружины, отряд такой-то…». Довольно скоро это ритуальное стояние в центре поляны на виду у трехсот человек утомило, меня разглядывали всего, во всяком случае, так мне казалось: и поношенные кеды, и совсем не модные брюки, и, может быть, даже ногти на руках. И вообще было неуютно стоять и изображать из себя неизвестного человека. Пустое это было дело, неприятное. Может быть, сейчас, когда где-то рискуют вводить школьное самоуправление, такие вот «председатели» знают цену себе, другим и решают все. как надо. Ре-ша-ют.
А я тогда был манекеном с биркой.
После того как однажды моих товарищей по отряду старшая пионервожатая привела на совет и предложила исключить из лагеря за то, что они несколько часов «болтались неизвестно где», я сказал: «Где они были – известно, а председателем больше не буду». Меня спросили о причинах, и я ответил: «Скучное это дело». Мне предложили делать его интереснее. Я откровенно признался: «Не умею». Это было по-людски.
В этот же день с исключенными ребятами я забрался в то место, где они «несколько часов болтались», и до позднего вечера из зарослей орешника мы наблюдали за тем, что происходило в тайном загоне для свиней. Их было пять или шесть, здоровенных, ленивых. Уже после отбоя мы обнаружились в лагере. Утром меня тоже исключили, но никого домой не отправили, потому что пропал Ефимов.
Всем лагерем стали его искать, а машина тем временем отправилась в город, водитель торопился за продуктами. Я знал, что Ефимов рано утром уехал на попутной в город к своему отцу по нашим делам, но искать его было интересно всем, и я ничего не сказал. А потом от нервного напряжения разревелась наша пионервожатая Катя, и я ее успокоил: «Он скоро с отцом приедет».
Мы с ребятами, и уже вместе с Катей, ушли в лес, к загону, набрали гору грибов. Она и в грибах толк знала… Как я ее любил… Сердце ныло…
Эти грибы нам жарили на кухне, и молодые поварихи подмигивали и говорили: «Это ты привез те штучки?»
К вечеру вернулся Ефимов вместе с отцом и милиционером. Они ходили к тайному загону, удивлялись там огромности свиней и тому, на каких шишах животные так вымахали. В город они уехали, прихватив с собой начальника лагеря и завхоза, так наивно пренебрегших любопытством юных стукачей. О нашем исключении из лагеря не заговаривали, и до окончания смены мы успели сделать еще кое-что интересное…
Там же, в лагере, я узнал, что в городе живут почти одни девчонки – съехались на новый хлопчатобумажный комбинат, а парней не хватает. Понаслушался историй об их безудержной любвеобильности, в истинности которых не сомневался, что теперь вызывает у меня улыбку. Ну и лопух же я был. Одним словом, недоумок. Тогда я впервые как следует задумался о женщинах, ничего в них толком не понял, но решил, что это еще те штучки.
Я и сегодня не могу утверждать, что в этом познании мало-мальски продвинулся к истине. Конечно же я говорю не о всех женщинах, которых знаю и знал, а о тех, что с первой встречи вызывали во мне смятение, подавляя волю. Общение с ними с моей стороны проявлялось в виде невнятного бормотания и поступков, отдающих истерикой, что, конечно, я думаю, не могло не быть смешным со стороны. Но чем дольше длились подобные нелепости, тем вернее эти феи привязывались ко мне.
И всегда наступал такой момент, когда я под разными предлогами убегал в спортивные рекорды местного значения, потом, в институте, в изматывающее штудирование предметов или в гитару. А на третьем курсе – печально об этом вспоминать – я убежал от Марии в поспешное бракосочетание.
Это было по-божески, и поэтому оно закончилось уныло и нелепо…
* * *
Два дня назад в Москве, на Казанском вокзале, короткое время той семейной жизни я вспомнил за несколько минут. Выйдя из вагона, я не пошел вместе со всеми пассажирами с перрона, а остановился в сторонке и стал рассматривать проходящих мимо. Чтобы выйти из поезда в Москве, в столице и – стоять?! Такого за мной еще не водилось. Но, думаю, виной всему тот сон в поезде. Вот так стоял и смотрел. И увидел Марию. Она шла вдоль вагонов, переругиваясь с мужчиной, старше ее лет на двадцать, и изредка обращалась к пареньку. Он походил на студента. Отец и брат? Брата у нее, кажется, не было, а вот, что старше, для отца возрастом не вышел.
Она уже прошла мимо и оглянулась. Сразу узнала. Удивилась? Испугалась? Обрадовалась? Трудно было понять, лицо ее выражало все, что хотите. Мария извинилась перед спутниками, подбежала ко мне, взяла за руки: «Ты! Это – ты, но какой-то весь из себя благополучный». И так она всегда: сначала искренность, а потом насмешка, а уж следом – в глазах сплошная глупость.
Кто бы знал, как мне стало не по себе!
* * *
…В ту давнюю осень, ворвавшись в послеоперационную палату, она протараторила: «Ты – жив… Вот и отлично… Но какой-то ты весь из себя несчастненький». Улыбалась, а в больших синих глазах копились слезы необъемной глупости.
Первое, о чем я тогда подумал, сейчас придет супруга, а тут сидит Мария. И тут же удивился: не прошло и суток, как я прыгнул с полыхавшей буровой вышки, а она уже тут. Отдавало сюрреализмом, но я тут же объяснил все послеоперационной путаницей в своей голове и ее фразу «молодец, что позвонил мне» пропустил мимо ушей, подумав, что имеется в виду недавний звонок, бывший до этого случая.
Спустя месяц, когда снова научился ходить и ходил помногу – куда надо и куда не надо, – забрел к анестезиологам, и одна милая женщина очень обрадовалась мне: «Звонарев! Вот так встреча! Да какой же ты молодчина! А ведь мы, честно признаться, тогда думали, что ты не жилец. Ну-ка, покажись. Какой красавец ты со всеми этими шрамами. А как твои ребра? Таз?». А я ее совсем не помнил. Еще бы, фамилию свою и то пришлось вспоминать.
Она и рассказала, что спустя несколько часов после операции, уже глубокой ночью, меня нашли неподалеку от корпуса, в телефонной будке. В бреду говорил «позвоните домой, там волнуются». Это было по-людски. Видно, успел позвонить Марии и свалился.
Моя бедная женушка ухаживала за мной, так сказать, по должности, рассудочно. Приходила в одно и то же, свободное от занятий в институте время, очень подробно объясняла, что из принесенного ею надо съесть в первую очередь, а что оставить на потом, затем расписывала все это на тетрадном листе и, прежде чем уйти, строгим тоном просила повторить ее рекомендации. Накаченный обезболивающими препаратами, я автоматически пытался повторить, путался и не всегда помнил тот момент, когда она уходила.
Мария появлялась редко, но всегда в ту самую минуту, когда жалость к себе достигала кульминации. Жалость, а не боль. Что – боль… Когда прекращалось действие наркотика и приходила боль, разламывая какую-то самую важную часть в самом центре мозга, я не страдал так, как, казалось бы, в таких случаях быть должно. Оказывается, есть предел боли, после которого, пусть тебя хоть на куски режут, невыносимое становится выносимым. Представляю, какую ненависть может вызвать тот, кто в тебе эту боль порождает умышленно. Страшна не боль, а ее ожидание.
Так вот, жалость… Жалеющий себя мужчина достоин насмешки, но больше всего – презрения. Ведь это чувство больше всего подходит ребенку, не способному анализировать свое состояние. Жалость – предсостояние поиска своих слабостей, от которых надо бы избавляться.
Был ли я тогда в полной мере мужчиной? Нет конечно же! Не то без помощи Марии выкарабкался бы из ложного состояния никомуненужности. Но как бы то ни было, она приходила в самый главный момент, тормошила, заставляла одеться, вела на мороз и там, за мощными стволами тополей, слегка отодвигавшими чугунную ограду больницы, целовала во впалые щеки, обкусанные губы до тех пор, пока во мне не возникало желание обладать этой женщиной. Она всякий раз мое возрождение чувствовала, смеясь, отстранялась, говоря: «Что-то ты уже какой-то не больной».








