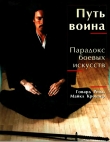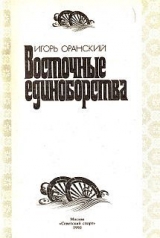
Текст книги "Восточные единоборства"
Автор книги: Игорь Оранский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Ветка, не сломленная снегом

…Однажды создатель джиу-джитсу японский врач Акаяма Сиробеи не спеша прогуливался по своему заснеженному саду, созерцая все, что окружало его. И вдруг он с изумлением заметил, что толстые ветви деревьев не выдерживают тяжести снега и ломаются, а тонкие ветки пригибаются, а потом сбрасывают снег и выпрямляются как ни в чем не бывало.
– Мягкость побеждает силу и зло! – воскликнул пораженный собственным открытием Сиробеи. И с тех пор главным принципом джиу-джитсу и еще целого ряда боевых искусств стало: поддаться, чтобы победить…
Согласно наиболее популярной версии, джиу-джитсу (более точное произношение – дзю-дзюцу, так как в японском языке отсутствуют звуки «ж», «ч», «ш») возникло во времена войны феодальных кланов Тайра и Минамото в XI–XII вв. н. э. Врач Акаяма Сиробеи, в совершенстве владевший pacпространенными тогда единоборствами коуг соку (в переводе – «латы, которые всегда при себе») и косино мавари, или коси мавари («панцирь, защищающий поясницу»), отправился для совершенствования своих познаний в области медицины в Китай, где познакомился с рядом местных единоборств и изучил два из них – шубаку и тайцзытуйшоу. К счастью, искусство рукопашного боя интересовало его ничуть не меньше медицины – вернувшись, он решил систематизировать все известные ему приемы борьбы без оружия и создать единую систему со своими принципами и методами.
Прекратив практику, он заперся в своем доме вместе с лучшими учениками и единомышленниками и 12 месяцев спустя представил специально созванной императорской комиссии 3 тысячи приемов рукопашного боя, заявив, что с их помощью может справиться с любым соперником, как невооруженным, так и вооруженным. После долгого просмотра и основательного обсуждения комиссия отобрала лишь 300 приемов – остальные заканчивались смертельно и потрясали своей жестокостью. Так возникло новое искусство, которое разнесли по Японии ученики Сиробеи. Особо оно пришлось по вкусу воинственным самурайским кланам, которые сразу взяли его на вооружение.
А оружием оно действительно было мощным. По преданиям, самураи, хватая в пылу борьбы противника, вырывали у него куски мяса вместе с обломками костей, сами того не замечая, а уж если человек попадался на прием, то можно было считать, что бой окончен. Кстати, рассказывают, что у Гитина Фунакоси был учитель джиу-джитсу, который, сколько бы ни брал в руку бамбуковых палок, расщеплял их одним движением.
О самураях хотелось бы сказать особо. Из нашей литературы складывается впечатление, что они были жестокими кровожадными убийцами, и у нас понятие «самурай» употребляется с отрицательным оттенком. Но это неверно.
Самураев можно сравнить со средневековыми рыцарями Запада, и это военное сословие не было ни жестоким, ни кровожадным (слово «самурай» происходит от глагола «сабурахи» – служить великому человеку, человеку высшего сословия). Благородные воины, настоящие джентльмены, они наносили противнику смертельные раны только в том случае, если он посягал на их жизнь, и жили они согласно бусидо – кодексу чести и традиционной самурайской морали, в котором главными принципами были прямота, мужество, доброта, вежливость, уважение к людям, искренность и честность (слово самурая было законом), верность долгу («самурай не оставит своего господина, даже если число его вассалов сократится со ста до десяти и с десяти до одного»), скромность.
Самурай никогда не нападал на слабого, презирал деньги, а прежде чем напасть на врага, кричал: «Извольте защищаться!» или «Извольте умереть!» В бусидо говорилось, что обладающий лишь грубой силой недостоен звания самурая, и они изучали науки, владели живописью, были неплохими поэтами и даже иногда на поле боя слагали стихи, воспевающие мужество и храбрость только что побежденного противника, в совершенстве знали чайную церемонию и каллиграфию – как и искусство боя. Рыцарями они оставались даже в случае поражения – самурай называл победителю свое имя и с улыбкой на устах делал харакири.
Примерно до XIV века развитие джиу-джитсу шло по замкнутой клановой системе, а в XIV веке, в ходе усмирения крестьянских восстаний на Окинаве, самураи с ужасом убедились, что их искусство неэффективно против ударной техники, созданной как средство борьбы с джиу-джитсу. Но опытные воины не собирались опускать руки – самураю такое не к лицу. Они раскрывали секреты «школы в зарослях» и начали интенсивно обогащать технику джиу-джитсу новыми приемами.
С этого момента начинается новый этап развития джиу-джитсу. Часть кланов продолжала сохранять верность традициям и культивировать классическое направление, уже утратившее эффективность, другие вообще отказались от борцовских приемов, полностью переняв технику окинавского рукопашного боя, а третьи начали комбинировать борцовскую технику с ударной. А а XVI веке появился и сам термин «джиу-джитсу». В русском языке он имеет порядка десяти эквивалентов, наиболее распространенными вариантами перевода являются «тайное искусство», «незаметное искусство», «искусство четырех пальцев», «искусство незаметного отключения» и поэтический – «ветка, не сломленная снегом».
Джиу-джитсу в отличие от ушу и каратэ-до никогда не становилось всеобщим достоянием и преимущественно культивировалось самурайскими родами, причем каждый род развивал искусство в своем направлении и фактически создавал фамильную школу.
В 1868 году Японию потрясла буржуазная революция Мэйдзи, разрушившая феодализм и отнявшая у самураев былое влияние, почет и уважение. Многие японцы покинули родину, эмигрировав в Европу и США, и вместе с ними эмигрировало и джиу-джитсу, вызвавшее повышенный интерес спецслужб европейских стран – в первую очередь Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Франции. Кстати, очень сильные мастера джиу-джитсу были в генеральном штабе русской армии, в армейской разведке и контрразведке, а также в Третьем департаменте полиции, где оно использовалось в основном для разгона демонстраций без применения оружия.
Массовое развитие джиу-джитсу получило в России уже после Октябрьской революции, в двадцатых годах, благодаря Василию Ощепкову. Родившись в тюрьме, он затем волею судьбы оказался в русской миссии в Японии, занимался дзюдо в центральной школе Кодокан (дзюдо тех времен было во многом схоже с джиу-джитсу и практически ничем не напоминало нынешний спортивный вариант), а потом создал свои школы во Владивостоке и Москве. Ощепков (в 1937 году он был незаконно репрессирован и умер в тюрьме) и его ученики обогатили японскую технику приемами национальных видов борьбы, успешно выступали на международных соревнованиях – так, борьба вольного стиля и борьба в одежде или дзюу-до, как называл ее сам Ощепков, получивший в Кодокане второй дан, входила в программу первой рабочей Спартакиады 1926 года.
Параллельно полковник НКВД Спиридонов на базе джиу-джитсу разработал САМОЗ – прикладную технику самозащиты, которой прекрасно владели представители советской военной разведки и контрразведки. Так, в книге В. Богомолова «В августе сорок четвертого» (другое название – «Момент истины») описываются работники СМЕРШа, которые могли голыми руками задерживать хорошо вооруженных диверсантов, уклоняться от выстрелов с близкого расстояния и т. п.
В 1946 году искусство самообороны получило название самбо, а затем этот вид, еще в 1938 году включавший по классификации Л. Харлампиева 8,5 тысячи приемов (для сравнения: в джиу-джитсу 10 тысяч приемов), утратил прикладное значение, ударную технику и стал спортивной дисциплиной. Ну а сам спорт приобрел политическую окраску, так как победы оказались важнее знания искусства в целой.
Широкое распространение в мире джиу-джитсу, как и другие боевые искусства, получило лишь в пятидесятых годах. После того как представители различных видов совершили демонстрационно-коммерческие турне по всем континентам. Правда, джиу-джитсу уступило в популярности каратэ-до, ушу и таэквондо, но тем не менее оно культивируется многими международными организациями – Всемирной федерацией джиу-джитсу, Международной организацией боевых искусств, Международной федерацией будо, Международной федерацией ниндзюцу и многими другими.
Сегодняшнее джиу-джитсу – это искусство ведения боя с оружием и без оружия, в техническом арсенале которого примерно 60 процентов бросков и приемов (в том числе болевых и удушающих) и 40 процентов ударных. Но соотношение это может варьироваться в зависимости от стиля и традиций национальной федерации.
Наверное, среди всех боевых искусств джиу-джитсу является наиболее демократической системой, поскольку по ее уставу каждая федерация имеет право вводить в свою программу и методику те базовые элементы, которые присущи для традиций этой страны, то есть здесь полностью отсутствует железная направляющая рука, нет диктата, нет рельсов, по которым можно ехать только в одном направлении и никуда больше, и дается право на творчество. Благодаря этому идет обогащение системы, так как каждый вносит в нее то, что считает нужным (хотя, конечно же, в ней есть определенная база и генеральное направление). Поэтому, например, в финской федерации приоритет отдается ударной технике, так как в Финляндии очень популярно контактное каратэ-до, во Франции федерация джиу-джитсу объединена с федерацией дзюдо (что говорит о приоритете техники бросковой), а в Дании дан по джиу-джитсу можно получить только после сдачи на дан по каратэ-до (стиль Сётокан).
Естественно, что есть свои отличительные особенности и у крупных мастеров, которых только в Европе насчитывается порядка 20 человек. У каждого из них свой индивидуальный вариант, даже если они занимаются по одной школе, а если стили разные, то различий еще больше.
Главенствующее положение в мире джиу-джитсу занимают его родоначальники – японцы. Федерация в Японии отсутствует, и представляют джиу-джитсу фамильные мастера, то есть прямые потомки самурайских родов, культивировавших издавна тот или иной стиль. Всего существует более 200 стилей, но наиболее крупных – 10–12: Хонтай-йосин-рю, Хакко-рю, Ямата-рю, Дайто-рю, Такэнаучи-рю, Саоситцу-рю и другие. Остальные же давно стали синтетическими и развиваются лишь по инерции – они либо культивируются очень узким кругом людей, либо являются подстилем.
Различия между стилями, которые в своей базовой технике не используют оружие, в целом незначительны – они в основном касаются стоек, положения корпуса, определенных элементов входа и выхода из приема, проведения тех или иных технических действий. И различия эти видны только высококлассному специалисту, потому что они заключаются только в базовых фамильных традициях – один клан издревле делал упор на удар кулаком, другой – на залом пальцев, и это было введено в ранг абсолюта и остается в этом ранге по сей день.
Но зато у стилей, которые применяют различные варианты оружия, отличий много, так как техника подстраивается под предмет, будь то явара (короткая палка), джо (средняя палка), бо (двухметровый шест), нагината (бо с сабелькой на конце), вэй (веревка, пояс) или другой вид.
Классическое джиу-джитсу фамильных мастеров – это красивое исполнение сложной техники, преимущественно в системе парных кат, когда один партнер заранее знает, что будет делать другой – выигрывая в зрелищности, проигрывает в эффективности, так как в боевой ситуации практически бесполезно. Но тем не менее именно оно считается основой, и им обязан владеть любой мастер.
Главное отличие джиу-джитсу от других боевых искусств заключается не только в его демократичности и в наличии в техническом арсенале и ударной, и борцовской техники. Дело в том, что в джиу-джитсу практически полностью отсутствует спортивная конкуренция, которая заставляет держать технику в тайне от других, обуживать ее, делать серой и убогой, так как все подчинено одному – победе. (Правда, фамильные мастера ревностно берегут свои секреты и раскрывают лишь малую их часть, заключая за немалые деньги контракты с той или иной федерацией.) Поэтому на соревнованиях, проводящихся по системе показательных турниров, побеждает тот, кто демонстрирует высокий класс в большом спектре. Ведь человек здесь может заниматься и чисто рукопашным поединком, и кобудо (работой с оружием), и вэй-джитсу (работой с веревкой), и стю-джитсу (так называемое пальцевое джитсу, то есть работа с пальцами соперника, за плетение и связывание пальцев с вставлением между ними явары), и прочими направлениями. Хотя есть и система соревновательных поединков, называемая до-артс.
В соревнованиях, проводимых в легкий или полный контакт, т. е. удары не обозначаются, а наносятся (в легкий работают любители, в полный – представители различных спецслужб и антитеррористических подразделений), могут участвовать мастера каратэ-до, таэквондо, дзю-до, ушу, айкидо – словом, всех видов, где каждый может использовать свою технику; в поединках допускаются удары, броски, захваты, болевые и удушающие приемы, все, кроме воздействия на жизненно важные центры.
При сдаче экзамена на мастерскую степень занимающийся, кроме различных направлений джиу-джитсу, сдает также бу-джитсу, или полис-джитсу (полицейский вариант, то есть техника задержания, связывания, обыска, конвоирования плюс работа со специальным полицейским оружием – ножами, дубинками и т. д.), и экзамен на фах-лицензию (специальную тренерскую лицензию), в которую входит сдача соответствующей техники с получением диплома инструктора Интерпола.
Что касается эффективности, то снчала приоритет был за джиу-джитсу, но потом на первое место вышли каратэ-до, таэквондо и другие единоборства с обилием ударной техники. Тем не менее в работе на ближней дистанции преимущество по-прежнему остается за джиу-джитсу. Очень эффективно использование джиу-джитсу в разного рода нестандартных ситуациях, так что интерес к нему спецслужб многих стран не случаен.
Так что, несмотря на все перипетии и конкуренцию, ветка, которую не в силах сломить снег, выдержала и напор веков. И становится еще гибче и сильней, чем прежде…
Охота на невидимок

…Незаметно проникнув в здание, человек во всем черном неслышной поступью подошел к нужной двери и, присев около нее, начал возиться с замком. Услышав вдали шаги делающего обход охранника, он, даже не оглянувшись, бросил на пол какие-то железки, напоминающие противотанковые ежи в миниатюре, а когда показавшийся из-за поворота страж, на ходу доставая оружие, метнулся к нему, спокойно, не прерывая работы, достал из кармана горсть свинцовых шариков и не глядя кинул их через плечо в направлении бегущего.
Расчет его оказался точным. Поскользнувшись, охранник рухнул лицом на отточенные куски железа, и раздался душераздирающий крик. А человек в черном, так и не оглянувшись, открыл дверь и, забрав то, что ему было нужно, неслышно растворился, словно его здесь и не было…
Говоря о джиу-джитсу, нельзя не сказать о тесно связанном с ним искусстве ниндзюцу, которое использовало и развивало прикладную технику джиу-джитсу.
Пожалуй, из всех боевых искусств ниндзюцу (или нимпо, как его иногда называют), древнее японское искусство шпионажа, является самым загадочным и таинственным. И когда смотришь на ниндзя, демонстрирующих на кино– или видеоэкранах чудеса владения собственным телом и разумом, то даже не верится, что такое могло быть на самом деле.
И действительно, в нашей стране литературы о ниндзюцу не существует (хотя за рубежом на эту тему опубликованы и приключенческие остросюжетные повести, и серьезные глубокие исследования японских и американских авторов), и информацию о них можно получить в основном из видеофильмов («Американский ниндзя», «Мольба о смерти», «Операция «Саброуз», «Месть ниндзя» и другие), режиссеры которых, как хорошо известно, склонны без особых угрызений совести жертвовать фактами ради зрелищности.
Но это, наверное, единственный случай, когда видеофильмы не приукрашивают действительность, а даже преуменьшают, принижают ее: то, что умели ниндзя, кажется сверхъестественным.
Точная дата рождения ниндзюцу неизвестна. Но об использовании в военных и политических целях специально подготовленных шпионов, лазутчиков и диверсантов говорится еще в знаменитом китайском трактате о воинских искусствах «Сун Цзы», датируемом VI веком до н. э. (есть сведения о существовании в Китае тех и более поздних времен особого клана «Лесные демоны»). А в Японии военный шпионаж начал развиваться в V–VI веках н. э. – известно, что в этот период к услугам ниндзя (впрочем, сам термин, обозначавший «люди-невидимки», или «воители-тени», возник гораздо позже) прибегали монахи, воюющие с властями. А ниндзюцу как искусство окончательно сложилось к XIII веку, и четыре последующих столетия феодальних войн, распрей, заговоров и интриг стали эпохой его расцвета. Тогда же сформировался и институт ниндзя, выходцев из обособленных родовых самурайских общин. Правда, в XVII веке феодальный князь (сёгун) Токугава, пришедший с помощью ниндзя к власти, под страхом смерти запретил это искусство и объявил на ниндзя настоящую охоту. Но ниндзя продолжали существовать и не только потому, что в них была кровно заинтересована элита японского общества, использовавшая их для выполнения различных деликатных поручений. Просто охота на невидимок – задача более чем сложная, и чаще всего получалось так, что жертвой становился сам охотник.
Но когда в 1868 году в стране Восходящего Солнца свершилась буржуазная революция, ниндзя навсегда исчезли с военной и политической арены, сохранившиеся лишь в истории, не слишком-то к ним благосклонной.
Пожалуй, не было для самурая более презираемого существа, чем ниндзя. Элегантные, благовоспитанные воины, известные своим бескорыстием, презирали людей, живущих где-то в затерянных лесах и горах и не знавших ничего, кроме своего искусства, которое вдобавок они использовали за деньги, и ниндзя были для них чем-то вроде касты неприкасаемых. Но тем не менее гордые, самолюбивые, бесстрашные бойцы, пренебрегавшие смертью, никого не боялись так, как этих отверженных.
Потому что мастерство самурая, посвящавшего изучению техники боя большое количество лет, не шло ни в какое сравнение с мастерством ниндзя. Да, они не знали наук, не слагали стихов и умели в своей жизни только одно – зато как умели!
Будущего ниндзя начинали воспитывать с рождения – тут уж было не до сказок и игрушек. Все, чем занимались с ним или с ней (а среди ниндзя было немало женщин, не менее искусных, чем мужчины – их называли куноити) родители и наставники, было направлено на овладение будущей профессией. Любительство в ниндзюцу было попросту невозможно.
Наверное, то, что проделывали воспитатели с детьми, нынешним родителям покажется верхом изуверства.
Например, люльку с ребенком раскачивали так, что она ударялась о стену и ребенок приучался группироваться при ударе и отталкиваться от стены. Затем, сажая его на землю, катили на него довольно тяжелый шар и тем самым учили ею ставить блоки. В полгода будущий ниндзя начинал плавать раньше, чем ходить. А с возрастом подготовка все больше усложнялась. Детей учили скакать на коне, запрыгивая и спрыгивая с него на полном ходу, прыгать в высоту через колючий кустарник или слегка затупленные лезвия мечей, прыгать с высоты, бегать на многокилометровые дистанции, быстро и неслышно ходить, выполнять сложнейшие акробатические и гимнастические упражнения на высоко подвешенном тонком бревне, а затем на веревке. А заодно добивались необычайной подвижности суставов и нечувствителыюсти к боли, особым массажем, набиванием и диетой превращая тело в «железную рубашку». Заставляли в любую погоду ходить нагишом, подолгу обходиться без пищи и воды, по нескольку дней находиться в кромешной тьме.
В результате ниндзя мог сутками находиться в воде, отлично нырять, надолго задерживая дыхание, часами сохранять неподвижность камня, прыгать с высоты до 10 метров, легко перепрыгивать через заборы, взбегать на отвесные стены, ходить, не оставляя следов, ловить рукой выпущенную в упор стрелу, обычным камешком попадать противнику в глаз с 20 шагов, прекрасно видеть в темноте, вынимать из суставной сумки руку или ногу (это использовалось при освобождении от пут, пролезать в узкие отверстия и в бою, когда ниндзя мог на несколько сантиметров удлинить руку при ударе) и даже увеличивать собственный рост. К тому же они обладали прекрасной зрительной памятью и с первого раза запоминали рельеф местности, обстановку в комнате, важный документ, имели отличный слух – по свисту стрелы ниндзя мог определить расстояние до лучника, по лязгу оружия – его вид. Различали ниндзя голоса птиц и зверей и искусно им подражали, умели готовить яды и лекарства, взрывчатые вещества, владели навыками акупунктуры и хирургии.
Естественно, большое внимание уделялось технике боя. Изучая в общем-то ту же технику, что и самураи, ниндзя брали чисто прикладной аспект и доводили приемы до сверхсовершенства, а если учесть, что они были прекрасными гимнастами и акробатами, то можно представить, насколько смертоносной становилась эта техника в их руках.
Владели они и оружием, притом довольно своеобразным. Помимо обычного меча ниндзя, в зависимости от школы, использовали cёгe (кинжалы с двумя лезвиями – прямым и загнутым, – выходящими из одного основания и находящимися в одной плоскости), манкикигусари (цепи со свинцовыми шариками на концах), кама (топоры с узкими загнутыми остриями), серпы с прикрепленными к рукоятям цепями, кастеты «тигриная пасть» (они крепились как на внутренней, так и на внешней стороне ладони), сюрикэны (тонкие стальные пластины в форме крестов, звездочек или шестерней с остро заточенными краями, которые были страшным метательным оружием) и многие другие виды вооружения. Ножны меча имели отверстие, через которое ниндзя мог дышать под водой или пускать отравленные стрелки (так называемый «плевок дракона»). На запястьях они носили специальные браслеты, которыми защемляли лезвие меча противника и легко обезоруживали его одним поворотом кисти.
Вообще ниндзя экипировались на задание почище современных спецназовцев – у них были шипы, которые они в случае надобности прикрепляли к обуви, специальная сумка-обойма для сюрикэнов, на предплечье крепилась обойма для дротиков, были «дымовые шарики», дававшие ниндзя возможность устроить завесу и раствориться в дыму, проволочные пилы с кольцами на концах, использовавшиеся как оружие или вспомогательный инструмент, и многое другое. Было и «невидимое» оружие – посох-меч, веер из тонких металлических пластин, шляпа-сюрикэн (под полями крепилось огромное лезвие) и т. д.
Последним компонентом подготовки была подготовка психологическая. Как правило, строилась она на длительном воздействии обучаемых друг на друга – садясь напротив, они начинали пристально и неотрывно смотреть напарнику в глаза, настраиваясь на его волну и проникая в чувства и мысли. Иногда партнером становился дикий зверь – обучаемый входил в клетку с хищником и должен был взглядом заставить зверя отказаться от агрессивных намерений и признать превосходство человека.
После такой тренировки ниндзя становился прекрасным психологом и первоклассным гипнотизером и без труда усыплял одного или нескольких противников, даже мог взглядом обратить врага в бегство. Чувствуя мысли и намерения людей на расстоянии, он не терялся в окружении нескольких врагов и сохранял спокойствие и хладнокровие, вселяя в них неуверенность и страх и получая значительное преимущество еще до столкновения.
Подготовка заканчивалась в 15 лет – ученик сдавал экзамен по всем дисциплинам и посвящался в ниндзя.
Затем ему вручали личное оружие и униформу – бесформенный черный балахон с капюшоном и черную маску.
Одежда эта не только устрашала врагов (давно замечено, что черный цвет оказывает сильное психологическое воздействие), но и лишала человеческую фигуру привычных очертаний, делала ее неприметной, благодаря чему ниндзя могли сливаться со стенами и растворяться в темноте. И – начиналась взрослая жизнь, прожить которую до конца удавалось немногим. Жизнь, в которой постоянными были только три величины – тренировка, опасность и готовность к бою.
Вообще-то надо отметить, что ниндзя старались боя избегать – у них были иные цели и задачи. Им поручали выкрасть важный документ или похитить князя, подслушать разговор или убить военачальника, совершить диверсию или провокацию – словом, вещи, справиться с которыми обычному человеку чаще всего не под силу.
Выполнив задание, ниндзя умело уходил от погони, используя искусство маскировки, например отвлекающие поджоги.
А если все-таки дело доходило до боя, он был страшен и беспощаден – здесь ему было не до самурайского этикета, не до обмена любезностями с противником, так что ценил он не красоту, а эффективность, тем более что в случае захвата в плен его ждала страшная, мучительная смерть. По преданиям, один ниндзя стоил в открытом бою двадцати и больше хорошо обученных воинов, и, видимо, это не преувеличение. К тому же дрался он не по привычным канонам, а постоянно меняя позицию, совершая головоломные прыжки, используя свое страшное оружие. Так что проще было дать ему свободно уйти, нежели вступать с ним в схватку, которая еще неизвестно, чем закончится. Ну а когда ниндзя все же терпел поражение и попадал в плен, врагам не удавалось выведать у него ни слова – он стойко умирал под жестокими пытками, еще больше усиливая их страх и уважение.
Подготовка ниндзя не заканчивалась и после обряда посвящения предела совершенству в ниндзюцу не было.
Помимо тренировки физической и психологической шло изучение философии, овладение различными амплуа – бродячего монаха, фокусника или путешествующего богатого повесы. Их врагам грозила постоянная опасность – любой человек мог оказаться переодетым ниндзя, и охотник мог легко стать жертвой. Да так это чаще всего и бывало.
Те, кто называют ниндзя наемными убийцами, обвиняют в кровожадности, несправедливы к ним. Далеко не всегда они убивали тех, кто оказывался на их пути, а просто использовали гипноз или нажатие на ту или иную точку, просто отключая человека и сохраняя ему жизнь.
И выполняли ниндзя свою нелегкую работу просто потому, что ничего другого не умели, они выросли в клане, который дал им соответствующую подготовку, и его законам были обязаны подчиняться. А само руководство клана было заинтересовано не столько в деньгах, сколько во влиянии, в том, чтобы занять на политической арене как можно более высокое положение. И в самом деле – зачем много денег людям, живущим в лесах и горах?
Увы, ниндзя не удалось восстановить былой авторитет, вернуть себе прежние позиции. Вначале им помешало предательство Токугавы, а потом – история. История, в которую они канули и растворились…
Впрочем, как сообщают в своей книге «Совершенно секретно» В. Кассис и Л. Колосов, в японской префектуре Мае расположена единственная школа ниндзюцу, а настоящих специалистов в этой области на апрель 1977 года насчитывалось 59 человек. Сложно как-либо прокомментировать эту информацию, но в любом случае речь идет о ниндзя легальных, то есть фактически «полуниндзя».
И чем они занимаются, насколько велико их мастерство – мало кому известно.
Существует и Международная федерация ниндзюцу, но, судя по рассказам тех, кто сталкивался с представителями этой организации (в частности, единственным в нашей стране специалистом международного класса в области джиу-джитсу Иосифом Линдером), они лишь играют в ниндзя, хотя и носят их имя и униформу.
Высшим искусством ниндзя считалось «искусство видимых людей» – жить в миру обычной жизнью, оставаясь при этом ниндзя, но так, чтобы никто не догадался, кто ты такой на самом деле. Жить среди изученных, понятых, но так и не принятых тобой людей с их странной философией, обычаями и привычками, совмещая мирские заботы с тщательным соблюдением своих канонов.
Жить и вспоминать рассказы отца и деда о славном прошлом, которое никогда уже не вернется. И лишь по ночам доставать из тайника фамильный черный балахон и разворачивать его с учащенным биением сердца…
Так что, быть может, настоящие ниндзя, скрывающие от всех свое искусство, и сегодня живут среди обычных людей? Живут, тайком от всех тренируясь и дожидаясь, что, может быть, когда-нибудь придет их час? Кто знает?..