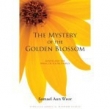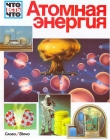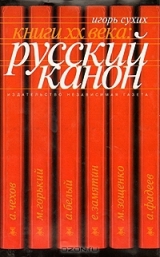
Текст книги "Толстой Эйхенбаума: энергия постижения"
Автор книги: Игорь Сухих
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Веселовскому и Лотману повезло. Их книги были завершены (и время оказалось иным, и замыслы были не столь масштабны, амбициозны. В эйхенбаумовские поиски жанра не раз грубо вмешивалась история.
Первые два тома были написаны и публикованы быстро (1929, 1931). Третья книга была окончена в лишь в 1940 году, но застряла в издательстве. «Зима будет, очевидно, трудная. А хочется каких-нибудь радостей. Смотрю с горестью на сверстанный экземпляр III тома о Толстом – лежит в Госиздате без движения и стареет быстрее меня. А я, между прочим, старею»[48], – одна из редких жалоб Эйхенбаума.
Кто мог тогда представить, что зима окажется настолько трудной и долгой?
Третий том, «Лев Толстой. Семидесятые годы», появится лишь в 1960 году, уже после смерти автора.
Материалы четвертого тома (большой портфель) пропали на Ладоге во время эвакуации из блокадного Ленинграда. Эйхенбаум решил его не восстанавливать.
Вскоре после возвращения в город в Ленинградском университете началось свое «дело космополитов», в результате которого Эйхенбаум после инфаркта надолго оказался в больнице и в это же время был изгнан отовсюду, из Института русской литературы («по болезни») и университета (как «не справившийся с работой», хотя его стаж составлял 34 года). Сообщить «бывшему профессору» эту «новость» пришлось Г. А. Бялому, одному из ближайших его друзей последних лет. После возвращения из больницы Эйхенбаум начал советоваться с ним, где остаться на службе: две работы ему уже не осилить. И получил утешающий ответ: «Борис Михайлович, не беспокойтесь вы, ради бога, вы совершенно свободный человек, вы нигде не работаете. Ни в Пушкинском доме, ни в университете. Можете спокойно отдыхать дома»[49].
В это время вынужденного непечатания в очередной раз передумывается толстовский замысел. «Я стал работать. Пишу новую книгу обо всем Толстом – на старой затее (5 томов) поставил крест после того, как III том застрял и устарел, а IV пропал на Ладожском озере. Многое у меня теперь иначе, начиная с Казанского периода, который я на днях закончил»[50].
Планы ветвятся и множатся. Толстой постоянно находится в центре интересов, но Эйхенбаума лишают всякой возможности публикаций. «У меня пока нет никакой оплачиваемой работы – выключен совершенно. Лежат готовые работы – „Толстой – студент“, „Наследие Белинского и Л. Толстой“, „Легенда о зеленой палочке“; не могу напечатать – после статей в „Звезде“. В „Лит. наследстве“ еще нет решения, но думаю, что не посмеют напечатать. „Годить надо“, как советовал Щедрин.
Итак, я – веселый нищий. Веселый – потому что сижу спокойно дома, не бываю на заседаниях, не вижу подлецов, не устаю и пишу. Будет книга, а то и две – обе о Толстом; одна из очерков (начиная с „Легенды о зеленой палочке“) для широкого читателя, другая сплошная, в ученом жанре». Но и в такой ситуации «веселый нищий» сохраняет способность шутить: «Новая поговорка: „Земля наша велика, а заработка в ней нет“». Дальше в связи с кражей пальто (ну, совсем гоголевская «Шинель») следует еще одна остроумная, но малоприличная пословица[51].
Замечательный психологический портрет позднего Эйхенбаума возникает в дневниках Евгения Шварца. Привычно сопоставляя своего соседа по писательскому дому на канале Грибоедова с его другом-антиподом («Шкловский… много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум – к мыслителям, иной раз излишне чистым»), взвешивая плюсы и минусы («непрерывная работа мысли», бытовая беспомощность, страстная любовь к музыке, ровное отношение к ученикам, которое они оценивают как «холодность и безразличие к ним»), драматург выделяет главную черту в характере героя – очевидную и загадочную энергию постижения: «Он, как это бывает с существами высокой породы, все рос и рос, не останавливался. И за слабостью вдруг определилась настоящая сила, которая дорогого стоит. Первая и главная – это добросовестность. Его били смертным боем, а он не раздробился, а выковался в настоящего ученого. Как настоящий монах не согрешит потихоньку, так и Эйхенбаум не солжет, не приврет в работе. И если монаха останавливает страх божий, то в Борисе Михайловиче говорит сила неосознанная, но могучая. С утра сидит, согнувшись, над столом и, словно по обету, мучается над ничтожным, иной раз, примечанием. Во имя чего? Цена одна. Что заставляет его доводить свою работу до драгоценной точности? По-прежнему он благожелателен и ясен»[52].
Вынужденный «отдых» от печатания продлился почти десятилетие. Только в начале пятидесятых Эйхенбаум снова начал получать издательские предложения. Он подготовил для Большой серии «Библиотеки поэта» том Я. П. Полонского (1954), прокомментировал для серии «Литературные памятники» «Записки современника» С. П. Жихарева (1955), принял участие в издании одиннадцатитомного собрания Лескова (1956–1958). Несколько опубликованных старых статей о Толстом он еще успел увидеть.
Но ни один из больших толстовских замыслов так и не дошел до конца: ни «сплошная» книга «обо всем Толстом», ни «Юность Толстого», ни сборник очерков для широкого читателя. Однако дневниковые методологические размышления отчетливо свидетельствуют, что эти работы строились на постоянном учете и предельном расширении исторического контекста, центром которого неизменно оставался писатель-создатель. «…Многое уяснилось для начала – и очень важное. Гений является в результате накопления исторических сил – поэтому сознание истории в нем органично и обязательно»[53] .
«Хорошо бы написать статью (как основу для моих дальнейших работ по Лермонтову и Толстому) – „Изучение и истолкование“. Для изучения (анализа) художественного произведения прошлого надо держать фоном всю систему философских (философско-исторических), религиозно-нравственных, общественных (утопических) и научных теорий, представлений эпохи – только на таком фоне могут выступить подлинные исторические смыслы художественных произведений этого времени»[54]. Может показаться, что Эйхенбаум возвращается к эмпиризму культурно-исторической школы, разрыв с которой декларировал ранний формализм. Однако важной границей, точкой расхождения по-прежнему остается ведущая конструктивная идея, когда-то выросшая из теории литературного быта: «Поскольку я хочу написать не биографию вообще (как рассказ о жизни), а историческуюбиографию, то мне надо говорить только о том, что исторически важно, а не болтать обо всем, что я знаю»[55]. («Биографию вообще» для серии «Жизнь замечательных людей» напишет через несколько лет после смерти Эйхенбаума Шкловский.)
Он был полон планов и рассчитывал еще на несколько лет продуктивной работы. «Вот бы сделать так – написать три книги: 1) Лев Толстой. Очерки и исследования. 2) Лермонтов. Основные проблемы. 3) Основы текстологии – для этого надо прожить и чувствовать себя здоровым еще 6–7 лет, до 1965 года, до 80 лет»[56]. Его до конца не покидала энергия постижения. За день до последнего дня рождения он признается В. Шкловскому: «Меня всяческая работа (а больше всего вопросы, из нее встающие) так обступила, что я сам не свой. Что за черт! Работал-работал 73 года, а теперь хочется все заново делать. Это – болезнь старости или, наоборот, ее здоровье. И чем больше я работаю, тем больше новых вопросов и тем»[57].
Судьба или случайность рассудили иначе. Борис Михайлович Эйхенбаум умер 24 ноября 1959 года через несколько недель после семидесятитрехлетия.
В Доме писателя, том самом, где громили Зощенко и Ахматову, был вечер эстрадных миниатюр бывшего шумного имажиниста, затем скромного драматурга и либреттиста Анатолия Мариенгофа. Эйхенбаума уговорили произнести вступительное слово. Его слушали невнимательно, публика ожидала популярного актера, который не успел вернуться с гастролей.
Последние слова, произнесенные Эйхенбаумом, запомнились свидетелям и дошли до мемуаристов в нескольких вариантах.
Присутствовавшая на вечере О. Б. Эйхенбаум услышала их так: «Надо вовремя закончить. Я все сказал»[58].
До Р. Якобсона реплика дошла в несколько ином варианте: «Самое главное для докладчика – вовремя кончить; на этом я умолкаю»[59].
Автор этого очерка слышал от Г. А. Бялого еще одну версию: «Каждый человек должен знать, когда ему уходить. И я ухожу».
Он умер через несколько минут после того, как покинул сцену. «Какой глупый провал!»[60] – произнес он еще, согласно мемуарам не присутствовавшего на вечере Шкловского (в воспоминаниях дочери эта реплика отсутствует).
Некрологический пафос переживших Эйхенбаума друзей научной молодости тоже оказался существенно различным.
Роман Якобсон был резок, публицистичен, безжалостно-ироничен: «В дни ОПОЯЗа он нередко задумывался над кульминационным пунктом, климаксом, апофеозом, над ролью конца в строе новеллы и писал о «сознании особой важности финального ударения».
В Пушкинском доме над телом усопшего, наискосок, еще висела вчерашняя стенгазета, а в ней прощальный донос на покойника, сочиненный запоздалым подражателем Папковского – «развернутый в финале анекдот», согласно терминологии молодого Эйхенбаума. «Кто-то брезгливо прочел и, тряхнувши стариной, обмолвился словом о полку Игореве: „…а звери кровь полизаша“. Нескончаемые вереницы ученых, учеников, читателей шли проститься с утраченным другом»[61].
Размышления Юлиана Оксмана элегичны и в то же время деловиты, направлены на очищение атмосферы советского литературоведения (дело, которому в последние годы он придавал огромное значение): «В воскресенье возвратился с похорон Б. М. Эйхенбаума, где двое суток были все мы под знаком этой бессмысленной смерти замечательного человека, большого ученого, личного моего старого друга, а через два следующих дня как ни в чем не бывало зажили по-прежнему, как будто бы ничего и не произошло! Но на самом деле произошло много нового, хотя бы в порядке сплочения рядов передового литературоведения, дальнейшего размежевания, увековечивания памяти Б. М., подготовки издания его трудов, как новых, так и старых. Было сказано у могилы много хороших слов, постараемся их реализовать и в жизни.
А все-таки все это очень грустно!»[62]
Виктор Шкловский оканчивает очерк об Эйхенбауме как стихотворение в прозе – о смерти, юности, памяти и работе (в нем тоже мелькает реминисценция из «Слова о полку Игореве»).
«На гражданской панихиде говорили о заслугах покойного.
Хоронили на новом кладбище Выборгской стороны.
Вороны сидели на голых ноябрьских березах.
Желтый гроб блестел лаком у глины серой могилы.
Нас осталось мало, да и тех нет, – как печально говорил Пушкин.
Шли люди вместе – разбрелись.
Был спор и бой, как свадьба.
Были работы, как бой, как пир.
Но кровавого вина недостало.
Смерть не умеет извиняться.
Вот и старость пришла. Вороны крыльями покрывают бой.
Смерть сменяет ряды людей, она готовит новое издание, обновляет жизнь.
Сохраним память о работе»[63].
Студенты и аспиранты, появившиеся на ленинградском филфаке в начале пятидесятых годов, даже не знали его имени. Было время, когда вспоминать было опасно. Потом вспоминать стало некогда. Потом – скучно. Потом на место живого ощущения эпохи пришло изучение, когда даже для младших современников Эйхенбаума его трудный путь, собственная энергия заблуждения превратились в «адаптацию» и «интериоризацию».
Для студентов двадцатых годов он был БУМ(иногда даже Бумтрест). Шкловский называл его Маркизом. В обоих прозвищах – любовь, улыбка, расположение, имеющие, однако, противоположный вектор и смысл. Первое вписывает обладателя в современность, делает его соразмерным эпохе аббревиатур (ведь он служил в ГИИИ, ИРЛИ и ЛГУ). Второе отодвигает далеко в прошлое, в другую страну и эпоху.
Граф Толстой стал для Маркиза БУМа не просто предметом текстологической работы, многочисленных изданий и публикаций, но – историческим зеркалом и многолетним собеседником. Делом жизни, которое, увы, так и не было завершено.
В кабинете русской литературы, на факультете, где он проработал больше тридцати лет, откуда был изгнан и куда уже не вернулся, стоит та же самая деревянная, покрытая новым лаком кафедра; с нее обличали и каялись в конце сороковых. На стене – портрет профессора в длинном ряду коллег-соратников и некоторых гонителей тоже (кое-кто из стоявших на кафедре-трибуне разоблачителей космополитов мирно проработал на кафедре-учреждении еще десятилетия).
За окном – Нева. В хорошую погоду за ней можно разглядеть Медного всадника – памятник Пушкину работы Фальконе.
Учреждение, в котором БУМ преподавал, называется теперь факультет филологии и искусств. ЛГУ им А. А. Жданова еще раньше превратился в СПбГУ и потерял имя одного из организаторов идеологических кампаний сороковых годов.
Неоконченная работа Б. М. Эйхенбаума, научная эпопея о Толстом, стала книгой его жизни. Ее можно прочесть как увлекательное, правда, оборванное на полуслове исследование о великом писателе. Но одновременно – как драматическую метафору судьбы замечательного ученого.
24 ноября 2008 года
[1] В последние десятилетия появились многочисленные публикации и исследования о разных аспектах биографии и научной деятельности Б. М. Эйхенбаума, на которые опирается наш очерк: Орлов Вл. Б. М. Эйхенбаум // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 5–20; Бялый Г. Б. М. Эйхенбаум – историк литературы // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л., 1969. С. 5–20; Шкловский В. Борис Эйхенбаум // Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 13–46; Бялый Г. Движение замысла // Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 3–5; «Мучительно работаю над статьей о Толстом…» / Публикация О. Б. Эйхенбаум. Составление, вступительная заметка и примечания Т. Бек // Вопросы литературы. 1978. № 3. С. 308–314; Работа над Толстым. Б. М. Эйхенбаум: Из дневников 1926–1959 гг. / Публикация С. А. Митрохиной // Контекст-1981. М., 1982. С. 263–302 (Далее: Контекст); Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступительная заметка, публикация и комментарии О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 185–218; «Цель человеческой жизни – творчество» (Письма Б. М. Эйхенбаума к родным) / Публикация Г. Д. Эндзиной // Встречи с прошлым. Вып. 5. М., 1984. С. 117–138; Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 103–131 (Далее: ВТЧ); Чудакова М.; Тоддес Е. Страницы научной биографии Б. М. Эйхенбаума // Вопросы литературы. 1987. № 1. С. 128–162; Чудакова М., Тоддес Е. Наследие и путь Б.Эйхенбаума // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 3–32; Из писем к В. Б. Шкловскому / Публикация О. Б. Эйхенбаум. Вступительная заметка и комментарии М. О. Чудаковой // Нева. 1987. № 5. С. 156–164; Переписка Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского / Публикация Н. А. Жирмунской, О. Б. Эйхенбаум, вступительная статья Е. А. Тодеса, примечания Н. А. Жирмунской, Е. А. Тоддеса // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 256–329; Каверин В. А. Б. М. Эйхенбаум // Каверин В. А. Литератор. Дневники и письма. М., 1988. С. 124–133; Гинзбург Л. Я. Проблема поведения (Б. М. Эйхенбаум) // Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 352–357; Из писем Б. М. Эйхенбаума к Г. Л. Эйхлеру / Публикация В. В. Эйдиновой, Б. С. Вайсберга, вступительная статья В. В. Эйдиновой, примечания В. В. Эйдиновой, Е. А. Рябоконя // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 250–274; Дневник 1917–1918 гг. / Публикация и подготовка текста О. Б. Эйхенбаум, примечания В. В. Нехотина // Devisu. 1993. № 1. С. 11–27; Дневник 1946 года // Петербургский журнал. 1993. № 1/2. С. 183–202;. «Я иду с туза». Из переписки Виктора Шкловского с Борисом Эйхенбаумом / Вступительная заметка, публикация и примечания О. Панченко // НЛО. 1994. № 6. С. 241–249; Письма Б. М. Эйхенбаума к А. С. Долинину / Подготовка текста, вступительная заметка и примечания А. А. Долининой // Звезда. 1996. № 5. С. 176–189; Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996 (английское издание – 1955); Бережнова Ю. А. Из разговоров с Б. М. Эйхенбаумом; Письма Б. М. Эйхенбаума к Ю. А. Бережновой (1949–1959 гг.) // Звезда. 1997. № 10. С. 152–167; Страницы дневника: Материалы к биографии Б. М. Эйхенбаума. Дневник 1923–1924 гг. / Предисловие, публикация, примечания А. С. Крюкова // Филологические записки. Вып. 8. Воронеж, 1997. С. 230–251; Вып. 10. Воронеж, 1998. С. 207–224; Вып. 11. Воронеж, 1998. С. 207–220; Тоддес Е. А. Б. М. Эйхенбаум в 30–50-е годы (К истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // Тыняновский сборник. Девятые Тыняновские чтения. М., 2002. С. 563–691; Шубинский В. Железный кузнечик (О жизни и сочинениях аббата Д’Эрбле) // Эйхенбаум Б. М. Мой временник. М., 2001. С. 5–24; Эйхенбаум О. Б. Из воспоминаний // Там же. С. 612–645; Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004 (Далее: Кертис). В приложении (С. 243–342) публикуются письма Эйхенбаума родителям (1905–1916) и В. Шкловскому (1929–1959).
[2] Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 43, 44, 50.
[3]Цит. по: Кертис. С. 258, 292.
[4] Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 39, 59–60.
[5]Цит. по: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 533 (далее: ПИЛК).
[6] Эйхенбаум Б. М. О прозе. С. 212–213 («Карамзин», 1916).
[7] Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990. С. 121 («Розанов», 1921).
[8] Эйхенбаум Б. М. О прозе. С. 320–321.
[9]Цит по: Кертис. С. 285–286.
[10] Шкловский В. Борис Эйхенбаум. С. 15.
[11] Переписка Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского. С. 319.
[12] Там же. С. 313–314.
[13] Цит по: Кертис. С. 253.
[14] «Мучительно работаю над статьей о Толстом…». С. 209–214.
[15] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 201 (28 апреля 1928 года).
[16] Ссылки на тексты, вошедшие в настоящий том, даются без указаний на страницы.
[17] Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 48 (запись 1927 года).
[18] Там же. С. 108 (запись 1932 года).
[19] Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 297 (запись 19 декабря 1924 года)
[20] Эйхенбаум Б. М. Дневник. 1924 // Филологические записки. Вып. 11. Воронеж, 1998. С. 210.
[21] См.: Кертис. С. 334 (письмо 18 марта 1947 года, оно будет процитировано позднее).
[22] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. С. 189 (25 июня 1925 года, Сиверская).
[23]Цит. по: ВТЧ. С. 113 (фрагменты писем В. Шкловскому от 16 февраля и 22 марта 1927 года). Публикацию второго письма см. также: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. С. 302–304.
[24] Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 429–430.
[25] Шкловский В. Тетива. С. 369.
[26] Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 433–434.
[27] ПИЛК. С. 264.
[28] Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 524 (комментарий М. О. Чудаковой).
[29] Там же. С. 435.
[30] Там же. С. 437.
[31] Чуковский К. Дневник. С. 125 (запись 17 ноября 1919 года).
[32] Эйхенбаум Б. М. О литературе. С. 444 (в «Моем временнике», 1929, этюд «О Викторе Шкловском» попал в раздел «Смесь»).
[33] Там же. С. 446–447.
[34] ПИЛК, С. 196.
[35] ПИЛК. С. 571 (письмо 21 февраля 1940 года).
[36] Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 37 (запись 1927 года).
[37] Там же. С. 302 (запись 1970-х годов).
[38] Там же. С. 445.
[39] Контекст. С. 267 (1 марта 1928 года).
[40] Там же. С. 269 (7 марта 1928 года).
[41] Их воспроизводит и подробно разбирает М. О. Чудакова. См.: ВТЧ. С. 114–124.
[42]Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.; Л., 1965. С. 62–63 (книга окончена в 1947 году). Кстати, пафос и путь Г. А. Гуковского сопоставимы с эволюцией Эйхенбаума. Оба прошли через формализм, позднее (на разном материале) задумали фундаментальные историко-литературные исследования, много лет, меняясь сами, упорно над ними работали. Оба – по драматическим причинам – не довели замысел до конца. В книге Гуковского «Реализм Гоголя» лишь начат анализ «Мертвых душ». Последняя фраза: «Чей суд возьмет…» – сопровождается редакторским примечанием: «На этом рукопись обрывается» (Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М; Л., 1959. С. 530).
[43] Чудаков А. П. Виктор Шкловский; два первых десятилетия // Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992. С. 212.
[44] Из писем Б. М. Эйхенбаума к Г. Л. Эйхлеру. С. 267 (7 марта 1938 года).
[45] Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 443.
[46] Веселовский А. Н. Поэзия чувства и сердечного воображения. М., 1999. С. 14, 16.
[47] Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 18–17.
[48] Из писем Б. М. Эйхенбаума к Г. Л. Эйхлеру. С. 270 (26 августа 1940 года).
[49] Эйхенбаум О. Б. Из воспоминаний. С. 638.
[50] См. Кертис. С. 334 (Шкловскому, 18 марта 1947 года).
[51] Там же. С. 335 (Шкловскому, 23 июня 1949 года).
[52] Шварц Е. Живу беспокойно. Из дневников. Л., 1990. С. 406, 606–608 (записи 9 августа 1954 года и 12–13 августа 1956 года).
[53] Контекст. С. 293 (запись 26 марта 1952 года).
[54] Там же. С. 201 (запись 15 сентября 1957 года).
[55] Там же. С. 294–295 (запись 17 апреля 1952 года).
[56] Там же. С. 302 (запись 4 июня 1958 года).
[57] Из писем к В. Б. Шкловскому. С. 163.
[58] Эйхенбаум О. Б. Из воспоминаний. С. 642.
[59] Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 604.
[60] Шкловский В. Борис Эйхенбаум. С. 45.
[61] Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 604–605. Републикатор некролога Ю. Бережнова уточняет: панихида была не в Пушкинском доме, а в том же Доме писателей, где Эйхенбаум умер; цитату из «Слова…» прокричал на кладбище В. Шкловский (там же). Об этом вспоминал и сам Шкловский (См.: Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 290).
[62] Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове. Саратов, 1999. С. 135 (письмо С. М. Касовичу, 2 декабря 1959 года).
[63] Шкловский В. Борис Эйхенбаум. С. 46.