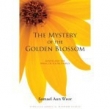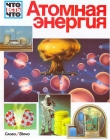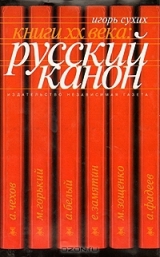
Текст книги "Толстой Эйхенбаума: энергия постижения"
Автор книги: Игорь Сухих
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Литературный быт видится Эйхенбауму не обязательно объясняющим контекстом, а скорее исторически меняющимся проблемным полем, находящимся с писательским сознанием в отношениях взаимной координации. «Литература, как и любой другой специфический ряд явлений, не порождаетсяфактами других рядов и потому не сводимана них. Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости иди обусловленности. Отношения эти меняются в связи с изменениями самого литературного факта (см. статью Ю. Тынянова „Литературный факт“ в „Лефе“, 1924, № 2), то вклиниваясь в эволюцию и активно определяя собою историко-литературный процесс (зависимость или обусловленность), то принимая более пассивный характер, при котором генетический ряд остается „внелитературным“ и как таковой отходит в область общих историко-культурных факторов (соответствие или взаимодействие). Так, в одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного факта, в другие такое же значение приобретают общества, кружки, салоны. Поэтому самый выбор литературно-бытового материала и принципы его включения должны определяться характером связей и соотношений, под знаком которых совершается литературная эволюция данного момента»[26].
Солидарная ссылка на друга-опоязовца и соратника-формалиста не должна заслонять существенного различия в их новых теоретических поисках. «Литературный быт» в смысле Тынянова оставался феноменом внутрилитературным, он понимался как периферийная копилка форм и жанров, актуализирующихся в следующую эпоху. «Чем „тоньше“, чем необычнее явление, тем яснее вырисовывается новый конструктивный принцип. Такие явления искусство находит в области быта.Быт кишит рудиментами разных интеллектуальных деятельностей. По составу быт – это рудиментарная наука, рудиментарное искусство и техника; он отличается от развитых науки, искусства и техники методом обращения с ними. „Художественный быт“ поэтому, по функциональной роли в нем искусства, нечто отличное от искусства, но по форме явлений они соприкасаются»[27]. Далее приведены конкретные примеры: письмо из бытового документа превращается в литературный факт в пушкинскую эпоху; в «наши дни» «своеобразным литературным произведением, конструкцией» становятся газеты, журналы и альманахи.
У Эйхенбаума понятие «быт» смещается в область « культурно-бытового»материала: «журнал и самый редакционный быт» (то есть журнал уже не жанр, а коммерческое предприятие или культурный институт), общества, кружки, салоны. И приводимые им «иллюстрации к понятию литературного быта» тоже принадлежат к другому ряду: переход Пушкина к журнальной прозе как симптом профессионализации писательского труда, успех книготорговли Смирдина, споры о «заказе» и «халтуре».
Замечено, что «с начала 1928 г. замысел книги Э(йхенбаума) о лит(ературном) быте все более и более втягивается в книгу о Толстом, пронизанную „литбытовой“ проблематикой»[28]. Имя Толстого мимоходом упоминается и в «Литературном быте» как раз в связи с проблемой писательской профессионализации: «Отношение к вопросу о литературном профессионализме приобретает принципиальное значение и отделяет одни писательские группы от других. Характерным и значительным в литературном смысле оказывается теперь обратный процесс: выход из литературной профессии во „вторую профессию“, как это было у Толстого, у Фета. Ясная Поляна, в которой замкнулся Толстой, противостояла тогда редакции „Современника“, с кипевшей в ней литературной жизнью, как резкий бытовой контраст, как вызов писателя-помещика писателю-профессионалу, „литератору“ (каким стал, например, Салтыков). Можно сказать, что роман „Война и мир“ явился вызовом не только по отношению к журнальной беллетристике того времени, но и по отношению к „журнальному деспотизму“, на который в 1874 году И. Аксаков жалуется Н. Лескову: „Полагаю, что довольно только знакомить читателей, посредством журналов, с началом труда, а потом подавать его отдельно. Так сделал граф Лев Толстой с своим романом“»[29].
Неожиданный план-конспект будущего исследования (включая так и написанные последние тома) вдруг обнаруживается в первых двух абзацах статьи «Писательский облик М. Горького» (опубликована 30 декабря 1927 года).
«Львом Толстым закончился не только целый период русской литературы, идущей от 40-х годов, но и нашел свое предельное выражение облик русского писателя ХIХ века. Ясная Поляна была последним убежищем этой могучей династии. Уход Толстого был не только семейным, но и социальным актом – отречением от своей власти в предчувствии новой эпохи.
Уже с 70-х годов русская литература стала терять свое прежнее исключительно высокое положение. Толстой сохранял свою власть тем, что ушел от журналов с их редакционной суетой и полемикой и сделал свою Ясную Поляну неприступной литературной крепостью, а себя – литературным магнатом, не зависящим от редакторов, издателей, книжного рынка и пр. Это было последнее усилие русского писателя сохранить свое значение – значение „властителя дум“[30].
Но на пути от „Литературного быта“ к Толстому происходит еще один важный теоретический сдвиг. В предисловии к первому тому появляется обобщающая категория, резко меняющая перспективу. „Литературный быт“ частично привел меня к изучению биографического материала, но под знаком не „жизни“ вообще („жизнь и творчество“), а исторической судьбы, исторического поведения. Таким образом, биографический „уклон“ явился как борьба с беспринципным и безразличным биографизмом, не разрешающим исторических проблем. ‹…› От этих проблем и работ я и вернулся к мысли – написать книгу о Толстом с новым материалом в руках. Литературная позиция и самая судьба Толстого, всю жизнь боровшегося с литературно-бытовым укладом своего времени, должна предстать в новом свете, если использовать биографический материал для разрешения определенных проблем (например, история писания „Казаков“ на фоне литературного соперничества с братом Николаем)».
Ключевыми в этом пассаже являются не ссылки на литературно-бытовой уклад и литературное соперничество (это как раз продолжение «примеров» из «Литературного быта»), а объемлющие их понятия исторического поведения, исторической судьбы.«Быт», таким образом, подвергается обобщению и превращается в Историю. В россыпи «беспринципных» биографических фактов (жизнь и творчество) исследователь должен обнаружить знаки судьбы. А историческое поведение, формы реакции писателя на историю, оказывается искомым сюжетомисторико-литературного построения.
Морфология литературы (с нее начинался формализм) превращалась, таким образом, в морфологию культуры, центром которой оказывался писатель, пропускающий через себя, как кит планктон, семейные конфликты, социальные проблемы, прочитанные книги, превращающий их в семантическую парадигму произведения.
Из писателей ХIХ века для проверки подобной концепции-гипотезы идеально подходил лишь Лев Толстой (и отчасти – Лермонтов, другой любимый объект исследований Эйхенбаума).
Толстой прошел почти через весь ХIХ век, через все его эпохи (кроме пушкинской), потому именно в его биографии можно было увидеть самые разные исторические наслоения, сломы, формы исторического поведения.
Толстой активно строил свою жизнь, причем этапы его «литературной карьеры» сопровождались регулярными побегами в разные сферы быта, обращением ко «второй профессии», то военного, то русского помещика, то учителя, то моралиста-проповедника.
Толстой много размышлял об истории и сам превратил историю в роман, следовательно, здесь особенно наглядным становится механизм этой трансформации.
Толстой в конце концов вышел победителем из борьбы с историей, поэтому его путь, его историческое поведение оказывалось важным уроком современности, существенным (пусть и прямо не формулируемым) личным, биографическим стимулом.
Обращение к «литературному быту» под интегралом истории было разрешением одного фундаментального противоречия, которое Эйхенбаум и его главные соратники, мушкетеры формализма, кажется, до поры до времени не осознавали.
Вернемся ненадолго назад, в эпоху бури и натиска, когда формализм уже не только определился в своих принципиальных установках, но и приобрел ревностных сторонников и последователей. К. Чуковский рассказывает об одном диспуте после (как говорили через полвека) «квартирника», научного доклада на квартире какого-то доктора. Рассказ предваряют колоритные детали зимы девятнадцатого года: Гумилев привозит своей второй жене из Бежецка полфунта крупы в подарок, а Чуковский дает ему взаймы 36 полен; приходит Мережковский в изумительной шубе и собольей шапке и жалуется, хочет уехать из Питера; вместе они идут на доклад Блока о музыкальности и цивилизации; поэт в фуфайке, «при всяком слове у него изо рта – пар», читает, а «несчастные обглоданные люди – слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации».
После этого доклада-пророчества автор дневника оказывается на другом заседании. «Там Жирмунский читал свой доклад о „Поэтике“ Шкловского. Были: Эйхенбаум в шарфе до полу, Шкловский (в обмотках ноги), Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и др. Жирмунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет – и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал – угловато, задорно и очень талантливо. Векслер (слушательница литературных курсов. – И. С.) заподозрила Жирмунского, что он где-то упомянул душу писателя, и сделала ему за это нагоняй. Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа. Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа»[31].
Парадокс раннего формализма в том, что на этой стадии литература и наука как бы поменялись местами. «Натаскивали» на формализм, сводили «душу» к «сумме стилистических приемов» люди с обостренным чувством авторства, все время обнаруживающие личную, интимную связь с материалом, совсем необязательную и нехарактерную для академического научного исследования.
«Он существует не только как автор, а скорее как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа – и романа проблемного. В том-то и дело, что Шкловский – не только писатель, но и особая фигура писателя. ‹…› В другое время он был бы петербургским вольнодумцем, декабристом и вместе с Пушкиным скитался бы по югу и дрался бы на дуэлях; как человек нашего времени – он живет, конечно, в Москве и пишет о своей жизни, хотя, по Данте, едва дошел до середины»[32], – эффектно поставит Эйхенбаум соратника и друга в лестный исторический ряд больших людей и настоящих писателей.
Но почти одновременно в конспекте речи о Мандельштаме (1933) появляется совершенно «морфологическая» формулировка: «Смерть Маковского и Есенина была смертью систем с их главными жанрами – одой и элегией»[33].
Это почти буквальный повтор основной мысли тыняновской заметки-некролога «О Маяковском. Памяти поэта» (1930): «Он вел борьбу с элегией за гражданский строй поэзии, не только внешнюю, но и глухую, внутри своего стиха, „наступая на горло собственной песне“»[34].
Чернышевский когда-то убеждал Некрасова, что люди стреляются и вешаются не от мировых вопросов, а по причинам более конкретным и личным. Принудительная логика формального метода («не можем и не имеем права») отказывала Гоголю или Маяковскому в том, что фактически узурпировали Шкловский или Эйхенбаум. Литературовед-исследователь превращался в литературного героя с биографией и психологией, одновременно утверждая, что наука должна признать своим единственным «героем» – «прием» (Р. Якобсон).
Совсем в другую эпоху, как раз в год, когда была окончена третья книга «Льва Толстого», Шкловский написал Эйхенбауму: «Итак, дружны мы с тобой и даже ссорились лет 25. Шло время, построили мы науку, временами о ней забывали, ее заносило песком. Ученики наших учеников, ученики людей, которые с нами спорят, откроют нас. Когда будут промывать библиотеки, окажется, что книги наши тяжелы, и они лягут, книги, золотыми, надеюсь, блестками и сольются вместе, и нам перед великой русской литературой, насколько я понимаю дело, не стыдно»[35].
Если бы это стихотворение в прозе прочел человек, в шестнадцатом году открывший формализм брошюрой «Искусство как прием», а в девятнадцатом выступавший в дискуссии и слушавший отповедь курсистки Жирмунскому, он, наверное, съехидничал бы: «Сколько пышных фраз, какое риторическое банальное гуманное общее место! Этот текст сделан на развернутой метафоре золотодобычи, осложненной строительной метафорой и использованием абстрактных определений. Вы появились, чтобы заменить цензуру на цезуру (шутка Томашевского), – только и всего. Старшая линия уходила гулять под паром, требовалась смена языка описания, выполнить эту назревшую задачу должен был – какая разница – хоть Шкловский, хоть Орловский!»
Смысл «энергии заблуждения» Эйхенбаума и его теоретических поисков второй половины двадцатых годов, кажется, лучше всего поняла и описала Л. Я. Гинзбург.
«Старые опоязовцы умели ошибаться. Как все новаторские движения, формализм был жив предвзятостью и нетерпимостью. Имеет ли смысл сейчас методологическое злорадство: ага, они отрекаются от старых ошибок, от ошибок, на которые я (такой-то) указывал еще в таком-то году. Так вот, в таком-то году (например, в 1916-м) ошибки, будучи ошибками, еще были экспериментом. Наряду с понятием рабочей гипотезы следовало бы ввести понятие рабочей ошибки. ‹…› Борис Михайлович еще недавно отстаивал пресловутую теорию имманентного развития литературы не потому, что он был неспособен понять выдвигаемую против нее аргументацию, а потому, что хотел беречь свою слепоту, пока она охраняла поиски специфического в литературе .‹…› Сейчас несостоятельность имманентного развития литературы лежит на ладони, ее нельзя не заметить. Если этого не замечали раньше, то потому, что литературные теории не рождаются из разумного рассуждения. Казалось бы, под влиянием правильно построенной аргументации противника методы исследования могут замещаться другими. Так не бывает – литературная методология только оформляется логикой, порождается же она личной психологией в сочетании с чувством истории. Ее, как любовь, убивают не аргументацией, а временем и необходимостью конца. Так пришел конец имманентности»[36].
Через несколько десятилетий Гинзбург делает важное наблюдение-догадку: «Историко-литературные работы удаются, когда в них есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла»[37].
Она становится ключом к объяснению эволюции Эйхенбаума и его толстовского цикла в позднем итоговом эссе «Проблема поведения. Б. М. Эйхенбаум» (1989): «Для Эйхенбаума на одном полюсе историзма – поведение героев его научных книг. ‹…› На другом полюсе – поступки самого ученого, литератора, личности.
Историко-литературным работам особую динамичность придает их подспудное личное значение, скрытое отношение к жизненным задачам писавшего. У больших научных трудов Бориса Михайловича Эйхенбаума был свой интимный смысл – проблема исторического поведения личности»[38].
То, что даже соратникам казалось компромиссом, отступлением, уступкой обстоятельствам, на самом деле было попыткой привести в соответствие личное самоощущение и научные принципы, понять собственную жизнь и объект исследования, писательскую биографию, в одной системе координат, под знаком отношений с историей. «Все мучаюсь над вопросом о том, как написать мне книгу о Толстом, чтобы для меняона имела значение. ‹…› Единственное – построить всю книгу на одной проблеме, которую проследить на Толстом. И проблему эту я чувствую – это, конечно, вопрос об эволюции, о поколениях, об историческом Толстом (с литературным бытом и пр.)…»[39]
Новой идеей-гипотезой, объясняющей эволюцию Толстого, стала его борьба с современностью с позиций чудака-архаиста (в самых поздних работах – наследника декабристских и социально-утопических идей). Она декларирована на первой же странице первой книги: «Толстой – воинствующий архаист, отстаивавший в середине XIX века принципы и традиции уходящей и частью ушедшей культуры XVIII века. Это – глубоко-историческое и знаменательное явление. Ясная Поляна – не только поместье, но и место хранения традиций, противопоставляемых новой петербургской „цивилизации“, опытное поле для культивирования этих традиций и навыков, идеологическая крепость, за стенами которой живет особо организованный на соединении самых разнообразных принципов, причудливый в своей противоречивости, архаистический в своей основе мир, созданный отчасти воображением, отчасти упорством Льва Толстого. Это – не столько „дворянское гнездо“, сколько восстановленная его модель, только издалека кажущаяся точной копией. И сам Толстой – не столько идеолог, сколько мемуарист, полемически настроенный к чуждой ему „современности“, но в то же время понимающий ее историческую неизбежность и силу. Самое искусство для него – замена чего-то другого, уже невозможного: не профессия, не „артистическая“ специальность, а одно из дел, явившееся взамен других и наряду с другими. В другом веке, в другой эпохе Толстой был бы, конечно, не писателем. В этом – особая его власть, особая сила, выделяющая его среди всех других явлений русской литературы второй половины XIX века» (Пятидесятые годы. Ч. 1, гл. 1).
Метафоры войны, сражения постоянно возвращаются, создавая сквозной пунктирный «сюжет», подтверждая самонаблюдение Эйхенбаума в процессе работы над первым томом: «Пишу странно – совсем не так, как раньше: в стиле полубеллетристики или мемуара»[40].
Иногда автор переходит к внутренней точке зрения, превращая текст почти в чистую беллетристику: «В редакции „Современника“ – событие. Среди писателей-интеллигентов, уже давно изучивших друг друга и успевших друг другу порядочно надоесть и много раз поссориться и помириться, появилось новое лицо – молодой офицер и граф, двадцатисемилетний Лев Толстой. Герой Севастопольской обороны, граф Толстой делает смотр русской литературе. ‹…› В редакции „Современника“ закипает настоящая, хотя и в миниатюрном виде, гражданская война. Толстой, еще не сбросивший с себя военной формы, попадает с одного фронта на другой. Он ведет себя тут таким же „башибузуком“ – и бой, при его участии, принимает серьезный, артиллерийский характер». (Пятидесятые годы. Ч. 2, гл. 3).
Однако такие беллетристические вкрапления сравнительно немногочисленны. В книгах преобладает научный дискурс, демонстрация материала: сопоставление источников, поиск влияний, разбор критических статей (некоторые, малоизвестные, приводятся полностью). Причем гипотеза «борьбы с историей» ведет к непривычным биографическим и аналитическим пропорциям: о князе Урусове в книге говорится больше, чем о С. А. Толстой, а эпиграф к «Анне Карениной» анализируется подробнее, чем остальной текст.
Аналитические фрагменты занимает в книге довольно скромное место (причем в третьем томе таких анализов больше). Они, как правило, возникают в начале или в конце «бытовых» разделов и как будто представляют конспект будущих «спецификаторских» глав о «Казаках», «Войне и мире» или «Анне Карениной». Но этот конспект так четок по мысли, так насыщен, что по нему легко восстановить, кажется, опущенные, а на самом деле – еще не существующие звенья.
В начале разговора об «Анне Карениной» используется характерная для Эйхенбаума двадцатых годов терминология ( сделано, влияние, преодоление, борьба), но завершается пассаж напоминанием об авторе-демиурге, создателе сделанной вещи, субъекте борьбы и влияний. «Роман поначалу кажется сделанным по европейскому образцу, чем-то вроде сочетания традиций английского семейного романа и французского «адюльтерного». ‹…› Французские критики в известном смысле правы, когда они видят в «Анне Карениной» следы изучения Толстым французской литературы – Стендаля, Флобера; но, увлекаясь патриотизмом, они не видят главного – того, что «Анна Каренина» (не говоря о русских традициях, восходящих к Пушкину, о чем речь впереди) представляет собой не столько следование европейским традициям, сколько их завершение и преодоление. Однако это получилось не сразу. История создания «Анны Карениной» есть история напряженной борьбы с традицией любовного романа – поисков выхода из него в широкую область человеческих отношений. Роман скрывает в себе большое внутреннее движение: это не простое единство, а единство диалектическое, явившееся результатом сложных умственных процессов, пережитых самим автором» (Семидесятые годы. Ч. 3, гл. 1).
Позднее сформулирована исследовательская доминанта – как проекция главной гипотезы монографии: «Центральная проблема романа – проблема отношения к жизни, к действительности, проблема поведенияи связанная с нею проблема „дурного“, проблема виновности, волновавшая Толстого до конца жизни („Нет в мире виноватых“)».
В итоговом пассаже интерпретация эпиграфа перерастает в формулировку общего смысла книги, причем в стиле свободного размышления, почти без всякого использования специальной терминологии (упоминание М. Алданова объясняется ранее цитированной его книгой «Толстой и Роллан»). «Итак, эпиграф относится к судьбе Анны и Вронского. „А как же Бетси Тверская и Степан Аркадьевич? – спросит читатель, прочитавший книгу М. Алданова. – Почему же они продолжают жить припеваючи?“ Это вопрос человека, обсуждающего роман Толстого с юридической точки зрения, а не по существу. Толстой не был юристом и писал свой роман не для юридической науки. Тут нет „состава преступления“, – и ни прокурорам, ни защитникам делать с этим романом нечего. Тут – проблема высшей этики. Бетси Тверская и Степан Аркадьевич, как и все светское общество, живут вне всякой этики или морали и потому стоят вне этой проблемы. Анна и Вронский стали подлежать собственному моральному суду („вечному правосудию“) только потому, что они, захваченные подлинной страстью, поднялись над этим миром сплошного лицемерия, лжи и пустоты и вступили в область человеческих чувств. Там, где есть Левин, Анна и Вронский, Толстому и его богу незачем возиться с Бетси Тверской и прочими „профессиональными грешниками“: они существуют в романе как реальное социальное зло, которое подлежит суду история. Толстой, как настоящий реалист, написал не нравоучительный роман на тему „о высшей справедливости“, а нечто совсем иное, и его эпиграф нельзя понимать ни как проповедь мещанской морали, ни как речь спутавшегося юриста, начавшего с обвинения, а кончившего защитой» (Семидесятые годы. Ч. 3, гл. 3).
Первые две книги о Толстом (третью читали уже совсем другие современники, если мерить эйхенбаумовскими десятилетними циклами – люди третьего поколения, внуки) вызвали не только привычную критику со стороны, но и скептические отзывы соратников-опоязовцев[41]. Их общий знаменатель: беллетризация, слишком хорошо написано («Боре нужно написать роман про Толстого. Для этого из его статей нужно выскоблить кавычки»; Шкловский – Тынянову) и методологический эклектизм, уход от «прекрасной ясности» раннего формализма («Борис Михайлович в последних работах разложился до эклектизма. Его лит. быт – вульгарнейший марксизм»; Шкловский – Якобсону).
Интегрирированный по аргументам (по тону же – доброжелательно-иронический) отклик о труде Эйхенбаума остался в методической работе Г. А. Гуковского (совсем скоро он вместе с Эйхенбаумом будет изгнан из университета и погибнет). «Вот два тома труда Б. М. Эйхенбаума „Лев Толстой“: в этой книге идет речь о Льве Толстом (как говорит и ее название), но не о произведениях Льва Толстого, а об идеях Льва Толстого, выраженных в любом проявлении его мысли, кроме как в художественных образах.
Это – биография, глубокая, тонкая, блестяще написанная, но – биография, а не исследование творчества. Как-то сам Б. М. Эйхенбаум со свойственным ему тонким остроумием говорил о том, что Левин в „Анне Карениной“ все-таки не Толстой, – между ними одно различие, всего одно, но какое! Левин делает и думает совсем то же, что делал и думал Толстой, кроме одного: он не написал „Войны и мира“. В труде Б. М. Эйхенбаума Толстой написал „Войну и мир“. Но это не та „Война и мир“, которую мы все знаем. Это не роман, а рассуждение об истории, не подымающееся над уровнем идей Урусова. Б. М. Эйхенбаум рассказал нам о Левине, а не о Льве Толстом, об Урусове, но не о Толстом; о человеке-чудаке, а не о гении-писателе. Это почти роман, но не книга по истории литературы»[42].
Совсем скоро обнаружилось, что в этом историческомспоре прав был скорее автор «Льва Толстого», а не его оппоненты. Дело даже не в том, что вскоре Виктор Борисович Шкловский поставит «Памятник научной ошибке» (Эйхенбаум публично никогда не каялся в своих формальных «заблуждениях»). Написанная одновременно с первыми томами «Льва Толстого» книга Шкловского «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“» (1928) в гораздо большей степени заслуживала упреков в вульгарнейшем марксизме и эклектизме. Критики сразу же поймали автора на неумении держать «марксистскую ложку», потому что «его держит за фалды старый Опояз». Совмещение несовместимого, затушеванное личным тоном, «атакой стилем» стало характерной чертой поздних работ Шкловского. «Его мышление как бы распадалось на две несовместимые (у него) сферы – одну „формальную“, другую – нет. ‹…› Раздвоенность стала привычной»[43].
Тынянов вроде бы выходит из формальной эпохи тем путем, который рекомендовал Эйхенбауму Шкловский: разделением науки и беллетристики, скачком от документа, исследования к роману. Как исторический романист он находит свою манеру, быстро приобретает авторитет и высокий социальный статус. В тридцатые годы в ленинградском Союзе писателей он вместе с Чуковским, Зощенко, Маршаком получает гонорары по высшей, седьмой, категории. «Юрия Николаевича я давно не видал: мы с ним „разошлись“. Он обиделся на меня за то, что я не порвал деловых отношений с одним литературоведом, с которым у него была квартирная ссора. Это – повод, а причина, конечно, глубже. Он стал „литературным аристократом“, а я остался чернорабочим. Мы как-то оказались в разных „классах“. Ничего не поделаешь!»[44] – вздохнет Эйхенбаум в письме знакомому редактору.
Однако возвращение Тынянова к научной работе тоже оказалось методологически не отрефлексированным. Статьи о Кюхельбекере и «Безыменная любовь» трудноотличимы от беспринципного биографизма академического литературоведения, скорректировать который была призвана теория литературного быта.
В книгах о Толстом, отталкиваясь от теории литературного быта и сублимируя опоязовскийпанэстетизм, Эйхенбаум пробовал создать новый научный жанр, предлагая в качестве рабочей гипотезы мысль о Толстом как художнике собственной жизни, главным мотивом которой была борьба с историей с позиций принципиального архаиста.
«Эйхенбаум исследует толстовское творчество и поведение в единстве их методологии. Отсюда, вопреки установкам раннего ОПОЯЗа, интерес к биографии автора, понимаемой как «личная жизнь в истории» (формулировка Г. Винокура в его книге «Биография и культура»). Позднейший монументальный труд Эйхенбаума о Толстом – это своего рода творческая биография, изображение и исследование всего того, внешнего и внутреннего, что служило материалом творчеству. И это уже на самом широком социально-историческом фоне»[45], – описывает специфику этого жанра Л. Я. Гинзбург.
Традиционным методологически неопределенным жанрам историко-литературного исследования и эмпирической биографии, биографии-хроники (в пределе – летописи жизни и творчества), которые привычно складывались в критико-биографический очерк, монографию о «жизни и творчестве», была противопоставлена конструктивная биография, биография-гипотеза, биография с идеей, пределом которой мог бы стать (но не становится) биографический роман.
Конечно, в этих работах видны и «следы инструмента», в отсутствии которых упрекал автора Шкловский, и сопротивление материала. Проблематичными остаются как соотношение ингредиентов (собственно биография, творческая история, критика, анализ текста), так и конкретные утверждения Эйхенбаума (роль того же князя Урусова или степень зависимости толстовской эпопеи от трактата Прудона «Война и мир»). Но принципиальна сама гипотеза, идеальный образ жанра, жанровая модель: в центре творческой (конструктивной) биографии оказывается не писатель-творец, создающий из своей жизни судьбу («жизнестроение»), а разноплановый, бомбардирующий его сознание «литературный быт», превращающий в особую эстетическую версию бытие (художественный мир).
Предвестием, структурным аналогом этого жанра, можно, пожалуй, назвать монографию А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения» (1904), где рабочая гипотеза единства жизни и творчества поэта – тоже принципиального архаиста, но на совершенно иной основе – формулируется уже во введении: «Годы проходили мимо него, как столетия мчались мимо Странствующего Жида, пролетела пушкинская пора, байронизм, реализм и то, что называется русским романтизмом: все это скользнуло по нем, а он все тот же. Менялись предметы его привязанностей, не менялось чувство в сознании испытанной любви и дружбы, облагородившей его душу. Прошлое овладело настоящим: царило воспоминание. ‹…› Будущий биограф поэта будет, без сомнения, богаче меня фактами, либо неоткрытыми доселе, либо не подсмотренными мною. Последней возможности я не отрицаю, но для меня всего важнее вопрос: угадал ли я общее настроение, ответил ли требованиям объективности беспристрастным выбором материала, представляющим читателю выводы и оценки? К этой объективности я стремился. Сознаю, что всецело она недостижима. Я старался направить анализ не столько на личность, сколько на общественно психологический тип, к которому можно отнестись отвлеченно, вне сочувствий или отвержений, которые так легко заподозрить в лицеприятии»[46]. Как рабочая гипотеза исследования (угадываемая), так и противопоставление его традиционной биографии (направить анализ на общественно-психологический тип) четко фиксируются Веселовским.
Продолжением этой традиции можно считать «Сотворение Карамзина» и (в меньшей степени из-за ее учебного характера) «А. С. Пушкин. Биография писателя» Ю. М. Лотмана. Лотман называет свою книгу о Карамзине романом-реконструкцией и ожидаемо вспоминает Тынянова. Но в ней нет ничего романного (хронотоп с персонажами, сюжет с неожиданными поворотами, персонажи с портретами и диалогами). В предисловии этот искомый жанр сразу же противопоставлен роману биографическому, хотя было бы лучше вовсе не вспоминать о романе. Книга развертывается как исследовательский логический дискурс, представляющий, однако, не хронологическую цепочку биографических фактов и деталей, а проверку, развитие, доказательство заявленной гипотезы. «Жизнь Карамзина – непрерывное самовоспитание. Духовное „делание“ и историческое творчество, сотворение своего „я“ и сотворение человека своей эпохи сливаются здесь воедино. Карамзин всю жизнь „творил себя“. Этому и будет посвящен наш рассказ. Внешние же обстоятельства его биографии потребуются нам лишь как описание мастерской, в стенах которой это творчество совершалось»[47]. «Сотворение Карамзина» – еще одна попытка творческой биографии, биографии с идеей, так что с большим основанием Ю. М. Лотман мог в данном случае вспомнить не романы Ю. Тынянова, а «Льва Толстого» Эйхенбаума.