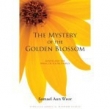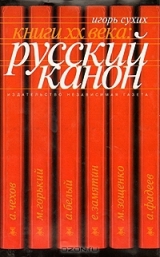
Текст книги "Толстой Эйхенбаума: энергия постижения"
Автор книги: Игорь Сухих
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Толстой Эйхенбаума: энергия постижения (1919–1959)
Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость.
Л. Толстой – А. А. Толстой, 18–20 октября 1857 г.
В жизни, кроме труда и сна, – ничего не осталось. Без Толстого я бы, вероятно, помер. Он у меня вроде любовницы.
Б. Эйхенбаум – В. Шкловскому, 25 апреля 1932 г.
Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) долго выбирал – призвание, профессию, метод, героя[1].
Приехав в 1905 году после окончания гимназии из провинциального, но богатого культурными традициями Воронежа в Петербург, он первоначально пошел по семейной стезе (отец и мать были известными врачами). Однако вскоре из Военно-медицинской академии Эйхенбаум переходит на биологическое отделение Вольной высшей школы П. Лесгафта, одновременно посещает музыкальную школу Е. Рапгофа.
«Я сделался скитальцем – как все неудачные любовники. Простившись с анатомией, я бросился к роялю, но здесь меня ожидали муки, сомнения и новые соблазны. ‹…› Моя жизнь наполнена безумием и упрямством. ‹…› Я представитель особой национальности, не встречающейся ни в Китае, ни в Европе. Я – русский юноша начала ХХ века, занятый вопросом, для чего построен человек, и ищущий своего призвания. Я – странник, занесенный ветром предреволюционной эпохи, эпохи русского символизма, из южных степей в петербургские мансарды».
Эпоха странствий окончилась вполне ожидаемо. «Литература в детстве не была задумана», – признавался Эйхенбаум. Однако, вспомнив хранившуюся дома поэму деда-литератора, он заключает: «Закон наследственности, о котором почему-то не думали мои родители (Лесгафт отрицал его категорически) привел меня в здание 12 коллегий – на историко-филологический факультет Петербургского университета»[2].
Эйхенбаум поступил на славянско-русское отделение в 1907 году. Позанимавшись и на отделении романо-германском (новые свои колебания он позднее объяснял как выбор между славянофильством и западничеством), он «вернулся на родину», в Пушкинский семинарий С. А. Венгерова, где впервые увидел Ю. Тынянова, друга и соратника на всю жизнь. Ко времени окончания университета (1912) молодой филолог уже вполне освоился в культурном мире Петербурга: сочинял стихи (некоторые будут опубликованы в «Моем временнике»), написал статью «Пушкин и бунт 1825 года» (1907), послужил секретарем у своего двоюродного брата – историка М. К. Лемке, определил круг своих научных знакомых (Ю. Н. Тынянов, В. М. Жирмунский, рано умерший Ю. А. Никольский), посещал литературные вечера символистов и футуристов.
Для Эйхенбаума как человека рубежа веков оказались важны некоторые принципиальные установки времени. Выбор профессии был обусловлен не только его индивидуальными предпочтениями или прагматическими соображениями, но пафосом жизнестроения человека символистской эпохи. В письме отцу (22 сентября 1906 года) Эйхенбаум размышляет: «Моя душа требует не только разрешения проблем человеческой жизни, но и изображения их. Рождает вопросы, чувства, мысли и т. д. жизнь; изображает их с возможной яркостью и силой искусство, а решает, объясняет и т. д. наука. Тут неразрывная цепь, величайший союз и единство. И пока существует человек, до тех пор будет искусство как производная жизни». Несмотря на стихи, выбор был сделан в пользу объяснения. «Родные! Спешу порадовать вас еще неожиданной новостью: мне предлагают остаться при унив. ‹ерсит› ете. ‹…› О научной работе я последнее время усиленно мечтаю – у меня и тема есть определенная, большая и для меня очень подходящая. Соединить работу журнальную с научной – мой идеал. Журнальная, по-видимому, пойдет хорошо» (29 октября 1913 года)[3].
Можно долго гадать, как сложилась бы судьба будущего профессора Санкт-Петербургского университета Бориса Михайловича Эйхенбаума. Но жить и работать ему пришлось уже в Петрограде–Ленинграде. История, от которой он до поры до времени пытался отмахнуться («На митингах, вместо того, чтобы быть судьей, я чувствовал себя подсудимым. Меня судили за то, что я не думаю о государстве, за то, что я близорук, что я – человек маленьких провинциальных масштабов. ‹…› На меня нападала тоска. Петербург – не город, а государство. Здесь нельзя жить, а нужно иметь программу, убеждения, врагов, нелегальную литературу, нужно произносить речи, слушать резолюции по пунктам, голосовать и т. д. Нужно, одним словом, иметь другое зрение, другой мозг. А я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: „Ужо, строитель чудотворный!“) переломила и эту судьбу.
О главном Эйхенбаум говорит пунктирно, заканчивая автобиографическую часть «Моего временника»:
«Война (за месяц до нее – смерть матери).
Революция (за месяц – смерть отца).
Октябрьский переворот.
Голод, холод, смерть сына.
Жизнь у оконной печки.
Мясо из Дома ученых, ковчег Дома литераторов.
Каюты и палубы ГИЗа, черный ледяной дом Института истории искусств.
Смерть Блока, гибель Гумилева.
Виктор Шкловский, остановивший меня на улице. Юрий Тынянов, запомнившийся еще в Пушкинском семинарии.
ОПОЯЗ.
Это все были исторические случайности и неожиданности.
Это были мышечные движения истории. Это была стихия.
Настало время тратить силы»[4].
Первое советское десятилетие он предпочитает тратить силы под знаком ОПОЯЗа.
ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) – одна из главных филологических легенд советской эпохи. При неясности хронологических границ его существования и размытости персонального состава всегда имел четко определимое ядро (один из современных критиков даже вспоминает о трех мушкетерах). «Опояз – это всегда трое»,– напишет В. Шкловский Р. Якобсону (16 февраля 1929 года)[5], имея я виду себя, адресата и Юрия Тынянова. Но ведь мушкетеров на самом деле было четверо. Четвертым в этом кругу, и не последним по счету, был Эйхенбаум. Именно его статья «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (авторская дата: февраль 1919) стала манифестом и знаменем раннего ОПОЯЗа.
Однако его место (чуть в стороне, четвертый, не попавший в заголовок) тоже было не случайным. Молодым мушкетерам было легче: дразня академическую науку, они начинали с формализма как безальтернативной реальности. За плечами тридцатитрехлетнего Эйхенбаума (он был на семь лет старше Шкловского, на восемь – Тынянова, на десять – Якобсона) было чтение немецких философов, увлечение романтиками, почти десятилетний опыт литературной работы в духе философско-психологической критики. Он откликнулся на призыв В. Шкловского в духе пушкинского героя: «Не бросил ли я все, что прежде знал, / Что так любил, чему так жарко верил, / И не пошел ли бодро вслед за ним, / Безропотно, как тот, кто заблуждался, / И встречным послан в сторону иную?»
Тойстороной была философская интерпретация искусства и творчества: «В бытии Карамзин видел не предметы сами по себе, не материальность, не природу, но созерцающую их душу. ‹…› Между его философией и поэтикой – полное соответствие. ‹…› И можно прямо сказать, что мы еще не вчитались в Карамзина, потому что неправильно читали. Искали буквы, а не духа. А дух реет в нем, потому что он, «платя дань веку, творил и для вечности»[6].
Инойстороной стал провокативный лозунг Виктора Шкловского «Искусство как прием». «Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме его стилистических приемов»[7].
Эта броская формулировка была фундаментально обоснована и проверена на гоголевской «Шинели», особенно наглядно и бескомпромиссно – в анализе знаменитого «гуманного места»: «У нас принято понимать это место буквально – художественный прием, превращающий комическую новеллу в гротеск и подготовляющий „фантастическую“ концовку, принят за искреннее вмешательство „души“. Если такой обман есть „торжество искусства“, по выражению Карамзина, если наивность зрителя бывает мила, то для науки такая наивность – совсем не торжество, потому что обнаруживает ее беспомощность. Этим толкованием разрушается вся структура „Шинели“, весь ее художественный замысел. Исходя из основного положения – что ни одна фраза художественного произведения не можетбыть сама по себе простым „отражением“ личных чувств автора, а всегда есть построение и игра, мы не можем и не имеем никакого прававидеть в подобном отрывке что-либо другое, кроме определенного художественного приема. Обычная манера отождествлять какое-либо отдельное суждение с психологическим содержанием авторской души есть ложный для науки путь. В этом смысле душа художника как человека, , переживающеготе или другие настроения, всегда остается и должна оставаться за пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное – не только искусное, но и искусственное в хорошем смысле этого слова; и потому в нем нет и не может бытьместа отражению душевной эмпирики»[8].
Кажется, что автор статьи не только спорит с наивным зрителем и шедшими у него на поводу прежними интерпретаторами, но и настойчивыми курсивами пытается убедить, загипнотизировать самого себя: ни одна фраза… не можетбыть, мы не можем и не имеем никакого права, в нем нет и не может быть местаотражению душевной эмпирики.
С другой стороны, обращение в формализм было подготовлено ранним, еще донаучным чтением. В письме родным (4 мая 1910 года) есть подробный и восторженный отзыв о книге Андрея Белого «Символизм»: «На днях вышла необыкновенно интересная книга статей Андрея Белого – я купил ее и положительно поглощен ею. Главное содержание книги – анализ стихотворного ритма. ‹…› Это чуть ли не первая настоящая книга по теории слова на русском языке, и я не сомневаюсь, что она сделает эпоху. Все приемы прежней критики – исторической, публицистической, психологической, импрессионистической – должны отойти в сторону или бросить свой отвратительный дилетантизм и войти в состав других более общих наук. А настоящая критика должна быть эстетической, критикой формы, критикой того, каксделано»[9].
Уже здесь присутствуют и модус долженствования, и протест против дилетантизма, и эстетическая доминанта, и словосочетание как сделано, которое через десятилетие станет знаменитым после статьи о «Шинели» Однако все эти свойства могли проявиться благодаря энергии Шкловского, его бескомпромиссной убежденности (объясняемой, помимо прочего, психологией научного дилетанта-изобретателя), что новая наука должна появиться на голом месте, здесь и сейчас
«Борис Михайлович, пройдя много путей, к тому времени был уже сложившийся филолог, – вспомнит через много лет Виктор Шкловский. – У него впереди была светлая и внятная судьба. Я ему испортил жизнь, введя его в спор. Этот вежливый, спокойный, хорошо говорящий человек умел договаривать все до конца, был вежлив, но не уступал. Он был человеком вежливо-крайних убеждений»[10].
В. М. Жирмунский, прочитав первоначальную редакцию воспоминаний трубадура формализма в книге «Жили-были» (1964), дополнил ее своими соображениями. «Глава об Эйхенбауме очень трогательна и душевна и написана почти „пастельными“ тонами. Это – хороший памятник, лучшего, я думаю, не будет, хотя будут другие, более казенные и с подобающей научной полнотой. В частности, они скажут яснее и о том, сколь многим Б. М. обязан твоему идейному влиянию. ‹…› Я до сих пор ясно помню, как в конце лета 1918 г. Б. М. приехал ко мне в Саратов, совершенно взбудораженный и как бы взорванный изнутри обилием новых идей, исходящих от тебя, которые он в то время воспринял буквально как откровение. „Он был человеком вежливо-крайних убеждений“ – это замечательно точно. Но то, о чем ты умалчиваешь, вероятно, сознательно, была особая женственная пассивность натуры Б. М., вследствие которой он становился фанатиком „крайних убеждений“, зароненных в его сознание воздействием умственной активности духовно близкого ему человека. ‹…› Так было ‹…› при решающей для его идейного развития встрече с тобой и еще раз при встрече с Ю. Н. Тыняновым.
Я всегда изумлялся тому, как сочеталась в творчестве Б. М. эта женская „пассивность“ с чрезвычайной яркостью и содержательностью его собственных идей. Возможно, что его оригинальные замыслы были более обращены к конкретной „интерпретации“ (как теперь принято говорить на Западе), а опору для этой интерпретации он брал из общих исходных положений, овладевавших его сознанием под влиянием его друзей, по складу ума „теоретиков“, идей и общих положений, в которые он веровал фанатически – как в свои»[11].
Позднее размышление Жирмунского подтверждается письмом к нему Эйхенбаума, где четко обозначен перелом в его методологических принципах и отмечена решающая роль в нем Виктора Шкловского: «О себе я говорю прямо: я понял, что значит формальный метод, только тогда, когда стал работать в Опоязе. ‹…› Сблизившись с Опоязом, я иначе стал мыслить самое понятие „формы“. Возникли совсем новые проблемы, новые понятия, новое их соотношение. ‹…› Я сам некоторое время сопротивлялся тезисам Опояза, но потом почувствовал их органическую силу. Моя статья о „Шинели“ Гоголя – вот момент перелома. И только с этих пор я считаю начало работы по „формальному“ методу. Ведь когда я писал о Державине ‹…›, я еще мечтал о построении метода на основе философии Лосского и Франка. Это был просто интерес к вопросам формы. Мне пришлось потом от многого отказаться, на многом поставить крест – это не так легко совершилось. И роль Шкловского здесь – огромная» (19 октября 1921 года)[12].
В этот кризисный период, когда происходит резкое обращение в новую формальную веру, на пути Эйхенбаума впервые появляется Лев Толстой как предмет научных занятий. Любопытно, что ранняя, еще донаучная, встреча с ним была вызывающе полемической: «Вчера читал, между прочим, новое произведение Толстого. – 1. О жизни. 2. Новое жизнепонимание. Боже, что он говорит в некоторых местах! Какая непреоборимая узость, ежеминутное наталкивание на стену, которая не дает ему широты; мысли, порожденные «шумом в собственных ушах», как выразился Михайловский. И манера, вроде того монолога Белинского – окружить себя идиотами и „разбивать“ их на целом ряде страниц. Благодаря ему я только яснее, ярче кристаллизую свой взгляд на жизнь» (М. Я. Эйхенбауму, 17 февраля 1906 года)[13]. Теперь точка зрения изменилась: от полемики с Толстым-моралистом Эйхенбаум переходит к пониманию Толстого-писателя.
В середине 1918-го – начале 1919 года с огромным увлечением пишется большая статья, которая станет вступлением к автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». В дневнике тщательно фиксируются использованные источники, ключевые идеи, поиски метода и стиля.
«Скоро надо приступать к статье – „страшно и хорошо“. Для меня внутренне – нужно, чтобы эта статья была жизненным делом, а не просто движением пера» (26 июля).
«Важно писать научную работу без научных цитат: чтобы был чистый текст как результат, а вся литература, ссылки, подтверждения – все в конце» (8 августа).
«Как бы избавиться от иконописания в статье о Толстом! Нужно хорошо сказать о приеме упрощения души и отстранении вещей» (12 августа).
«Сегодня узнал, что приехал Витя Жирмунский. Сейчас же пошел к нему, и сейчас же начались у нас нескончаемые литературные разговоры. ‹…› Я говорил ему о Толстом. Толковали о своей эволюции – от мистики и философии к поэтике. Дух поколения – он нами движет» (20 августа)[14].
Книга Толстого со статьей Эйхенбаума появится в 1922 году. Автор, конечно, не знает, что эта работа свяжет его с Толстым на сорок лет. Как и того, что она останется единственной, где первоначальный замысел реализован полностью, биография великого старца рассказана до конца, до последней финальной точки: «Творчество как бы естественно завершилось. Оставалось разрешить проблему жизни. Она разрешилась уходом из дома и смертью на станции Астапово 7 ноября 1910 года». Другие попытки так и останутся незавершенными.
Из общего очерка вырос «Молодой Толстой» (1922), в котором Эйхенбаум уже не демонстрировал формальный метод, как в статье о «Шинели», а развернул его в концептуальное построение. «Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал „Молодого Толстого“», – напишет Эйхенбаум Шкловскому накануне нового перелома[15].
Эта небольшая книжка оказалась чрезвычайно важной как для автора, так и для истории нашего литературоведения. Обратившись к конкретной и вроде бы достаточно узкой теме, Эйхенбаум попутно затронул множество проблем и предложил решения, которые, часто без ссылки на первооткрывателя, стали опорными в понимании Льва Толстого.
Композиционно книга строится на приеме, кажется, позаимствованном у героя исследования. Анализируя творчество раннего Толстого, постоянно держа в поле внимания его дневники («мелочность»), Эйхенбаум регулярно совершает броски в разные стороны, в отступлениях и попутных замечаниях предлагая как общую схему толстовского творчества, причем не только в структурном, но и в генетическом плане, так и пунктир развития русской литературы от Пушкина до Ремизова и Замятина («генерализация»).
О методе анализа (в предисловии Эйхенбаум предпочитает называть его не формальным, а морфологическим) автор четко заявляет в самом начале, фактически варьируя непримиримый тезис тотального несовпадения искусства и жизни (в данном случае психологической), уже провозглашенный в статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя»: «Исходя из убеждения в том, что словесное выражение не дает действительной картины душевной жизни, мы должны как бы не веритьни одному слову дневника и не поддаваться соблазнам психологического толкования, на которое не имеем права. ‹…› К таким документам надо относиться с особенной осторожностью, чтобы не впасть в простую психологическую интерпретацию того, что весьма далеко от чистой психологии. Смешение этих двух точек зрения ведет к серьезным ошибкам, упрощая явление и вместе с тем не приводя ни к каким плодотворным обобщениям»[16].
В книге, наряду с общепринятой терминологией поэтики (сюжет, герой, портрет, пейзаж), используются уже разработанные к этому времени концепты формальной школы: остранение, смещение, мотивировка, канонизация, младшая линия. Однако, наряду с исследованием поэтики Толстого, «системы его стилистических и композиционных приемов» уже в предисловии на первом месте упомянуто другое – «вопросы о художественных традициях Толстого».
Этот не структурный, а генетический вопрос решается вполне привычным способом: выявлением большого круга европейских и русских писателей – связанных, влиявших, усвоенных – и выведением из него (вполне в духе историко-культурного метода) разных аспектов толстовского творчества. «Толстой больше всего сближаетсяс Карамзиным…»; «Толстой чувствует традициюанглийского «семейного» романа и, по-видимому, усваивает именно ее…»; «есть еще одна интересная черта в работе молодого Толстого, доказывающая, с одной стороны, связь его с сентиментальной школой(Руссо)…»; «здесь, по-видимому, можно видеть влияние„Записок охотника“…»
Аналогично обстоит дело и с анализом поэтики. Опираясь на суждения самого Толстого (точно найденные в его дневнике определения «генерализация» и «мелочность»), привлекая редкие суждения последующих исследователей, Эйхенбаум в анализе дневников и, особенно, «Детства» приходит к выводам, которые жестко не связаны с первоначальной концептуальной установкой: дневник как «школа самонаблюдения и самоиспытания», лаборатория всей будущей прозы; композиционная структура «Детства», строящаяся на подробном изображении всего двух дней (и тем самым непосредственно продолжающая «Историю вчерашнего дня»); текучесть героя (называя Чернышевского «одним критиком», Эйхенбаум активно использует изобретенный им термин диалектика души, правда, все время в кавычках, вероятно, несколько дистанцируясь от него); постоянное сочетание точки зрения персонажа и завершающего авторского слова моралиста и проповедника; размывание сюжета потоком подробностей; новая техника пейзажа и портрета.
В итоговых сентенциях регулярно напоминается основной тезис формального (морфологического) метода: даже самые откровенные признания Толстого – лишь литература, а не отражение реального чувства. «Оставляя в стороне чисто психологическую сторону вопроса, формулируем еще раз. В нравственно-философских размышлениях Толстого интересует не столько содержание, сколько сама по себе последовательная строгая форма – он как будто любуется законченностью, стройностью и внешней непререкаемостью, которую приобретает мысль, пропущенная сквозь логический аппарат».
Но последовательно выдержать такую установку не удается. Психологическая, субъективная, личная сторона вопроса не исчезает бесследно; «соблазн психологического толкования» регулярно напоминает о себе.
Бывает, что «формализм» и «психологизм» сталкиваются в пределах одного абзаца. Цитата из второй главы «Казаков» предваряется вполне беспринципной психологической проекцией: «Творчество вырастает на основе методов самонаблюдения – и в действующих лицах можно все время видеть, как использованы Толстым результаты его самоиспытывания», – а заключается и вовсе безответственным лирическим восклицанием: «Как это похоже на самого Толстого, каким он изображает себя в письмах к брату!» Но обозначенные в предисловии исследовательские вериги заставляют сразу же строго поставить себя на место: «Таких примеров – бесконечное количество, и дело здесь, конечно, не в том, что творчество Толстого есть „отражение“ его реальной душевной жизни, а в тожестве метода, который применяется Толстым к самоанализу и к изображению душевной жизни в художественных произведениях».
Ключевое противоречие «Молодого Толстого» увидела – уже в концепции подготовившей его ранней статьи (переизданной в сборнике) – одна из лучших учениц Эйхенбаума, вместе с учителем прошедшая через искушение формальным методом: «В статье Б. М. „Лев Толстой“ („Литература“, 1927 год) много говорится о „душевном стиле“ Толстого. Слово „стиль“ поставлено не иначе как для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что речь идет о душевном переживании как об источнике творческого воплощения.
Душевный стиль – это особая организация, вернее, искусственное осмысление внутренней жизни, свойственное людям умствующим и литературствующим. Но самое литературно оформленное переживание есть все-таки факт не литературы, а внутренней биографии. Если оказалось необходимым учесть психологические факты этого порядка, то почему не учесть и другие. Еще так недавно в теории имманентного развития открылась первая щель, а уже в эту щель на нас плывут и плывут запрещенные проблемы, а мы стоим, прижавшись к стенке, как княжна Тараканова в каземате...»[17]
Л. Я. Гинзбург зорко подметила и другое: на фоне интеллигентского цинизма, хвастовства гонорарами («Людей, зарабатывающих 120 р. в месяц, не уважают»), «профессионализма подменных профессий», «дурных привычек и подлых слабостей», среди литературных «имитаторов, спецов, халтурщиков и прихлебателей» Эйхенбаум выглядел белой вороной. «Борис Михайлович, вероятно, сейчас единственный историк литературы, который с научной целью занимается наукой. Он до сих пор пишет о самом для себя главном; и это выглядит старомодно»[18].
Сходное свойство личности Эйхенбаума – старомодную несгибаемость, честность в отстаивании убеждений – фиксирует почти десятилетием раньше, в общем, далекий от него, серьезно полемизировавший с его работами К. Чуковский (запись интересна и как бытовая картинка, столь редкая в мемуарах об ученых): «Был вчера у Эйхенбаума. Маленькая комнатушка, порядок, книги, стол письменный косо, сесть за стол – и ты в уголке, в уюте. Книги больше старинные, в кожаных переплетах – сафьянах. Из-за одного книжного шкафа, из-за стекла – портрет Шкловского, работы Анненкова и ниже – портрет Ахматовой. Он рассказывает о том, что вчера было заседание в институте, где приезжий из Москвы ревизор Карпов принимал от сотрудников и профессоров присягу социальному методу. Была вынесена резолюция, что учащие и учащиеся рады заниматься именно социальными подходами к литературе (эта резолюция нужна для спасения института), и вот когда все единогласно эту резолюция провели, один только Эйх[енбаум] поднял руку – героически – против „социального метода“.
Теперь он беспокоится: не повредил ли институту. Вообще впечатление большой душевной чистоты и влюбленности в свою тему. Намечает он пять-шесть работ и не знает, за которую взяться: за Лескова, за Толстого, за нравоописательные фельетоны 18 и 19 века»[19].
Из подробной дневниковой записи самого Эйхенбаума, сделанной за полгода до этого разговора, видно, что уже в 1924 году написание многотомной монографии о Толстом выдвигается в число актуальных задач. «Начинает вырисовываться план будущей работы. Надо действительно вернуться к Толстому. Начать теперь же переговоры со Срезневским и пр. о допущении к черновикам и к дневникам (хотя бы в копии). Пользуясь этими материалами, расширить „Молодого Толстого“ и довести его до 1862–1863 г., листов на 15. Это будет первый том. Потом написать второй том – кончив „Исповедью“. Остальное – третий том»[20]. Позднее планы Эйхенбаума простирались уже до пяти томов, что следует из позднего письма В. Шкловскому[21].
Эта работа сопровождалась углубленными занятиями толстовской текстологией (в 1928–1930 годы Эйхенбаум совместно с К. И. Халабаевым подготовит его пятнадцатитомное «Полное собрание художественных произведений») и начиналась на фоне двух кризисов, биографического и научного.
Для Эйхенбаума (и в этом он – человек эпохи символизма) всегда была необычайно важна мистика дат. Приближавшееся сорокалетие субъективно ощущалось им на очередной рубеж, начало конца. «…Я и в самом деле с трудом обедаю, с трудом живу и с ужасом думаю о будущем. Для меня пришло время, когда люди делают странные поступки – пауза. Мне скоро 39 лет. История утомила меня, а отдыхать я не хочу и не умею. У меня тоска по поступкам, по биографии. ‹…›
Никому сейчас не нужна не только история литературы и не только история, но и сама „современная литература“: сейчас нужна только личность. Нужно человека, который строил бы свою жизнь. Если слово, то – слово страшной иронии, как Гейне, или страшного гнева. Все прочее может пригодиться только для юбилея Академии наук – это знают даже издатели.
Я пишу тебе под страшный шум деревьев – над нами несется какой-то ураган. Вот такой шум у меня в душе» (В. Шкловскому)[22].
Поднять руку – единственному – против социологического метода, демонстрируя верность беспощадно критикуемому и разоблачаемому формализму, – было поступком. Но таким же поступком оказался пересмотр прежних методологических убеждений.
Уже с середины двадцатых годов Эйхенбаум жалуется на засилье эпигонов, на то, что больше не может «ни говорить, ни читать о „композиции“», и хочет „бежать в сторону от всех этих „морфологий“»[23]. Выходом из методологического тупика ему видится идея «литературного быта». Запланированная теоретическая книга так и осталась неосуществленной. Но ее первоначальным наброском, предварительным планом оказалась замечательная статья «Литературный быт» (первоначальное заглавие – «Литература и литературный быт», 1927).
Любопытно, что в этой работе нет ни прежних определений «формальный метод» или даже «морфологический метод», ни понятий, которые привычно связывались с формализмом и были систематизированы в недавней статье «Теория формального метода» (1926): прием, функция, мотивировка, сюжет, сказ и пр. Эйхенбаум предлагает относиться к выстроенной прежней теории как к «рабочей гипотезе» и, внешне не отказываясь от нее, предлагает совершенно иную систему координат, апеллируя, как и раньше, к опыту современности. «Современное положение нашей литературы ставит новые вопросы и выдвигает новые факты».
Главная же проблема современности видится как едва ли не парафраз того конфликта, той ситуации личного кризиса, которая была обозначена в цитированном письме Шкловскому (причем и в статье он прямо связывается с десятилетним циклом литературных поколений). «Литературная эволюция, еще недавно так резко выступавшая в динамике форм и стилей, как бы прервалась, остановилась. Литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер: не стало прежней, чисто литературной полемики, нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет, наконец, руководящей критики и нет устойчивого читателя. Каждый писатель пишет как будто за себя, а литературные группировки, если они и есть, образуются по каким-то „внелитературным“ признакам, – по признакам, которые можно назвать литературно-бытовыми. Вместе с тем вопросы технологии явно уступили место другим, в центре которых стоит проблема самой литературной профессии, самого „ дела литературы“. Вопрос о том, „как писать“, сменился или, по крайней мере, осложнился другим – „ как быть писателем“. Иначе говоря, проблема литературы как таковой заслонилась проблемой писателя»[24].
«Верните мяч в игру», – будет взывать поздний Шкловский, критикуя «антироман» – «игру без цели», «теннис без мяча» – почему-то на примере фильмов Феллини, Пазолини и Антониони (из его «Фотоувеличения» позаимствован исходный образ).
«Пишутся стихи о том, как стихотворение пишется.
Роман о романе, сценарий о сценарии.
Играют в теннис без мяча, но путешествия и Гильгамеша, и Одиссея, и Пантагрюэля, и даже Чичикова – должны иметь цель.
Верните мяч в игру.
Верните в жизнь подвиг.
Верните смысл движению, а не смысл достижения рекорда»[25].
Через «литературный быт» Эйхенбаум возвращает в теорию автора, а заодно и реабилитирует историю литературы («История литературы заново выдвигается – не просто как тема, а как научный принцип»), но не в прежнем ее виде, как конгломерат разнородных исторических, биографических, психологических фактов, нанизанных на линейку хронологии, но в ином, тоже конструктивном, структурном понимании.
Четко разделяя литературную эволюцию и генезис, Эйхенбаум считает центральным «вопрос о значении многообразных исторических связей и соотношений». Однако он отрицает два напрашивающихся и активно присутствующие в науке 1920-х годов варианта историко-литературного исследования: «анализ произведений с точки зрения классовой идеологии писателя (путь чисто психологический, для которого искусство – самый неподходящий, самый нехарактерный материал) и причинно-следственное выведение литературных форм и стилей из общих социально-экономических и хозяйственных форм эпохи (например, поэзия Лермонтова и хлебный вывоз в 30-х годах), – путь, который неизбежно лишает литературную науку и самостоятельности, и конкретности и менее всего может быть назван „материалистическим“». (Здесь к месту оказывается столь редкая у Эйхенбаума 20-х годов философская ссылка – рассуждения о диалектике из письма Энгельса.)