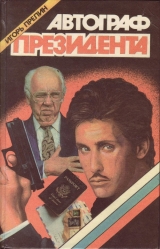
Текст книги "Год рождения"
Автор книги: Игорь Прелин
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Это длилось какое-то мгновение. Потом я не раз вспоминал об этой заминке у двери шестнадцатой квартиры, и мне казалось, что именно тогда я почувствовал: то, что вслед за этим произойдет, каким-то образом отразится и на моей судьбе!
Стряхнув с себя это секундное замешательство, я наконец решился и позвонил.
За дверью послышались шаги, щелкнул замок.
Дверь открыла женщина лет пятидесяти, со строгой гладкой прической и внимательными, неулыбчивыми глазами. Она молча посмотрела на меня, и, отвечая на ее вопросительный взгляд, я спросил:
– Это квартира Бондаренко?
– Да, молодой человек, – ответила женщина и, не дожидаясь моего второго вопроса, позвала: – Вера, это к тебе!
Из дальней комнаты вышла девушка моего возраста, внешне совсем непохожая на свою мать, и в то же время я сразу уловил какое-то несомненное сходство между ними.
Приглядевшись повнимательнее, я понял, что их роднит одинаковое выражение глаз, как будто чем-то встревоженных и в то же время очень доверчивых: такое сходство бывает не просто у родственников, а у людей, близких по духу и взглядам на жизнь.
Вера без особого интереса посмотрела на незнакомого ей человека, и меня, привыкшего к некоторому вниманию со стороны определенной части женской половины человечества, это даже несколько задело. Но я вспомнил, что пришел по делу, и поэтому, отбросив все посторонние мысли, деловым тоном произнес:
– Извините, Вера, но я не к вам. Я к Анне Тимофеевне.
С этими словами я протянул Анне Тимофеевне свое служебное удостоверение и пояснил:
– Я по поводу вашего заявления.
– Проходите, – даже не взглянув на мое удостоверение и нисколько не удивившись моему визиту, сказала Анна Тимофеевна, а затем обратилась к дочери: – Вера, помоги молодому человеку раздеться.
Пока я в прихожей снимал плащ, Анна Тимофеевна прошла в комнату.
Я последовал за ней.
Войдя в комнату, я увидел, что Анна Тимофеевна сидит за круглым столом, на котором стопками лежат ученические тетради.
Она отодвинула их в сторону и указала мне на стул:
– Садитесь, пожалуйста.
Проходя к столу, я успел бегло осмотреть комнату. Она была заставлена довоенной мебелью и служила, судя по всему, одновременно кабинетом и гостиной.
У меня сразу возникло ощущение, что время как будто остановилось в этой комнате лет тридцать назад. Единственными современными приметами были небольшая радиола на тумбочке и портрет Гагарина на стене.
Я сел на предложенный мне стул и, посмотрев в ожидающие глаза Анны Тимофеевны, сказал:
– Мне поручено рассмотреть ваше заявление… Могу я задать вам несколько дополнительных вопросов?
– Да, конечно, – с какой-то покорностью в голосе ответила Анна Тимофеевна и вздохнула.
Вера вошла в комнату следом за мной и остановилась у двери, оказавшись таким образом у меня за спиной. Из-за этого я испытывал определенное неудобство, так как не мог обращаться к обеим моим собеседницам. Но потом я подумал, что дело, по которому я пришел, касается прежде всего Анны Тимофеевны, и стал разговаривать только с ней.
– Дело в том, Анна Тимофеевна, – начал я, – что в наших архивах нет никаких сведений, подтверждающих, что ваш муж был репрессирован в тридцать седьмом году. Вообще нет данных о том, что он был арестован или находился под следствием.
Я ожидал, что Анна Тимофеевна удивится, услышав мои слова, но она, как ни странно, отнеслась к ним совершенно спокойно, как будто все, что я сказал, было ей давно известно.
Впрочем, так оно и оказалось.
– Да, я знаю, – сказала она и снова вздохнула. – Мне уже не раз это говорили.
– И вы все же настаиваете на том, что ваш муж, как вы пишете, «ушел в НКВД и не вернулся»? – спросил я. – Какие у вас для этого есть основания?
Анна Тимофеевна непроизвольным движением поправила стопку тетрадей на столе.
– Вы знаете… Простите, я не спросила ваше имя и отчество, – виноватым тоном сказала она.
– Михаил Иванович, – ответил я.
– Вы знаете, Михаил Иванович, – заметно волнуясь, заговорила она, – в те годы муж часто приходил поздно, тогда работали ночами, но он всегда мне звонил… А в тот день, когда он не пришел домой, он мне не позвонил…
Начало ее рассказа показалось мне каким-то сумбурным и несущественным, но я решил терпеливо выслушать ее, хорошо понимая, что сейчас творится у нее на душе.
– Около полуночи я позвонила ему на работу, но никто не ответил. Тогда я позвонила домой его помощнику, и он сказал мне, что Григорий Васильевич еще утром ушел в управление внутренних дел и в прокуратуру больше не возвращался.
– Но может быть, он сделал все свои дела, а потом уехал куда-нибудь в другое место? – предположил я.
Анна Тимофеевна отрицательно покачала головой:
– Нет, он должен был предупредить об этом своего помощника, потому что в тот вечер у него было назначено совещание с районными прокурорами. Оно не состоялось, и поэтому все разъехались по домам.
– Как вы полагаете, зачем он мог пойти в управление НКВД? – задал я довольно нелепый вопрос.
– Он часто туда ходил, – нисколько не удивившись моему вопросу, ответила Анна Тимофеевна. – Это была его служебная обязанность, он же осуществлял прокурорский надзор.
Ее спокойствие и рассудительность придали мне уверенности, и я, постепенно освоившись в непривычной для меня обстановке, спросил:
– Вы не помните фамилию помощника прокурора? Где он сейчас?
– Он погиб на фронте в сорок втором году, – с сожалением сказала Анна Тимофеевна. – А его жена жива, но она об этом ничего не знает.
Все сказанное Анной Тимофеевной могло, конечно, иметь какое-то отношение к происшествию с ее мужем, но все это пока были только косвенные данные.
– Анна Тимофеевна, может быть, исчезновение вашего мужа связано все же с какими-то другими обстоятельствами? – не слишком уверенно спросил я.
– Какие еще обстоятельства?! – горько усмехнувшись, воскликнула Анна Тимофеевна. – Я точно знаю, что он находился у вас… то есть, простите, в НКВД!
Я пропустил мимо ушей эту оговорку, хорошо понимая ее состояние, но ее обвинение в том, что к исчезновению мужа причастно управление НКВД, требовало доказательств, и поэтому я задал прямой вопрос:
– Откуда вам это известно?
Анна Тимофеевна ответила не сразу. Некоторое время она молчала, вспоминая, как все это было, и, по мере того как она вспоминала, ей все труднее было сдерживать подступившие слезы.
Наконец она сумела совладать со своими чувствами и стала рассказывать так, как если бы рассказывала кошмарный сон:
– Я всю ночь прождала мужа… Мы с ним дружно жили, он очень меня любил… Я тогда уже на восьмом месяце была. Не мог он просто так не прийти домой! И я сразу почувствовала, что с ним случилось что-то ужасное… Когда утром он не явился на работу, я сразу пошла в управление НКВД. Другие жены боялись туда ходить, а я пошла! Я вообще бы пошла за ним куда угодно!..
Ее опять стали душить слезы. Но и на этот раз она взяла себя в руки и продолжала:
– Меня принял дежурный, куда-то позвонил, а потом сказал мне, что никакими сведениями о моем муже они не располагают… Я вышла из управления, остановилась и плачу, плачу… Как чувствовала, что никогда больше не увижу моего Гришу…
Анна Тимофеевна прервала свой рассказ и тихо заплакала.
Слезы покатились по ее щекам, но она даже не пыталась их вытереть.
Я в замешательстве оглянулся и посмотрел на Веру. Она по-прежнему стояла у двери, только теперь была бледна до такой степени, что мне стало страшно за них обеих. Я ожидал, что она поможет матери успокоиться, но, увидев ее, понял, что ей самой вот-вот потребуется помощь.
Тем временем Анна Тимофеевна немного пришла в себя и снова заговорила:
– В это время кто-то трогает меня за плечо и спрашивает: «Что случилось, гражданка, почему вы плачете?» Подняла глаза и вижу: обращается ко мне такой высокий мужчина в форме, а рядом стоит еще один, пониже ростом… Я ему все и рассказала. Он спросил, кто мой муж, и говорит: «Я его знаю»… Успокойтесь, говорит, не плачьте, идите домой, я сейчас все выясню и обязательно вам позвоню. И так он мне это сказал, что я ему сразу поверила. Пришла домой и стала ждать. Так и уснула в кресле у телефона…
Анна Тимофеевна перевела дыхание и посмотрела в угол комнаты.
Я проследил за ее взглядом и увидел и этот телефон на столике у окна, и это старое кожаное кресло, в котором она, видимо, и коротала ту страшную ночь в ожидании известий о муже.
Анна Тимофеевна перевела взгляд на меня и закончила свой рассказ:
– А утром позвонила какая-то женщина и сказала, чтобы я не волновалась, что мой муж жив и здоров, что скоро он будет дома… Так я его и жду с тех пор.
В комнате воцарилось молчание.
Я долго не решался нарушить тишину, но меня интересовали не столько эмоции, сколько конкретные факты, и поэтому, учитывая состояние Анны Тимофеевны, я как можно деликатнее спросил:
– Этот человек назвал вам свою фамилию или должность?
– Нет, – отрицательно покачала головой Анна Тимофеевна, – он только сказал, что знает моего мужа.
– А вы помните, как он выглядел? – стараясь получить хоть какие-нибудь сведения, за которые можно будет зацепиться при проверке ее заявления, спросил я.
– Как я могу помнить, столько лет прошло?! – с сожалением развела руками Анна Тимофеевна. – Да и видела я его сквозь слезы.
Она посмотрела на меня долгим и каким-то пронзительным взглядом и извиняющимся тоном произнесла:
– Только вот поговорила я с вами, и показалось мне, что это с ним я разговариваю… Знаю, что это не так, а не могу избавиться от этого ощущения.
Я с недоумением посмотрел сначала на Анну Тимофеевну, потом на Веру. Она, как и я, тоже была заметно удивлена этим неожиданным признанием.
Еще не зная, как мне следует отнестись к тому, что сказала Анна Тимофеевна, я вдруг, как полчаса назад у двери ее квартиры, почувствовал какое-то странное беспокойство, словно весь этот разговор и в самом деле имел ко мне самое непосредственное отношение.
Повинуясь скорее какому-то неосознанному импульсу, чем обычной логике расследования, я задал Анне Тимофеевне вопрос, который представлялся мне весьма важным:
– А вы не можете хотя бы приблизительно сказать, когда это было?
– Почему приблизительно? – удивилась Анна Тимофеевна. – Я могу сказать совершенно точно. Такое не забывается!.. Мой муж не вернулся домой третьего июня, четвертого я разговаривала с этим сотрудником, а пятого мне звонила женщина.
Мое волнение нарастало, и я сделал над собою усилие, чтобы Анна Тимофеевна и Вера не почувствовали этого.
– А кто была та женщина, которая вам звонила? – спросил я, стараясь не встречаться взглядом с Анной Тимофеевной, чтобы по моим глазам она не догадалась, какое значение для меня имеет ее ответ.
– Не знаю, – разочаровала меня Анна Тимофеевна, – она не назвалась… Видимо, его сотрудница. Больше мне никто не звонил.
– А вы не пытались его найти? – спросил я, думая уже о том, какое неожиданное направление может принять это расследование, если подтвердятся мои предположения.
– Как его найдешь? – пожала плечами Анна Тимофеевна. – Фамилию я не знала, описала, как он выглядит, но мне сказали, что таких сотрудников в управлении нет.
Эти несущественные на первый взгляд детали тоже не противоречили очень зыбкой пока версии, которая постепенно приобретала все более четкие очертания.
– И вы больше в НКВД не обращались? – спросил я, догадываясь, что она мне ответит.
– Почему не обращалась? – безнадежно махнула рукой Анна Тимофеевна. – Примерно через неделю я пришла еще раз. И снова услышала: сведениями о вашем муже не располагаем. А потом родилась Вера.
Сказав это, Анна Тимофеевна посмотрела куда-то поверх моей головы. Я оглянулся и позади себя увидел висевшую над этажеркой фотографию мужчины лет тридцати с открытым, тонким лицом и строгими глазами.
– Это ваш муж? – задал я лишний вопрос, но Анна Тимофеевна совершенно спокойно, как будто перед ней сидел не слишком сообразительный ученик, кивнула:
– Да, это отец Веры.
Мне было страшно неловко сидеть спиной к Вере. И не столько потому, что это было невежливо с моей стороны – не я выбирал себе место, – сколько потому, что мне очень хотелось видеть ее перед собой. Воспользовавшись подходящим предлогом, я встал, подошел к этажерке и долго смотрел на фотографию ее отца, стараясь понять, каким был этот человек и на какие поступки был способен.
Не могу сказать, что я очень многое понял, но кое-какие выводы для себя все же сделал. И один из этих выводов заключался в том, что Вера была очень на него похожа и к тому же, как мне показалось, унаследовала от него не только черты лица, но и твердый, волевой характер.
Завершив этот осмотр, я вернулся к столу, повернул стул и сел так, чтобы видеть Анну Тимофеевну и Веру.
– А почему вы раньше не подавали на реабилитацию? – обратился я к Вере.
Вера посмотрела на мать, и та ответила:
– На какую реабилитацию? – В голосе ее прозвучало недоумение. – Мне никто и никогда не говорил, что мой муж осужден! Меня никто и никогда не называл женой врага народа! Считалось, что мой муж пропал, и все! Может, сбежал, бросил меня? Мне даже сочувствовали, – грустно усмехнулась она.
Я слушал ее и поражался необычности ситуации, в которой она оказалась. Но еще больше в ее рассказе меня удивляло другое: исчез человек, и не какой-нибудь малоизвестный, а прокурор города, и никому не было дела до его исчезновения!
Теперь мне было совершенно ясно, что, несмотря на отсутствие каких-либо сведений о судьбе прокурора, сам факт, что его не искали те, кто в первую очередь обязан был это делать, означал, что они знали, где он и что с ним случилось! А значит, Анна Тимофеевна обращалась именно туда, куда и следовало обращаться!
А она тем временем продолжала свой рассказ:
– Я по-прежнему работала в школе. Нам и квартиру эту оставили. Другим было хуже!
Да, безусловно, тем, кого нарекли «членом семьи изменника Родины», бросили в тюрьму, отправили в лагерь или выслали, тем было намного хуже. Что же спасло Анну Тимофеевну от подобной участи? То, что она смирилась со своей судьбой и перестала ходить в управление? То, что все последующие годы она молчала?
– Правда, во время войны нас уплотняли, – чтобы быть до конца объективной, вспомнила Анна Тимофеевна, – но тогда у всех жили эвакуированные. Потом они уехали… Так мы и живем здесь с Верой.
Я посмотрел на Веру: она стояла почти в той же позе у двери, слушала мать, и ее лицо было задумчивым и печальным.
А мне вдруг подумалось, что у нас с ней много общего.
И в самом деле: мы оба родились в тридцать седьмом году, оба не застали наших отцов, оба не знали, где и при каких обстоятельствах сложили они свои головы, нас обоих воспитывали матери и то время, в которое мы жили. Если бы мы встретились с Верой в другой обстановке, эти совпадения, возможно, могли бы как-то нас сблизить или хотя бы расположить друг к другу.
Но это в другой обстановке. А сейчас между нами была целая пропасть! Я чувствовал это по тому отчужденному взгляду, который Вера изредка бросала в мою сторону. И дело было, конечно, не в том, что она не догадывалась, как много общего в наших с ней судьбах, а в том, что я был сотрудником ведомства, которое, по ее убеждению, несло ответственность за все, что произошло с ее отцом!
Эти размышления не мешали мне слушать то, что говорила Анна Тимофеевна:
– После Двадцатого съезда многие писали, а я не стала. Все равно его не вернуть, да и пенсия за него мне не нужна… А имя его так и осталось незапятнанным, для меня это было главным!
«Каким же чувством собственного достоинства надо обладать, чтобы принять такое решение?! – подумал я. – И где она взяла силы, чтобы столько лет нести в себе эту боль?!»
Словно прочитав мои мысли, Анна Тимофеевна кивнула на дочь:
– Я бы и сейчас не стала писать, да вот Вера настаивает. Она институт на будущий год заканчивает, на работу будет устраиваться, а до сих пор в анкете ничего о своем отце написать не может. Пишет только, что с тридцать седьмого года отец с семьей не живет и где находится – неизвестно.
Я слушал Анну Тимофеевну, смотрел на Веру, а мысли мои сконцентрировались уже вокруг той догадки, которая возникла, когда Анна Тимофеевна намекнула на какое-то сходство между мной и тем сотрудником управления, который обещал помочь ее беде…
4
Выйдя из подъезда, я сразу направился к кабине телефона-автомата: мне нужно было срочно позвонить, и нетерпение подгоняло меня.
Звонить из квартиры Анны Тимофеевны я не мог, и не столько потому, что после такой беседы звонить по личному вопросу было не совсем удобно, сколько потому, что этот вопрос имел самое непосредственное отношение к самой беседе.
Теперь, когда никто не смотрел на меня и никому не было дела до моего душевного состояния, я позволил себе немного расслабиться и дать волю своим чувствам. Мое волнение было столь сильным, что я только с третьей попытки сумел правильно набрать номер: дважды мой палец срывался с наборного диска, и мне приходилось начинать набор снова.
После первого же гудка на другом конце провода подняли трубку, и женский голос ответил:
– Медсанчасть слушает.
– Ирину Федоровну, пожалуйста! – стараясь хоть немного сдержать свое нетерпение, попросил я, надеясь, что мать еще на работе.
– А кто ее просит? – полюбопытствовал женский голос, и я коротко ответил:
– Сын!
Ожидание было, мучительным. Наконец в трубке раздался голос матери:
– Я слушаю.
– Мама, это я! – возбужденно сказал я в трубку. – Ты будешь на месте?
– Да, а в чем дело? – поинтересовалась мать.
– Я минут через пятнадцать буду у тебя, пожалуйста, никуда не отлучайся, – сказал я. – Мне надо срочно с тобой поговорить!
– А что случилось? – встревожилась мать.
– Это не телефонный разговор, – ответил я и, увидев, как из-за угла показалось свободное такси, бросил: – Все, бегу!
Но побежал я зря, потому что такси, как всегда, когда очень спешишь, промчалось мимо, не реагируя на мои красноречивые жесты.
Пока подошел троллейбус, я успел проклясть все на свете и не раз помянуть нехорошими словами руководство предприятий общественного транспорта, пожалев, что не взял служебную машину.
Так, чертыхаясь при каждой заминке на остановке или у светофора, я все же минут через двадцать выскочил из троллейбуса возле медсанчасти областного управления КГБ, над проходной которой висело красное полотнище со словами «Достойно встретим XXII съезд КПСС!».
Показав несколько удивленному столь поздним визитом вахтеру свое удостоверение, я поднялся на второй этаж и постучал в дверь кабинета с табличкой «начальник поликлиники».
Женский голос за дверью разрешил мне войти, я открыл дверь и увидел мать. Она стояла у окна и курила. Окинув меня внимательным взглядом, мать покачала головой и сказала:
– Ты неважно выглядишь… Давай-ка измерим давление.
Я, наверное, и в самом деле выглядел не очень, но мне сейчас было не до моего самочувствия.
– Подожди, мама, – сказал я. – Я в полном порядке.
Не слушая меня, мать погасила сигарету в стоящей на подоконнике пепельнице, прикрыла форточку и направилась к столу, где у нее всегда наготове был тонометр.
– Садись! – тоном, не терпящим возражений, приказала она.
Я сел на стул, но от измерения давления категорически отказался.
– Ты чего такой возбужденный? – спросила мать.
– Помнишь, – вместо ответа сказал я, – ты рассказывала мне, как отец уезжал в Москву?
Мать удивленно подняла брови:
– Помню, конечно… А что?
– Когда это было? Какого числа? – не отвечая на ее вопрос, спросил я.
– Четвертого июня.
– Это точно? Ты ничего не путаешь? – на всякий случай уточнил я.
– Как я могу путать?! – изумилась мать. – Но объясни мне наконец, в чем дело!
– Сейчас я тебе все объясню, – пообещал я, вскочил со стула и возбужденно заходил по кабинету. – Отец перед отъездом просил тебя позвонить одной женщине?
– Откуда тебе об этом известно? – тоже безотчетно начиная волноваться, спросила мать.
– Значит, просил! – удовлетворенный тем, что моя догадка подтвердилась, сказал я и сразу как-то успокоился. Подойдя к матери, я уже более спокойным тоном спросил:
– Он сказал тебе, кто она?
– Почему ты меня об этом спрашиваешь, Михаил? – строго посмотрела на меня мать.
Теперь, когда я знал главное, можно было сесть и обсудить все спокойно.
– Мама, мне поручили рассмотреть одно заявление, – стал я посвящать ее в суть дела. – Его написала женщина, муж которой исчез в тридцать седьмом году при неизвестных пока обстоятельствах. Я должен во всем разобраться!
По глазам матери я понял, что она готова отвечать на мои вопросы. И тогда я повторил вопрос, на который она мне не ответила:
– Ты помнишь, как зовут эту женщину? Кто она?
Я спрашивал так, как будто не знал, кто та женщина, которая написала заявление с просьбой сообщить ей о судьбе мужа. Но сделал я это совершенно обдуманно: мне было очень важно, чтобы мать сама назвала эту женщину, в этом случае ее информация будет абсолютно достоверной!
Но мать разочаровала меня:
– Ни тогда, ни сейчас я этого не знаю, – с сожалением сказала она. – Отец написал мне ее телефон, назвал имя и отчество. Но я давно забыла.
Я подумал, что отец мог специально не сказать матери, с кем ей придется разговаривать. Бондаренко был хорошо известным в городе человеком, и, возможно, отец проявлял заботу о его репутации на тот случай, если все происшедшее с ним можно было как-то исправить.
А еще мне пришла в голову мысль, что, не сообщая матери ничего сверх того, что было ей необходимо, чтобы выполнить его поручение, отец не хотел делать ее сопричастной к тому делу, которым был обязан или вынужден заниматься сам. Но это, конечно, только в том случае, если эта сопричастность могла иметь для матери какие-то нежелательные последствия.
Чтобы во всем этом разобраться, я должен был задать ей еще несколько вопросов.
– Когда ты ей звонила? – спросил я.
– Отец уехал четвертого, я звонила на следующий день, значит, пятого.
Все, что она сказала, поразительно сходилось с тем, что поведала мне Анна Тимофеевна. Такие невероятные совпадения происходят раз в сто лет!
– Как ты думаешь, – задал я следующий вопрос, – почему именно тебя он попросил об этом?
– Этого я тоже не знаю, – пожала плечами мать. – Я в тот день дежурила в стационаре. Мне передали, что он просит меня срочно выйти в приемный покой…
Дверь ее кабинета приоткрылась, и в нее заглянула молоденькая девушка в белом халате и такой же шапочке. Увидев, что у начальника поликлиники посетитель, она не стала входить и закрыла дверь.
– Когда я вышла к нему, – продолжила она прерванный появлением медсестры рассказ, – я сразу поняла, что он ужасно возбужден. Я его никогда таким раньше не видела. Он держал себя в руках, конечно, но я-то его знала!
И так она это сказала, как будто прожила с отцом не три месяца, а целую вечность!
Мать тряхнула головой, словно отгоняя все, что могло помешать ей рассказать главное, и продолжила:
– Он сказал мне, что через час уезжает в Москву по важному делу, чтобы я не волновалась, что через два-три дня он вернется… Я же тебе не раз это рассказывала!
Это было так. Действительно, рассказ матери об отъезде отца в Москву я слышал много раз. Особенно часто она рассказывала об этом в детстве, когда мне хотелось как можно больше знать об отце. Но в этом рассказе, конечно, никогда не упоминалось о последнем поручении отца, и все, что мать сейчас об этом рассказывала, я слышал в первый раз.
Мать оглянулась на звук открывшейся двери: на пороге снова стояла девушка в белом халате, в руках у нее была папка с документами.
– Что тебе. Света? – спросила мать.
– Заключения военно-врачебной комиссии, – объяснила Света и стрельнула глазами в мою сторону.
– Оставь, я потом подпишу, – недовольно сказала мать и строго посмотрела на медсестру.
Света, не слишком озабоченная недовольством начальника поликлиники, положила папку на стол, бросила на меня еще один быстрый взгляд и не спеша, чтобы я имел возможность разглядеть ее с ног до головы, вышла из кабинета.
– Вот негодница! – незлобиво воскликнула мать, когда за Светой закрылась дверь. – Любой предлог найдет, лишь бы повертеть хвостом у тебя перед глазами!
Но меня сейчас ничто не могло отвлечь от дела, которым я занимался.
– Что еще он тебе говорил? – нетерпеливо спросил я. – Вспомни, пожалуйста, это очень важно!
Мать открыла папку, взяла ручку, но потом отложила ее в сторону и закрыла папку. Подумав немного, она медленно заговорила:
– Потом он сказал, что обещал позвонить одной женщине, но может не успеть, и просил меня подстраховать его… Да, еще он просил меня говорить с ней как можно мягче, успокоить ее, потому что она ждет ребенка…
Это была решающая деталь! Можно перепутать даты – ведь, что ни говори, а прошло больше двадцати четырех лет, – но ни придумать, ни случайно угадать, что в момент телефонного разговора собеседница была беременна, просто нельзя!
Теперь я тоже мог более свободно задавать свои вопросы, не опасаясь, что случайно наведу мать на нужный ответ и тем самым узнаю не то, что она знает, а то, что мне хотелось бы узнать.
– И он просил тебя сказать ей, что ее муж жив и здоров, да? – спросил я.
– Да, – коротко ответила мать, перестав удивляться моей осведомленности.
– Так… А потом? – поинтересовался я.
– А что потом? – грустно переспросила мать. – Потом он обнял меня, погладил по животу – я уже ждала тебя, – и собрался уходить… Но затем вернулся и сказал: «Если со мной что-нибудь случится, знай, что я всегда…»
Она замолкла и отвернулась. Я представлял, чего стоят ей эти воспоминания.
Но мне безумно нужно было знать все, что было связано с этим последним разговором матери с отцом, и поэтому я спросил:
– Что «всегда»?
– Ничего, – тихо ответила мать. – Он так и сказал: «Знай, что я всегда…» и сделал вот так… – И мать подняла правый кулак, как это делали интернационалисты.
Потом она в свою очередь спросила:
– Так ты объяснишь мне, что все это значит?
Я обнял ее за плечи, хотя, зная ее характер, не располагавший к подобным нежностям, делал это очень редко.
– Конечно, мама, – заверил я ее. – Только позднее. А сейчас мне надо идти в управление, меня ждут…
5
Однако поговорить с начальником отдела о результатах моих бесед с Анной Тимофеевной и матерью в этот вечер мне не удалось. Когда я пришел в управление, Василия Федоровича уже не было.
Разговор с ним состоялся на следующий день.
Выслушав мой доклад, он сказал:
– Ну что ж, по результатам этих бесед составьте справки и передайте их Осипову. И вместе с ним подумайте, что предпринять дальше.
– Товарищ полковник, – официальным тоном сказал я и заметил, как Василий Федорович с некоторым удивлением поднял на меня глаза. – Видимо, меня следует отстранить от расследования этого дела.
– На каком основании? – недоуменно спросил он.
– В нем оказался замешан мой отец, – объяснил я ему свою позицию.
– Что значит «замешан»? – переспросил Василий Федорович. – Вы считаете, что он сыграл негативную роль в судьбе Бондаренко?
Это был принципиальный вопрос! Если бы ответ на него был утвердительным, то меня не только следовало бы немедленно отстранить от расследования, но и вообще мог встать вопрос о возможности моей дальнейшей работы в органах госбезопасности.
– Нет, – твердо ответил я и добавил: – Скорее, напротив.
– Вот именно, – Василий Федорович с удовлетворением откинулся на спинку кресла. – Поэтому я не вижу никаких оснований для вашего отвода. К тому же вам поручен только розыск и предварительный опрос свидетелей. Все следственные мероприятия будет проводить Осипов.
– Ясно, товарищ полковник! – Я официально начал этот разговор и должен был официально его закончить. – Разрешите идти?
Но Василий Федорович не торопился меня отпускать. Он долго и внимательно смотрел мне в глаза, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Потом, в отличие от меня, совсем даже неофициально, а скорее по-отечески сказал:
– Вот что, Михаил… Ты уж позволь мне сегодня так тебя назвать? Чувствую я, что в этом непростом деле и дальше все будет очень непросто. Поэтому мне хочется, чтобы ты, именно ты довел его до конца! Ты меня понял?
– Понял, Василий Федорович! – тоже совсем неофициальным тоном ответил я.
– Тогда действуй! – напутствовал меня Василий Федорович…
Вернувшись в свой кабинет, я сразу позвонил Осипову и сказал, что хотел бы доложить ему о результатах встречи с Анной Тимофеевной Бондаренко.
– Я сейчас занят, – ответил Осипов, – у меня допрос. Как только закончу, я тебе позвоню.
Я уже собрался положить трубку, как вдруг из нее снова донесся его голос:
– А впрочем, если свободен, заходи, поможешь мне кое в чем разобраться.
И только тут я вспомнил, кого сегодня собирался допрашивать Осипов. Поколебавшись немного, я ответил:
– Хорошо, иду!
А колебался я потому, что присутствие на этом допросе не только не могло доставить мне никакого удовольствия, но и было просто неприятно. И все же я согласился, но не из желания чем-то помочь Осипову – он и без моей помощи мог распутать любой клубок, – а потому, что мое присутствие могло быть полезно тому, кого он допрашивал.
Как только я вошел в его кабинет, сидевший за отдельным столиком человек бросил на меня быстрый взгляд, осекся на полуслове и низко опустил голову.
Это был Евгений Хрипаков, проходивший по делу «Энтузиастов» в качестве одного из поставщиков платиновой проволоки. А опустил он голову при моем появлении потому, что я был для него не просто сотрудником госбезопасности, а самым близким другом его детства. Естественно, как и он для меня.
Когда-то мы жили с ним в одном дворе, потом он переехал в другой район, но продолжал учиться в нашей школе, не хотел со мной расставаться. Десять лет мы просидели с ним на одной парте и все эти годы были неразлучны, хотя кое в чем наши интересы иногда и не совпадали.
Так, в шестом классе я записался в секцию плавания, а он начал заниматься фехтованием. В девятом классе он все же переманил меня в фехтование, и мы вместе выступали в юношеских соревнованиях, но потом, когда я уже учился в университете, а он в политехническом институте, я ушел в современное пятиборье, а он так и остался верен фехтованию.
Но и это было еще не все! В его жену Марину я был когда-то влюблен, это была моя первая любовь, безответная и полная драматизма. Собственно, я первый познакомился с Мариной, когда мы заканчивали десятый класс, а потом с ней познакомился Женька. Он не отбивал ее у меня, это Марина влюбилась в него с первого взгляда, Женька не был виноват передо мной, и на нашей дружбе это никак не отразилось.
А произошло это знакомство так.
Первого мая каждого года проводилась городская легкоатлетическая эстафета, в одном из забегов которой выступали школьные команды.
Мы с Женькой учились в мужской школе, поскольку в те годы существовало только раздельное обучение, а команды были смешанными, поэтому мы объединялись с одной из женских школ нашего района и выступали единой командой.








