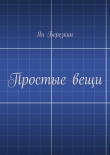Текст книги "Записки хроноскописта"
Автор книги: Игорь Забелин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Глава седьмая
в которой мы занимаемся хроноскопией венецианской вазы и поднятой со дна моря амфоры; как станет ясно из последующего изложения, дело вовсе не ограничилось анализом двух надписей, сделанных на картули эна шрифтом мхедрули
Из Музея изобразительных искусств мы с Березкиным поехали ко мне домой.
У меня было странное состояние. Все, что происходило в музее, было оправдано, логически объяснимо… Но осталось ощущение, будто кто-то все время стоял у нас за спиной и небескорыстно интересовался нашими расследованиями, следил за нами. Я помнил каждое слово, каждый жест и Брагинцева, и Пети, знал, что, никто из них не повинен в этом чувстве. И все-таки…
– Тебе не кажется, что нас с собой проверяют пли испытывают, уж не знаю, как точнее выразиться? – вдруг спросил Березкин, устраиваясь рядом со мной на заднем сидении такси.
По складу характера я более мнителен, чем мой друг, и совпадение наших чувств меня еще более озадачило.
– Кого ты подозреваешь?
– В том-то и дело, что заподозрить некого. Глупо об этом говорить, но и о Брагинцеве, и о Пете проще простого навести справки.
Я догадывался, что Березкин стремится оправдаться в непонятном самоощущении, и все же меня покоробили слова о справках.
– Ты же знаешь, что мне совершенно не свойственна подозрительность, сказал Березкин, угадавший ход моих мыслей. – Не суди меня строго. Было бы ужасно обидеть подозрением честного человека!
– Если бы не письмо Мамаду Диопа с рассказом о таинственном Розенберге, возникло ли бы у нас такое чувство? – спросил я Березкина.
– Едва ли…
– Вот именно. Ей-богу, надо послать к черту всякие глупости. Тем более, что ни амфора, ни венецианская ваза не имеют никакого отношения к статуэтке из Дженне.
Вечер мы провели великолепно, хорошо отдохнули, рассеялись, и когда в двенадцатом часу семейство Березкиных отправилось домой, от прежних наших сомнений, как говорится, не осталось и следа.
Зная характер Пети, я с утра позвонил Березкину в институт и узнал, что Петя явился, уже поскандалил с вахтером, не пропускавшим его с весьма объемистой амфорой, и теперь сидит, сложив руки на животе, перед закрытым хроноскопом.
Березкин, решительный во всем, что касалось хроноскопии, предупредил Петю, что ничего не будет делать до тех пор, пока Брагинцев не доставит в институт вазу. Но Петя, дипломатично помолчав минут тридцать-сорок, повел наступление, уговаривая Березкина для начала выяснить, план или не план крепости нанесен на амфору.
К тому времени, когда я приехал в институт, Петя одержал полную победу, и Березкин с некоторым смущением сообщил мне, что на амфоре как будто бы действительно изображен некий план крепости.
Способность хроноскопа устанавливать и прояснять такого рода подробности казалась мне сомнительной, но Петя прямо-таки захлебывался от восторга, и я решил не вмешиваться в их взаимоотношения с Березкиным.
Вечером приехал Брагинцев, и венецианская ваза поступила в наше полное распоряжение.
Увидев Брагинцева, я понял причину нашего странного вчерашнего ощущения: все, видимо, объяснялось тем, что Брагинцев так и не рассказал нам, для чего потребовался ему сравнительный анализ строчек, выписанных на амфоре и вазе. Догадка успокоила меня. Настоящий исследователь, человек сдержанный в словах, Брагинцев, конечно, просто не хотел упреждать события и ждал, что подскажет ему хроноскоп.
Итак, нам предстояло установить идентичность или, наоборот, неидентичность почерков на амфоре и вазе. Брагинцев уже говорил нам, что надпись на картули эна, сделанная шрифтом мхедрули, графически искажена мастером с острова Мурано. Но для хроноскопа, как и предвидел Березкин, было достаточно частных особенностей в написании букв, которые сохранились и в том и в другом варианте. Если верить хроноскопу, а мы – простите за повторение – ему верили, то надписи на стекле и глине делались по одному и тому же рукописному образцу.
– Устраивает вас такой вывод? – спросил Березкин
Брагинцева.
– Вполне, – ответил тот.
– Если вас еще что-нибудь интересует…
– Честно говоря, мне хотелось бы проверить собственное истолкование взаимоотношений человечков на вазе и амфоре.
– Взаимоотношений?
– Мне кажется, что это отец и сын. Сын уехал. Допустим, в Венецию, чтобы обучиться торговому делу, а отец остался на Кавказе. Сын задержался дольше положенного ему срока, и любящий отец, помимо писем, прибег вот к такой форме увещевания… Это не слишком глупо звучит?
– Отнюдь, – сказал я.
А Петя, восторженно смотревший на своего учителя, вдруг прозрел:
– Потому и написано: «Вернись, и все скажу тебе»! Отец хотел передать блудному сыну тайну зарытых сокровищ! – вскричал Петя. – Вы убедились теперь, что я на правильном пути?!
– Петя, милый, вы все-таки не наследник Хачапуридзе. Ведите себя сдержанней, – сказал Брагинцев резко.
Березкин перебрал несколько формулировок и получил ответ. Сын ли с отцом изображены на амфоре и вазе, хроноскоп выяснить не смог, нэ по характеру изображения он определил, что стоящий человек старше сидящего. Стало быть, версия Брагинцева получила дополнительное подтверждение.
– Удовлетворены?
– Почти. А может ли хроноскоп расшифровать смысл перечеркнутой восьмерки?
Задание показалось мне слишком неопределенным для хроноскопа, но аппарат справился с ним моментально: на экране появилась… пчела. Да, пчела, или, во всяком случае, перепончатокрылое насекомое, в высшей степени похожее на самую обычную пчелу…
Брагинцев расхохотался… Я даже не подозревал, что он способен так заразительно и весело смеяться.
– Ваш хроноскоп изумителен, – сказал он сквозь смех. – Просто изумителен. Кстати, пчела – символ, который вполне мог устроить главу купеческого дома: соты наполняются по капельке, как и купеческая казна. Те самые соты, что изображены на плане!
– Боюсь быть навязчивым, – сказал я Брагинцеву, – но мне и Березкину хотелось бы знать, что привело вас к нам, почему вдруг вам понадобился сравнительный анализ двух столь разных сосудов?
– Видите ли, торговый дом Хачапуридзе загадочно окончил свое существование в самом конце шестнадцатого столетия. Я еще плохо представляю себе возможности хроноскопа, но подумал, не обнаружит ли он причину?
– Вы интересовались историей дома Хачапуридзе? – поразился Петя. – Вы?
– Немножко, – сказал Брагинцев. – Собственно, интересовался не я, а мой хороший знакомый – историк Месхишвили. Помните «беленького старичка» в Хосте, который прочитал надпись на амфоре и рассказал о Хачапуридзе? Это великолепный знаток средневековой Грузии, но даже ему непонятен крах процветающего торгового дома.
– Значит, вы хотели помочь Месхишвили?
– Да. Но, судя по результатам, едва ли что-нибудь получится. Впрочем, мне известен еще один сосуд с аналогичным сюжетом.
– Он у вас дома?
– Нет, он в Кремле, в фондах Оружейной палаты.
– И его можно заполучить?
– Конечно, и для этого не нужно идти в Кремль. Я принесу его в институт. Человеческий глаз все-таки не сравнится с хроноскопом.
Брагинцев и Петя ушли, унеся с собой венецианскую вазу.
Некоторое время после их ухода мы сидели молча.
– Итак, еще одно действующее лицо, – вздохнул Березкин. – Месхишвили.
– По-моему, Брагинцев чего-то недоговаривает…
– Возможно, но я чувствую, что мы ввязываемся еще в одну запутанную историю, а вести параллельно два сложных расследования… Ни к чему это, совсем ни к чему.
Потом Березкин подошел к Петиной амфоре, оставленной у нас, и потрогал пальцами перечеркнутую восьмерку.
– «Человеческий глаз все-таки не сравнится с хроноскопом», – повторил он слова, сказанные Брагинцевым. – А их и не надо сравнивать. Каждому свое. Итак, любящий отец напоминает сыну о собранных им богатствах, посылая символическую пчелу. Есть своя логика в таком объяснении, но вся беда в том, что эта пчела не смогла бы отлететь и на два шага от улья.
– Почему? – удивился я.
Березкин посмотрел на меня с сожалением.
– Я думаю, ты заметил. У нее же несимметричные крылья. И на амфоре, и на вазе.
Глава восьмая
в которой мы, ожидая ответа от Мамаду Диопа, продолжаем расшифровку сюжета, запечатленного на амфоре, венецианской вазе и еще на одной серебряной вазе; в этой же главе хроноскоп проводит расследования, которые хотя и приоткрывают некоторые тайны серебряной вазы, но заканчиваются трудно объяснимым курьезом
Я чувствую по складу повествования, что местами невольно бросаю на Брагинцева тень, хотя ничего более нелепого невозможно вообразить. Я пересмотрел предыдущие страницы, кое-что смягчил, а кое-что даже вычеркнул, но не уверен, что достиг желаемого результата. Во всяком случае, прошу не переносить недостатки рассказа на человека, о котором рассказывается, тем более, что человек этот очень симпатичен и мне, и Березкину.
Едва переступив порог рабочего кабинета Березкина, Брагинцев – он держал в руках сверток – сказал, что стыдится своего собственного эгоизма.
– Я же знаю, что вы заняты расследованием африканской истории, сознаю, что у вас масса дел и навязываюсь со своими вазами, с каким-то торговым домом Хачапуридзе…
– Очень хорошо, что навязываетесь, – сказал Березкин, интонационно взяв в кавычки последнее слово. – Расследование африканской истории нам пришлось временно прервать, а вазы ваши как будто тоже обещают любопытное. В свертке у вас третья ваза?
– Да, про которую я говорил.
Брагинцев разорвал плотную бумагу, скомкал ее и бросил в мусорную корзину.
– Снова Венеция, – сказал он. – Снова конец шестнадцатого века.
Почему-то я внутренне вздрогнул при этих словах. Что за наваждение? И статуэтка из Дженне, и вазы в Москве, и амфора с затонувшего корабля… Трудно было допустить какую-либо связь между, скажем, серебряной вазой из Оружейной палаты и статуэткой из Дженне. И все-таки…
– Как видите, в данном случае художник воспользовался для сюжетного изображения чернью, или ниелло, как говорят в Италии, – сказал Брагинцев. Черневые изображения были широко распространены в ту пору.
С нашей же – хроноскопистов – точки зрения ваза была примечательна прежде всего многочисленными деформациями и даже пробоинами, таившими, наверное, немало интересного.
– Итак, продолжим сравнительный анализ почерков? – спросил Березкин Брагинцева и после его утвердительного ответа сформулировал задание.
Мы приготовились к положительному результату, и не ошиблись: хроноскоп вновь подтвердил, что образцом служила одна и та же рукописная строка.
– Ну, не наваждение ли? – сказал Березкин моими словами.
– Нет, отчего же, – улыбнулся Брагинцев. – Звенья одной цепи. И не забывайте, что в конце шестнадцатого столетия Хачапуридзе уже перестали заказывать вазы в Венеции…
– Продолжим хроноскопию, – сказал я Березкину. – Некогда вазу сильно помяло. Как ее выпрямляли?
– А зачем тебе это знать? – спросил Березкин.
– Пока не могу ничего объяснить. Но раз уж мы взялись за хроноскопию…
Березкин сформулировал задание, и мы увидели на экране сильные руки с длинными тонкими пальцами, выпрямляющие вмятины.
Я подошел к хроноскопу и еще раз осмотрел весьма массивную вазу. Да, только очень сильный человек мог руками распрямить металл, придать серебряной вазе прежнюю форму.
– Повтори, пожалуйста, задание, – попросил я Березкина, – но сделай акцент на руках.
– Зачем вам понадобились руки? – спросил Брагинцев. – Гораздо интереснее происхождение пробоин.
– Все интересно, – сказал я. – А мелочей в хроноскопии нет. Ничем нельзя пренебрегать.
Очертания вазы на экране как бы размылись, затушевались, но зато руки проступили отчетливо – руки хирурга с длинными крепкими ногтями. Я прекрасно сознаю, что мое определение – «руки хирурга» – шаблонно, но мне важнее точность, чем оригинальность сравнения, хотя кое в чем я и грешу: ногти, пожалуй, у хирурга покороче. В общем же стереотипность характеристики должна лишь помочь составить правильное представление о том, что мы увидели.
Я смотрел на руки, выпрямляющие стенки серебряного сосуда, и мне все определеннее казалось, что я уже видел эти руки. Березкин выключил хроноскоп. Пытаясь припомнить, где я мог видеть руки, я перебирал в памяти прежние сеансы хроноскопии, начиная с тех, о которых рассказано в очерке «Долина Четырех Крестов», но – тщетно!
– Вас интересуют пробоины? – спросил Березкин Брагинцева. – Что ж, займемся пробоинами. Одна из них похожа на след от удара рубящим предметом, саблей скорее всего… А вторая, круглая… Гм! Кто-то сначала выстрелил по вазе, вернее, по ее хозяину, из мушкета, а потом дело дошло до рукопашной. Некогда ваш сосуд попал в нехорошую историю!
Березкин не ошибся. Он не навязывал хроноскопу своего мнения, задания формулировал совершенно объективно, но ответы получил именно те, которые предсказал: мы увидели и маленький круглый предмет – пулю – пробивающий вазу, и саблю, стремительно падающую на сосуд.
– А теперь посмотрим общую хроноскопию, – предложил я.
Общая хроноскопия всегда чревата неожиданностями, и мне лично она доставляет особое удовольствие как раз тем, что заранее невозможно предвидеть ее результат. И вот дополнительный пример тому: на экране появилась ваза, летящая вниз по крутому каменистому склону; ваза падала долго, а потом ударилась о камень и отскочила в сторону…
– Кажется, тут прямая связь с предыдущими кадрами, – сказал Брагинцев.
– Со временем из вас получится отличный хроноскопист, – улыбнулся Березкин. – Конечно, прямая связь. Хозяин вазы, а точнее, караван, шедший по горной тропе, подвергся нападению. Стрельба, рубка. Вьюк рассыпался в свалке, и пробитая пулей и саблей ваза полетела под откос.
Березкин уточнил задание и несколько раз повторил его, но на экране не произошло почти никаких изменений – только скалы приобрели желтовато-белый оттенок.
– Да, на склоне ничего не росло, – сказал Березкин. – Или ваза случайно миновала стволы деревьев. А скалы, судя по цвету, были такими же, как в долине Хосты.
– Известняк, – уточнил я.
– Известняк, – словно машинально повторил Брагинцев. – Вот так она и летела. Потом ее подобрали и выпрямили…
– Последовательность событий надо еще проверить, – возразил я. Давайте-ка выясним, действительно ли вазу сначала пробили пулей и саблей, а потом уж она покатилась…
– Пустяковое дело, – сказал Березкин. – Но уверен, что хроноскоп подтвердит правильность нашего предположения.
И действительно, хроноскоп подтвердил, что сначала ваза пострадала от оружия, а потом – от скал. Труднее оказалось выяснить, когда ее распрямляли сразу же после падения или много позднее. Березкину не удалось добиться четкого ответа, но по косвенным признакам мы заключили, что распрямляли вазу сравнительно недавно.
– Что будем делать дальше? – спросил Березкин, глядя на Брагинцева.
– Не знаю, – ответил тот. – Думаю, что со временем мне удастся сформулировать дополнительные вопросы. А пока – все как будто.
Березкин, подойдя к хроноскопу, долго стоял перед ним, о чем-то размышляя. Потом, ничего не говоря нам, он дал хроноскопу задание, и на экране замелькали какие-то непонятные значки… Березкину пришлось повторить и уточнить задание, и тогда значки выстроились в ряд, и мы узнали ту самую надпись на картули эна, которую видели на всех трех сосудах… Надпись действительно была той же самой и в то же время чем-то отличалась от каждой из трех.
– Хроноскоп убрал искажения, допущенные мастерами, и создал осредненный вариант, близкий, по-моему, к подлинной рукописной строке, – сказал Березкин.
– Не понимаю, для чего тебе это понадобилось.
– Хочется что-нибудь узнать о Хачапуридзе.
– По почерку?
– Не беспокойся, я читал в Большой Советской Энциклопедии, что графология – лженаучная теория, – усмехнулся Березкин. – Но состояние человека, какие-то доминирующие черты его характера хроноскоп же определял. Вспомни «Долину Четырех Крестов».
Мы с Березкиным, поначалу незаметно для самих себя, стали различать эпизоды хроноскопии по названиям моих очерков-отчетов, и теперь это уже вошло в привычку.
– Я ничего не отрицаю. Дерзай.
Березкин сформулировал задание, и тут произошел один из курьезов, которыми отнюдь не бедна наша практика: словно услышав слова Березкина о Долине Четырех Крестов, хроноскоп показал нам… Зальцмана. Экранированный Зальцман сделал несколько шагов, раскрыл тетрадь и, нервничая, словно кого-то опасаясь, сделал в ней запись.
Я тотчас сообразил, что хроноскоп выбрал в своей «памяти» эпизод у поварни, когда Зальцман прятал дневник начальника экспедиции. Но с чего бы вдруг?
– Уж не твои ли это штучки? – спросил я Березкина.
– Ничего не понимаю, – ответил тот. – Я же не лунатик, я точно сформулировал задание!
Березкин выключил хроноскоп, выждал несколько минут и повторил задание.
Экран вспыхнул мгновенно, и… Зальцман, сделав несколько шагов, раскрыл тетрадь! А потом зеленые волны как бы стерли фигуру Зальцмана с экрана, и его место занял другой человек с жестким, почти жестоким лицом.
– Черкешин! – воскликнули мы в один голос и посмотрели друг на друга.
Березкин быстро выключил хроноскоп.
– Ничего подобного никогда не было, – удивленно сказал он. – Это мне не нравится.
– Всплывают, как в человеческом мозгу, воспоминания, что ли? – неуверенно спросил я.
– Хроноскоп в миллион раз дисциплинированней, чем мозг. Был, во всяком случае.
Березкин повернулся к Брагинцеву, но тот, угадав, что мой друг собирается извиниться перед ним за неожиданно прерванную хроноскопию, опередил его.
– Все понимаю, – сказал он. – Хроноскопом нельзя рисковать. Очень досадно, что из-за моей вазы аппарат вышел из строя.
– Вовсе не нужно казниться, – возразил Березкин. – Ваза – несложный объект для хроноскопии. Придется отрегулировать приборы. Это – наши будни. Но хроноскопия, к сожалению, отложится на неопределенное время.
– Значит, вазу можно забрать? – спросил Брагинцев.
– Да, лучше мы возьмем ее еще раз, если потребуется дополнительный анализ.
Брагинцев взял вазу и поискал глазами бумагу, в которую она была завернута.
– Кажется, я ухитрился разорвать бумагу, – сказал он.
– Сложно, но выход из положения можно найти, – улыбнулся я, подавая Брагинцеву лист чистой плотной бумаги.
– Кстати, где же Петя? – оглядывая рабочий кабинет, спросил Березкин, словно только теперь заметивший, что нет нашего глубокоуважаемого философа.
– Петя твердо решил найти клад, – почему-то грустно усмехнулся Брагинцев. – И поэтому он отправился на вокзал брать билет на Тбилиси. В Тбилиси он нанесет визит Месхишвили, дабы выпытать у того все о Хачапуридзе…
– Хачапуридзе! Много мы о нем сегодня узнали! А ваш ученик целеустремленный юноша, – думая уже о чем-то своем, равнодушно сказал Березкин.
Когда Брагинцев ушел, я спросил Березкина, заметил ли он инвентарный номер на вазе.
Березкин, хотя он и был погружен в свои раздумья, тотчас откликнулся:
– Конечно. МС-316/98. Должен тебе признаться, что ваза меня заинтересовала. Не нравится мне история, которая с ней произошла,
– Мне тоже не нравится. Да и торговый дом Хачапуридзе почему-то не вызывает почтения.
Березкин подошел к хроноскопу, постоял перед ним, но потом решительно заявил:
– Прибором займусь завтра. На свежую голову. Сегодня не могу.
Глава девятая
в которой Березкин проводит в мое отсутствие тщательную проверку хроноскопа и убеждается в его исправности; некоторые контрольные сеансы хроноскопии, как выяснилось, заслуживают того, чтобы о них было специально рассказано
На следующий день Березкин, с обычной его прямотой, сказал мне по телефону, что мое присутствие в институте вовсе не обязательно.
– Пока я сам во всем не разберусь, ты мне только мешать будешь, – заявил он. – Кстати, я же знаю, что у тебя накопилось множество всяких дел.
Незавершенных дел действительно накопилось много, и я решил воспользоваться вынужденной паузой в расследовании. Хроноскопия невольно «теснила» некоторые иные мои интересы и симпатии, но отнюдь не сводила их к нулю. Систематичность в работе, выработанная с годами, позволяла мне продолжать литературную деятельность, писать статьи и книги по теории естествознания; лишь от длительных экспедиционных поездок пришлось отказаться (их заменили частые выезды с хроноскопом).
Короче говоря, у меня имелись основания ценить выпадающие на мою долю свободные дни и недели. Теперь же, благо работоспособность моя восстановилась, я надеялся провести их в высшей степени плодотворно.
Отключив телефон и запершись на несколько дней дома, я дописал статью для «Известий Всесоюзного географического общества», набросал несколько заметок для популярных изданий, прочитал корректуру своей книги, а затем отбыл в Ленинград, где отлично поработал в библиотеке Географического общества.
Вернувшись в Москву, я узнал, что Березкин уже несколько раз звонил и просил заехать к нему безотлагательно.
Я застал своего друга в настроении, которое не назвал бы безоблачным. Он сам признался в этом и добавил:
– Ничего не могу тебе объяснить. То ли немножко устал, то ли неопределенность раздражает. Да, скорее всего неопределенность. Такое ощущение, что забрались мы далеко, а толку – на грош. И кажется, что не выпутаться нам из всех этих историй. Я говорил тебе, что ваза меня заинтересовала. Но можно ли из нее еще что-нибудь выжать? Я не уверен. Если не появятся дополнительные материалы для хроноскопии – считай, что время потрачено зря.
Я знал, что моему другу подчас свойственны приступы пессимизма. Но обычно случалось так, что один из нас сдавал в тот момент, когда другой, как говорится, находился на подъеме. Поскольку я занимался совершенно иными делами, то раздумья о неудачах хроноскопии отнюдь не вымотали меня. Наоборот, я привез из Ленинграда изрядный запас бодрости, а как вести себя с захандрившим Березкиным, мне было отлично известно.
– Удалось тебе исправить хроноскоп? – спросил я.
– И тут ерунда какая-то, – сказал Березкин. – Провозился с хроноскопом несколько дней и убедился, что он в полной исправности.
– А пробовал ставить те же самые вопросы?
– Конечно. Вдоволь налюбовался и на Зальцмана, и на Черкешина.
– В таком порядке они и появились – сначала Зальцман, за ним – Черкешин?
– Случалось и наоборот. А какое это имеет значение? Я задумался – интуиция подсказывала мне, что даже такой мелочью не следует пренебрегать.
– Покажи-ка мне контрольные сеансы хроноскопии, – попросил я.
– А! Контрольные! – улыбнулся Березкин. – Знаешь, что я совершенно случайно открыл?
Березкин выдержал торжественную паузу и сказал:
– Рука об руку с золотым человеком стоял – кто бы ты думал? – черный человек! Аф-ри-ка-нец!
– Не может быть, – тихо сказал я, пораженный неожиданным сообщением. Или… Или это нечто фантастическое. Ты уверен, что не ошибаешься?
– Да что с тобой? – удивился Березкин. – Что ты так разволновался? Ничего же сложного, и ошибка практически исключается. На золотой руке сохранились следы черни или потемневшего от времени серебра, и заключение хроноскопа вполне логично.
– Но тогда летит твой пресловутый религиозный мотив и все запутывается еще больше! Березкин ждал разъяснений.
– Как ты не поймешь! Будь статуэтки новыми, в них можно было бы заподозрить любую агитку – и религиозную, и политическую. Вообще – плакатный мотив, имеющий в разных странах разное значение. Но в коние шестнадцатого столетия у европейцев не было в центральных районах Черной Африки ни колоний, ни религиозных миссий!
– Так, – сказал Березкин.
– Те же мореплаватели-полупираты, что захватывали островки или устья рек на африканском побережье, заботились прежде всего о работорговле. Какие уж там сплетенные руки! Вся политика сводилась к грабежам и обманам.
– И Венеция тут ни при чем, – дополняя меня, – сказал Березкин. Во-первых, венецианцы в основном ориентировались на Восток. А во-вторых, какому пирату пришла бы в голову мысль заказать в Венеции нечто подобное нашим статуэткам?! Ну и загвоздка!
Березкин несколько раз пробежался по кабинету и остановился передо мной.
– Знаешь, теперь я убежден, что за белой и черной статуэтками скрываются люди высокого ума и высокой души… Ты должен написать Мамаду Диопу, и написать, не откладывая.
– Написать несложно, но о чем?
– О том самом! О том, что в конце шестнадцатого столетия от Венеции к Дженне протянулась незримая нить взаимного уважения и доверия! Ее протянули друг другу два человека, в чем-то очень близких, хотя мы еще не знаем, в чем именно!
Березкин говорил с несвойственной ему темпераментностью, но закончил совсем по-деловому;
– Видишь ли, мое предположение – пусть не окончательно доказанное, – сузит для Мамаду Диопа сферу поисков, а сие, как ты понимаешь, немаловажно… А теперь – смотри!
Березкин быстро подошел к хроноскопу, включил его и принялся, торопясь, «прокручивать» для меня контрольные кадры, чтобы поскорее показать запечатленную в «памяти» хроноскопа маленькую скульптурную группу.
Я не очень внимательно вглядывался в кадры, но когда на экране мелькнули тонкие сильные руки – уже знакомые нам руки с крепкими длинными ногтями, – я вздрогнул.
– Что это значит? – спросил я Березкина.
– А, ерунда! – сказал все еще возбужденный Березкин. – Я взял для контрольного сеанса смятую оберточную бумагу из мусорной корзины…
Березкин осекся и повернулся ко мне.
– В бумагу была завернута серебряная ваза…
– А порвал и скомкал бумагу Брагинцев. Значит, на экране его руки, и мы их видели раньше.
– Да, когда он распрямлял вазу, каким-то образом попавшую к нему.
– Странным образом попавшую, – сказал я. – Иначе – к чему таинственность, недоговорки?
Березкин, не выключая хроноскопа, задумался.
– А я все прозевал, – сказал он. – И смысл союза венецианца с дженнейцем, и руки…
– Ты же проверял хроноскоп.
– Все равно, невнимательность непростительна. Что касается действительной или мнимой таинственности… Можно кое-что проверить.
– А знаешь, мне не хочется проверять.
– Но Брагинцев зайдет через несколько дней.
– Мне не хочется, чтобы он приходил.
– Кажется, мы опять нарушаем одну из своих основных заповедей, – тихо произнес Березкин. – Оскорбляем человека подозрением.
Теперь допустил промах я. Досадный промах, потому что уже не один год стараемся мы вывести в собственных душах родимые пятна прошлого.
– Да, – сказал я. – Еще ровным счетом ничего не известно. Все остается по-прежнему, и наши двери открыты для Брагинцева. Покажи, пожалуйста, Мыслителей. Белого и черного.
– Мыслителей – переспросил Березкин. – Это звучит неплохо!
Он переключил хроноскоп, и на экране возникли чет-ние силуэты двух человеческих фигур. Сплетенные руки людей держали земной шар, головы их были запрокинуты, а глаза устремлены к небу.
К небу, но не к богу. Теперь ни я, ни Березкин не сомневались в этом.