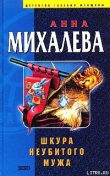Текст книги "Аська"
Автор книги: Игорь Михайлов
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Михайлов Игорь
Аська
Игорь Михайлов
Аська
(лагерная трагикомедия)
П О С В Я Щ Е Н И Е
Ивану Алексеевичу Лихачеву -1)
человеку феноменальной культуры
и удивительной судьбы.
Струятся дни. Полгода лишь осталось
из трех тюремных лет, сужденных мне,
и в этой неприветливой стране
мне прозябать теперь совсем уж малость.
Но я в обман себя не заведу,
свою судьбу спокойно караулю:
окончив срок, в штрафбат я попаду 2)
и встречу предназначенную пулю.
Случится то тринадцатым числом 3)
(я даже долгий скучный дождь предвижу),
и перед тем, как сдать себя на слом,
я ни родных, ни близких не увижу...
У повести моей судьба темна:
дойдет ли до читателя она?
Надежда слабая, что эти строчки, чудом
пройдя в века сквозь тысячи преград,
меня негаданно поставят в славный ряд
к давно умершим дорогим мне людям...
Ну что ж... Я тем уж счастлив должен быть,
что вместе провели сезон в аду мы4)
и замысел, что при тебе задумал,
я при тебе успел и завершить...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Любителям остросюжетных книг
признаюсь сразу: в этой – первой – части
сюжета никакого нет, к несчастью:
в ней только крик души – протяжный крик.
Здесь вам еще не встретится герой,
лишь автор, всюду автор – боже мой!
Чтоб одолеть ее, нужна отвага,
и мой совет (дабы не дали тягу)
за чтенье взяться сразу со второй.
А здесь – не отступленье, но вступленье
лирическое, нужное лишь мне
да тем, кто склонен к грустным размышленьям
и автору сочувствует вполне.
Предупредил. Теперь не мучит совесть,
и я уверенно берусь за повесть.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ,
где автор пытается нарисовать таежный пейзаж, вспоминает о своих поэмах, написанных на воле, и травит еще кое-какую баланду.
Тайга редеет. Каждый день с "горы",
где наша расположена колонна,
я наблюдаю рощу, где – пестры
в последнем блеске листья неуклонно
проходят гамму осени: с утра
желтея, золотея, багровея,
под вечер все бледнее, все мертвее,
все однотоннее они... Пора
ветрам свирепым стынуть, леденея...
И роща вновь теряет очертанья,
к привычному готовясь состоянью...
Есть в этой роще, говорят, ручей,
беглец с Уральских гор, здесь обреченный
от солнца прятаться, как от властей...
Но что он мне? Я только заключенный!
Живи я здесь хоть век – мне все равно
того ручья увидеть не дано.
Куда ни глянь – болото подо мною
(охрана, бодрствующая всегда).
Пусть наша зона числится "горою"
здесь тоже всюду хлюпает вода!
Ну, скажем, скрылся ты за вахту... Что ж?
В болотах сдохнешь – иль назад придешь.
Как незаметна здесь людей утрата!
Где всех упомнить, даже перечесть...
Все чаще первая моя палата
мне кажется "палатой номер шесть". 5)
И только медстатистик Лихачев
сказал бы вам, кто от чего загнулся
и кто какой болезни приглянулся ,
цинге ль, пеллагре ль больше всех почет...
...А уж на небе, зябком от морозов,
рассвет по-мартовски голубоват и розов...
Так где ж зима? Взаправду ль стужа стыла
иль бредил я и стих, повременя?
Засыпанная гарью от коптилок,
ночная жизнь замучила меня. 6)
И вот в медлительной тоске ночей
свои поэмы вздумал перебрать я
семью, где мало взрослых сыновей,
но первенцем в которой были "Братья". 7)
Я их писал еще не пробужденным
счастливцем, тщетно ищущим печаль,
то апатичным, то неугомонным
мальчишкою, чьей смерти мне так жаль.
Средь давних лиц я повстречал тогда
былых друзей, когда-то сердцу милых,
и девушку, что в юные года
мне много боли нежно подарила.
Я жил своим еще тогда, вначале,
свою лишь грусть писанием леча,
но чувства собственные щеголяли
в одежке с постороннего плеча.
Те плечи очень дороги нам были, 8)
и все ж, не тщась похитить с неба звезд,
мы собственный костюм себе пошили
добротный, хоть рассчитанный на рост!
Давно ли я, в армейские года,
из всех поэм предпочитал "Матвея"? 9)
И вспомнил я, жестоко сожалея,
как счастлив и как волен был тогда,
как безмятежно проходило лето,
неслышными заботами согрето,
в семье простой и милой, что без слова
меня в себя вобрала, как родного...
Мне вспомнилось, как море свирепело
от ветра резкого; как все вокруг темнело,
а в небе, позабывшем о лазури,
метались чайки, схожие немножко
с чаинками, когда в стакане ложкой
разбудите вы крохотную бурю...
И что же? Пошло покорясь натуре,
глупец, я, видите ли, "жаждал бури",
и были мне тогда почти несносны
дни мирные – безбедны и бесслезны...
И как же быстро им пришел конец!
Теперь, приняв жестокий курс леченья,
всем детищам своим без исключенья
я справедливо-любящий отец...
Могу ли я "Тетнульд" обидеть свой,
край вечных льдов и год тридцать восьмой? 10)
Мой милый спутник, где твоя рука?
Ведь было бы бесстыдно, низко, нагло
забыть, как резвая в камнях бежала Накра,
как клокотала Местия-река...
Болезнь ребенка, горы неурядиц
меня отбрасывали от тетради,
но – строчки редкие в рассветной тишине
вы тем дороже стали нынче мне!
Ты ж, "Кочмас", все казался мне пятном
на добросовестной моей работе!11)
Прошли года, и вот – в конечном счете
я мягче стал в суждении своем...
Биографы – придирчивый народ,
но здесь смолчат, почтительны и немы:
ведь скучноватая сия поэма
кормила и поила целый взвод!
Друзья мои, я вспоминаю вас,
как – голодом и жаждою томимы
в издательство калининское шли мы,
чтоб получить очередной аванс.
В мою звезду неумолимо веря,
вы караулили меня у двери,
и я обманывал в тот незабвенный час
желудки ваши, право, редкий раз!
Уж в этот день мы наедались всласть!
И не было вкусней, даю вам слово,
беспутного, шального, холостого,
чутьпенистого пива молодого,
которое пивали мы в столовой,
что "Волгой-Волгой" издавна звалась! 12)
Что ж под конец мне о тебе сказать,
заветная погибшая тетрадь,
неконченная милая поэма? 13)
Я в ней, грустя по дому, рассказал
про все, чем в детстве жил я и дышал,
про городок, где мирно вырастал,
до кровной до своей добравшись темы,
с тоской, пред коей даже вопли немы!
Последних дней моих армейских верный
всегдашний спутник, друг мой, мой близнец
в корзинке следователя, наверно,
нашла она безвременный конец!
Могу ль простить одно лишь это дело
небрежности Особого отдела?
Мой следователь, гражданин Шиловский!
Вы помните, спросил я как-то вас,
как быть мне с этой темою хреновской,
внезапно для моих раскрытой глаз?
Ведь не смогу ж я не писать о том,
что видел, угодив в их желтый дом?
Ведь выберусь же я в конечном счете!
Вы усмехнулись глупости моей:
– "Кто побывал у нас – как на работе
секретной служит до скончанья дней!"
Тогда вам дикой показалась эта
наивность желторотого юнца,
однако психологию поэта
вы вряд ли раскусили до конца...
Так вот: "в медлительной тоске ночей"
поэму лагерную я задумал.
Но пусть рассказ мой не звучит угрюмо
и насмерть не сразит души ничьей,
напротив – неуверенной и зыбкой
пускай он озарит тайгу улыбкой
взамен нещедрых солнечных лучей.
Вот если он сквозь лагерную зону
на волю вырвется когда-нибудь,
эстет скривится, может быть, резонно,
нос норовя надменно отвернуть.
Еще и в том покаюсь всенародно,
что ты груба, поэма, и резка,
и вовсе "в завиточках волоска
ушку девическому" непригодна. 14)
Но автор этим не смущен ничуть:
он не берет, пускаясь в дальний путь,
в расчет ни ангелочков, ни эстетов:
сюда б их на денек, в болото это,
как щеников, носишком чистым ткнуть!
Да, "c'est la vie" – мадмуазель, месье...
Пусть вас сюжет вульгарный не смущает,
поскольку, как известно, битие
сознание людей определяет...
И вот что дико: в жизни сей беспутной
я – вне закона, я – без прав, без сил
сияние свободы абсолютной
внутри себя впервые ощутил.
Чего бояться мне? Зачем лукавить,
черт знает что строкой бесславной славить
и всяческую нечисть воспевать?
Мне наплевать на лживую печать !
Мне не к чему быть лучших строк убийцей,
смотря предусмотрительно вперед:
редактор ничего не убоится
и цензор ничего не зачеркнет,
поскольку их не будет, как не должно
быть вообще: поскольку автор сам
ответчик пред читателем дотошным
и не подвластен никаким властям.
Уравнен я отныне с графоманом
хоть разразись поэмой, хоть романом...
Слова уже теснятся, рвутся с губ...
Прости меня, читатель мой условный,
коль буду я в суждениях не скуп
и, так сказать, немного-много-словен.
Да что там! Долгой немотой измучась,
я буду просто дьявольски болтлив,
отяжелевшей проливаясь тучей
над почвою сухой бумажных нив.
Смешон мне спор писателей-вольняшек:
"Кто наш читатель?" "Пишем для кого?"
А пишут, чтоб не сдохнуть, вот с чего,
чтоб беспросветный быт не так был тяжек!
До своего спасенья я вот лично
добрался: пишется – и благодать!
Пусть марганцовкой на листах больничных -15)
но только бы писать, писать, писать!
Наш брат, пытаемый и не питаемый,
скрываясь сам в себя от всех обид,
пустыню, остров ли необитаемый
в рабочий кабинет преобразит!
Да, я лишен простора в жизни сорной,
но пусть же будет так – на зло врагам:
поэту тесно, а словам – просторно
(за мысли не ручаюсь, но – словам!)...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЛЕПИЛА-КАНТОВИЛА,
где автор, обезопасив себя от обвинений в автобиографичности, рассказывает эпопею своего героя, предшествующую встрече с героиней поэмы.
О детство, ныне милое и присно!
В мозгу навеки, память, сбереги
журнал (литературный, рукописный,
художественный!) – "Первые шаги"!
Редактор требовательный и пристрастный
прекрасный наш руководитель классный – 16)
заботился, чтоб к нашим повестям
немало было ярких иллюстраций:
была возможность посоревноваться
художникам (их было двое там). 17)
Я, чередуя с вдохновеньем игры,
ведя героев в джунгли жарких стран,
придумал приключенческий роман.
Он назывался "Победитель тигра".
Ирине Бер, чей был отчетлив почерк,
на долю выпал тягостный удел
переписать немало наших строчек,
и сей удел Ирине надоел.
Она, жалея время, и устав
от всяческих перипетий в сюжете,
выбрасывала половину глав
в расчете, что никто и не заметит.
Была она, возможно, и права,
я, видно, с детства склонен был к длиннотам,
не вдруг спохватываясь, что кого-то
тигр почему-то съесть позабывал.
Роман был сжат, а темп его ускорен,
и, верно, выиграл читатель наш...
Роман не помню. Помню имя – Скорин.
Так назван был мой главный персонаж.
Справляя творчество, как торжество,
и лиру на просторный лад настроя,
я потянулся вытащить его
из недр памяти для своего героя.
Да буду я в пристрастьях неизменен,
уж коль на путь классический вступил!
Кому – Езерский, а кому – Арбенин, 18)
а мне вот Скорин почему-то мил.
Поэты с пушкинских времен до наших,
от версий фантастических устав,
доказывают с пеной на устах,
что пусть порой близки им персонажи,
пусть даже словно зеркало – тетрадь,
но, как их биографии ни схожи,
героя с автором отождествлять
при всем их сходстве все-таки не гоже.
О том же походя предупредив,
признаюсь вам, что мы с моим героем
могли бы в армии единым строем
шагать, горланя на один мотив.
Он на меня характером похож,
в нем осмотрительности – ни на грош,
и забран был на самой на заре,
чуть не в младенческой своей поре,
и даже напечатал две поэмы
(хоть, правда, на совсем другие темы),
совсем как я – в "Звезде" и "Октябре"!
Хоть над Невой нам с ним не приходилось
стоять, "опершись задом о гранит", 19)
но в лагерях нам встретиться случилось:
такое память вечно сохранит!
Имел он столь же полудетский почерк
и столь же неразвившийся талант,
был столь же легкомысленным... Короче,
мой не двойник, а, скажем, вариант!
Но я свидетельство представить рад,
чтоб не вступать с потомством в перебранки:
я, как известно, в армии был взят,
а Скорин арестован на гражданке.
Своей душой его я не ссужу,
за очень многое его сужу.
Он – подчиненный мой, в конце концов,
он только действующее лицо,
он мой герой, а я – его создатель,
почти всегда пассивный наблюдатель,
чутьсценарист, немножко режиссер,
а чаще – гримировщик и суфлер.
В те дни принципиальностью особой
не отличался мой герой ничуть.
Он злобой дня (отнюдь не злобной злобой!)
мог, как петух, напыжить гордо грудь,
мог к юбилейной дате стих представить,
личиной скрыв отсутствие лица,
и даже по инерции прославить
в своих стишонках "друга и отца".
Не будь он недалеким лежебокой,
дисциплинируй ветрености прыть,
да если б поднажали – ненароком
и в партию вступил бы, может быть...
Была наивность лживости сестрой,
и в этом был эпохи отпечаток.
Отметим, что стремился наш герой
писать лишь то, что можно напечатать.
Пока разгуливает он на воле,
еще одну деталь введу в рассказ
порядка, ну, интимнейшего, что ли,
но чрезвычайно важную для нас.
Узнав о ней, уже нельзя забыть ее:
раскрыв его характер до конца,
она дальнейшие нам прояснит события,
согрев меж тем сочувствием сердца.
Был Скорин влюбчив и сентиментален...
То по-щенячьи весел и шумлив,
то – настроенье как-то враз сменив
по-идиотски нуден и печален.
Смешно, но под руку не смел он сразу
взять девушку: застенчиво-немой,
глядел он томно и голубоглазо
в глаза возлюбленной очередной.
Начав знакомство – хорошо ли, плохо ли,
он позже, сам себе гнуснейший враг,
обычно ограничивался вздохами,
дальнейший не решаясь сделать шаг.
Он мог вздыхать и млеть буквально сутками...
Недаром, на язык остра и зла,
его "молочным супом с незабудками"
подруга детства метко прозвала.
Порхая мотыльком под тучей грозной,
не торопил он жизни благодать
и радости любви лишь в самый поздний,
в последний час сподобился узнать.
Уж заждались Лубянка и Бутырки,
когда – судьбе недоброй вопреки
прелестнейшей из хищниц, некой Ирке,
он в цепкие попался коготки.
Характер разгадав его с налета,
то в небо вознеся, то скинув вниз,
она с ним разыграла, как по нотам,
любви несмелой школьный экзерсис.
Сражаясь с нашим братом, как с врагами,
за пядью пядь в продуманном бою
красотка черепашьими шагами
сдавала территорию свою.
Была расчетлива, хоть и мила,
короче – "постепеновкой" была,
была сторонницей – ведь вот досада!
той тактики, что сдерживает прыть,
позволив не до дома – лишь до сада
себя на первый случай проводить;
там – до подъезда, но не до квартиры,
там – до квартиры, но... войдешь потом!..
Сперва ему достались губки Иры,
еще кой-что, но все ж не целиком...
Все это, право, было б очень мило
(по капле наслаждение тяни!),
но невдомек ему в то время было,
что каждый день бесценен в наши дни!
Едва лишь отступленье до постели
дошло и до сдающегося "ах"
тюремные засовы впопыхах
"Прощай, любовь!" – ему с издевкой спели.
Вот, так сказать, и весь любовный опыт
с фоблазовским, как видим, не сравнишь!
Неси в тюрьму под сердца горький ропот
ту шепотом прослоенную тишь
и в памяти надежно береги
стук башмачка, упавшего с ноги,
и долгожданный зной прикосновенья,
и смутный лепет первых женских тайн,
а нам теперь вернуться к прозе дай,
покончив с этим нежным отступленьем...
Итак, он постепенно выдвигался
и понемножку в гору лез да лез,
но, сам того не зная, оказался
врагом народа (мир не без чудес!).
И вот явились гости и учтиво
ему вручили lettre de cachet, *)
хоть он имел, по правде, на душе
один лишь грех: большую склонность к пиву...
Он забран был тем знаменитым годом,
что редкой из семей не стоил слез,
что был навеки заклеймен народом
прозванием "ежовский сенокос",
____________
*) ордер на арест (франц.)
когда, топча людей во весь опор ,
не разбирая – пешка или тура,
ярясь, во вкус входила диктатура,
все больше смахивая на террор.
Своих головотяпов ли уловка,
немецкой ли разведки ловкий ход
иль попросту нормальная вербовка
рабочей силы – кто сейчас поймет?
И обретают плоть и кровь химеры,
вчерашний идол – проклят как злодей...
Страна моя не знает чувства меры
ни в ненависти, ни в любви своей!
Был путь ее контрастами наполнен
бог весть куда загадочных рывков.
Мой современник – многое он помнит
из тех доисторических деньков...
Исследователь, может быть, дотошный
когда-нибудь найдется и для них:
истории период невозможный
по полочкам разложит, объяснив,
как это быть могло, что пол-России
гнал по этапу сталинский конвой,
причем циничнейше провозгласили
"демократичным самым" этот строй!
И все терпели, будто так и надо,
доноса ждали от любого гада,
тряслись в своих кроватях до рассвета:
минуй меня сегодня, чаша эта!
В то время о материи такой
нисколечко не думал наш герой
сыночек маменькин и белоручка...
В то время о материи такой
нисколечко не думал наш герой
сыночек маменькин и белоручка...
Хоть и окончил университет,
он был по сути дела недоучка,
чьи знания являли винегрет...
О, наши знанья! Круг-то ваш широк,
но вы точь-в-точь базарный пирожок:
приятная, румяная наружность,
а откуси – внутри одна воздушность!
Герой наш был студентом нерадивым,
не жаждущим добраться до корней,
но был бы Скорин до наук ретивым
глядишь, в тюрягу б угодил быстрей.
В иные времена и свет ученья
опасен (лишний повод для невзгод!):
затеешь всяких эр сопоставленье
крамольный вывод в голову придет!
А впрочем, как понять, кто для ареста
желанней был и более созрел,
в той чехарде хватаний повсеместных,
в абракадабре выдуманных "дел",
коль участь та на каждого могла
свалиться кирпичом из-за угла?
В одну семью был произволом слит
марксист, в идеализме уличенный,
неграмотный колхозник и ученый,
нарком почтенный, маршал и бандит!
Но лезть в таинственные бездны строя
куда уж нам! Заткнем фонтан скорей!
Я лишь бытописатель лагерей,
я лишь биограф своего героя!
Что ж, все их "дело" оказалось куцым,
больших имен не удалось привлечь,
и перешли от "контрреволюций"
на их пирушки, на хмельную речь...
Их следствие не очень интересно,
а "уличений" техника известна:
мы верим – ты ни в чем не виноват,
но, значит, виноват твой сват и брат.
Сказать нам все, дурного не тая,
святейшая обязанность твоя!
Иван припомнил, будто Петр сказал,
что жизнь в очередях – одно мученье,
а Петр – что Иван критиковал
закон об общем платном обученье,
Семен – что оба о свободе слова
шепнули чересчур свободно слово,
и всех троих попутали всерьез
за агитацию и недонос!
Пора к тюремным привыкать названьям!
Он знал, что "вертухай" – тире стрелок,
что обыск – "шмон" или "сухая баня",
"кандей" есть карцер, "сидор" есть мешок,
что "хавать" – пищей набивать живот,
а "хезать" – то совсем наоборот.
Итак, он в ад прошел две-три ступени,
с его обычаями стал знаком,
уже немного ботать стал по фене,
овладевая адским языком...
Народ тюремный должен как-то жить,
он должен жить – и он не унывает,
и с горечью, чтоб сердцем не тужить,
он поговорки про тюрьму слагает.
"Кто не был здесь, – он говорит, – тот будет,
а тот, кто побывал – уж хрен забудет!"
Иль жест широкий: все, мол, в жизни наше!
А что же "все"? Тюрьма вот да параша!
Он говорит, что любит кашка-сечка
вас – арестованного человечка,
но арестованный-то человечек
терпеть не может бесконечных сечек.
Здесь вспоминают дней былых уют
и песни старые по-новому поют:
"Дан приказ ему в Бутырки,
ей – в Новинскую тюрьму..."
(А песни Лебедева-Кумача
жестикулируя и хохоча,
поскольку не было фальшивей слов,
а в камере всегда всего заметней
и "террорист" шестнадцати годков,
и "диверсант" семидесятилетний...
И мы поем и дланью тычем строго
то в этот угол камеры, то в тот:
"Молодым – везде у нас дорога,
старикам – везде у нас почет!")
Забуду ль дни тюремной жизни нашей,
когда я, окружающим на страх,
шагал с благоухающей парашей
в нелепо растопыренных руках;
где день за днем (как это нам велит
наш следователь) убеждал себя я,
что просто сам себя прескверно знаю,
на деле ж – самый вредный индивид;
где дельца "однодельцев" рикошетом
жизнь и твою расплющили в желе;
где о бумаге и карандаше ты,
ну ей-же-ей, сильней всего жалел...
...Но как-то Скорин вызван был на "суд",
где посадили на него "осу". 20)
Сказали: "Распишись!" – и с этих пор
все позади: Бутырки, бани, сечки...
И арестованные человечки
влекутся в неприветливый простор...
Приходит ночь. Уснули кое-как
на досках, над парашею приткнувшись.
Вдруг грохот будит только что уснувших.
Лай, крики... "Это впереди никак"...
Доходит и до нас. Гремит засов.
Собаки надрываются. Поверка.
"Все – с этих нар на те!" Фонарик сверху.
Озноб испуга. Дробный стук зубов.
"Чего недружно? Не поймете, да?
Я объясню! А ну: туда-сюда!
А ну повторим! Что, опять заснули?
Сюда-туда, сюда-туда, сюда-туда!
Быстрее! Пуляй! Разве это пуля?"
Старик запутался в старинной шубе.
Упал, не встанет. Топчут старика.
Все запыхались. "Хватит на пока!
А ну, отставить!" Страх идет на убыль.
Опять заснули. Снова грохот, лай.
"Эй, становись! С тех нар – на эти! Пуляй!"
Так было трижды. Выждав, чтоб заснули,
опять за прежнее: "А ну, вставай!"
Вор объясняет: "Это чтоб пугнуть,
побег чтоб не задумал кто-нибудь.
Теперь ложитесь. Покемарить можно.
Они ж бухие. Весь как есть конвой.
Три раза – норма. Что, пахан, живой?"
Да, урка прав. Но сон не в сон: тревожно...
Конвой, застраховавшись от побега,
дрых чуть не сутки. Черная земля
меж тем сменилась пышным, толстым снегом.
Явилось утро, души веселя.
Проснулся юмор в утреннем уме.
Смотря в окно, кричали, как о чуде:
–"Гляди, гляди: на воле ходят люди!
Выходит, что не все еще в тюрьме!"
Потом, сельдями в бочке утеснясь,
напев затягивали – лагерный, старинный,
уж вот воистину "отменно длинный-длинный",
что к воле рвался, в щели просочась:
"Не для меня приде-о-от весна,
не для меня Дон разолье-о-отся..."
В теплушке рядом – как пичужка в клетке,
выводит тощий, хилый малолетка:
"Отец посажен был в тюрьму,
его прозвали вором...
Тогда родила меня мать
в канаве под забором..."
Коль ты хоть чуть культурный человек,
привыкший каждой дорожить минутой,
то, как здесь время презирают люто,
не сразу ты уложишь в голове.
Здесь истребленье времени – в системе,
закон, усвоенный буквально всеми:
"кантовкой" в лагере зовется он,
ему, как все, ты будешь подчинен.
День в тупике. Путь километра с два
и вновь стоим. Час, и другой, и третий.
Как страшно тяготились мы сперва
организованным бездельем этим!
И зло на паровоз кидаем взор мы:
хоть к черту на рога – но пусть везет!
А лагерник доволен: срок идет,
работы нет, и – как-никак – а кормят!
(Хоть кормят, правда, дьявольски соленой
селедкой, но в углу – ведро с водой,
болотной, подозрительно зеленой,
с налетом нефти, с коркой ледяной.
И, у кого луженый был желудок,
тот мог добраться к цели невредим...)
В вагоне том телячьем трое суток
я провалялся рядом со своим
героем (тут впервые с ним столкнулся).
Свидетельствую, что в этапе том
кой-кто от дизентерии загнулся,
но большинство доехало живьем.
Понадобится несколько годков,
чтоб люди превратились в мертвяков...
Но наконец гудок зовет: "Ту-туу!
К земле обетованной, в Воркуту!"
Туда, "где вечно пляшут и поют",21)
где нары – весь домашний твой уют!
(Не знали мы – какой позор и стыд!
что нет еще в ту Воркуту дороги,
что нам ее – в болоте и в тревоге
как раз прокладывать и надлежит;
не знали мы, что где-то за Печорой
этап наш высадят – и очень скоро...)
Когда-то наш герой любил поохать
о слабости здоровья средь семьи.
Здесь он проверил данные свои
все чушь! Этап он перенес неплохо!
Лишь общих он работ в краю изгнанья
побаивался не без основанья.
Вон, вон, взгляни: втыкают работяги,
их труд жесток, их вид уныл и сир...
Но петушиным голосом отваги
"сынков" к костру скликает бригадир.
Блатных сынков – известно – очень много,
блатным сынкам – открытая дорога:
тому работа – на других кричать,
работа этим – щепки собирать!
Их нормы выработают другие,
чего им беспокоиться? Пока,
всласть у костров поотлежав бока,
они поют, и взвизги их блатные
нахально с дымом рвутся в облака:
"Плывет по миру лодочка блатная,
куда ее течение несет...
Воровская
жизнь такая
(ха-ха!)
от тюрьмы далеко не идет!
Воровка никогда не станет прачкой,
а урка вам не станет спину гнуть...
Грязной тачкой
рук не пачкай
(ха-ха!)
это дело перекурим как-нибудь!"
Стрелок в сторонке мирненько пасется
(и в этом я еще не вижу зла),
ведут работу, как везде ведется,
и каждый ждет, чтоб темнота пришла...
И мыслит Скорин: "Мне в подобном улье
с лопатой, тачкой и киркой мантулить
и упираться рожками? Ну нет!
Подобные забавы не по мне!"
Но вскоре он узнал, на чем вертится
весь лагерь: знаменитых трех китов
он разглядел и к бою был готов,
и даже "общих" меньше стал страшиться...
Поддерживают лагерь три кита.
Китовьи имена: Мат, Блат, Туфта.
Минувшего сравненьем не тревожь:
без Мата в лагере не проживешь!
Чтоб не дразнить смирением врага,
грози бандюге "посшибать рога",
"бери на горлышко", чтоб "хвост не поднимал"
блатарь зазнавшийся, немыслимый нахал,
не то – гляди: "надыбает слабинку"
придется и под дрын подставить спинку!
Кит номер два – солидней и мощней:
без Блата в лагере прожить еще трудней!
Ты с каждым лагерным аристократом
связаться должен самым тесным блатом.
С кем нужен блат? С бухгалтером, с трудилой,
с прорабом, с поваром, с десятником, с лепилой,
с охраной, с воспитулею, с вахтером,
с завхозом, с хлеборезом и с каптером,
с завбаней, с парикмахером... Хоть здесь
представлен список далеко не весь
с таким комплектом ты в натуре сыт,
пригрет, одет, и мыт, и даже брит.
Кит номер три – великая Туфта,
с кем рядом Мат и Блат – одна тщета!
Ведь без нее – будь лучшим работягой
кончая срок, ты станешь доходягой...
А матушка Туфта научит нас,
как сытым быть– и сил сберечь запас:
как, скажем, складывая торф с боков,
в середку льдину громоздить за льдиной,
чтоб штабель величавою картиной
вздымался аж до самых облаков,
чтоб у костра покуривать полсмены
и числиться при этом рекордсменом...
Экономисты, техники, врачи
мы все туфтим... Покорствуй и молчи!
Нет, пыл надежд в герое не угас...
Его печалил вывод слишком скорый,
что в лагерях работают у нас
по специальности – одни лишь воры
да стукачи: для этих и для тех
мир радужен, им жаловаться грех...
Все это так. Но есть и исключенья:
врач и бухгалтер – вот где дефицит...
Был явно путь второй ему закрыт,
и он надумал взяться за леченье.
В то время – при начале всех начал,
в Печлаге, средь бездарности унылой,
кто аспирин от йода отличал
тот был уже вполне культурной силой...
Однажды на этапе, где лекпом
понадобился срочно, был экзамен
произведен ему, и он легко
лепилы лагерного облечен был саном.
Теперь есть шансы, притаившись, выжить,
себя не разрешив бездарно выжать
до капельки, бог весть по чьей вине...
И он бы кантовался полусонно,
от всех мирских событий отдаленный,
когда бы там, за лагерною зоной,
война не кочевала по стране.
Что плохо там, на фронте – каждый знал,
поскольку нам в то время неуклонно
грозила вновь режимная колонна,
грозили тачка и лесоповал.
Газет уж больше года не читая,
судить могли мы, что творилосьт а м ,
по вохровскому отношенью к нам:
как бы температурная кривая
от снисходительности к зверству: "Встать!"
Шмон среди ночи. Пятьдесят восьмую – 22)
за вахту, на этап! Ее, родную,
всю вместе снова велено согнать...
Учуяв гибель, с горя ловкачи,
мы расползались вновь, как тараканы.
Глядишь, спасут знакомые врачи
пригреемся, зализывая раны,
пока опять (о, наш злосчастный крест!)
до нас дойдет приказ собачий этот:
повыковыривать из лазаретов
и всяких прочих теплых злачных мест.
Так в ваньку-встаньку мы игрались с ними,
назначенные на износ, на слом...
Они: опять на общие вас снимем!
А мы: опять в придурки уползем!
Однажды Скорин вырваться не мог
с какой-то там колонны сверх-опальной
три месяца. Занудливый стрелок
над ним в порядке индивидуальном
взял шефство, поднимая злобный крик,
коль он поставит тачку хоть на миг. 23)
Труд непосильный, голод и мороз
давили скопом, доводя до слез.
Лишь чудом, до предела изнуренный,
он вырвался с той дьявольской колонны,
когда уж начал доходить всерьез.
Здесь он предстанет нам в обличье новом,
поскольку был он прикомандирован
к той слабкоманде, хилой и больной,
что направлялась в дальнюю больницу
не без надежды тайной подкормиться
в сельхоз "Кось-ю", уже воспетый мной. 24)
Здесь, кроме работяг обычных, были
СК-1 и даже СК-2:25)
и те, что только ползали едва,
и те, что неходили– д о х о д и л и...
Когда ж этап был заведен в ворота,
уже священнодействовал там кто-то
в халате белом – очевидно, врач:
сердясь на хлопотливую работку,
всех отправлял он на санобработку
и собирался их сортировать:
кто в лес, кто по дрова, быть может, сходит,
а кто уж вовсе ни на что не годен.
"Вот это да! – подумал Скорин. – Значит,
меня опять на общие назначат?
Тут что-то ситуация не та:
лепилы должность прочно занята!"
Но, помня лозунг "Не тушуйся!" – скромно
потопал он знакомиться в медпункт:
ведь есть же некий – не последний – пункт,
на коем зиждется весь этот быт наш темный.
Здесь взваливать ужасно обожают
свою работу на плечи других
(как в армии – но там не обижают
того, кто исполнителен и тих).
И клюнуло. Хотя и нелегально,
но был он тут пригрет со специальной
обязанностью: помогать лечить,
быть при разводе в час унылый, ранний ,
нести дежурство при больных ночами,
поносы их и рвоты облегчая,
и сводки медстатистику строчить,
хитро шифруя вид заболеваний -26)
все делая, короче, за врача,
на лишние нагрузки не ворча.
Так вновь обрел он скромный, но успех,
коллеги милосердие изведав...
Керим Саидович Нурмухамедов,
коварный подозрительный узбек,
имел загадочный и важный вид,
был замкнут, молчалив и деловит.
Бог знает, врач ли (может и лекпом),
но комбинатор редкостный притом!
Стукач? То неизвестно никому:
не он являлся к куму – тот к нему.
Сидел подолгу, но был кум, возможно,
какой-нибудь болезнью болен сложной...
Во всяком случае, впервые Скорин
такое видел в лагере. Он вскоре
сообразил, вникая в странный быт,
что – весь в неведомых каких-то тайнах
Керим Саидыч явно не случайно
живет воистину как сибарит:
в двухкомнатной хибарке недурной
спит с постоянной лагерной женой
нахальною раскормленной бабенкой,
брезгливо обходящей всех сторонкой.
Пред Томкой надлежало лебезить:
невзлюбит – враз со свету может сжить,
лишь стоит ночью ей шепнуть Кериму:
мол, роет яму под тебя незримо...
Она все норовила строить глазки
герою нашему. Он каждый раз
гадал, что правильней: ответить лаской,
поглядывать ли на нее с опаской
иль подымать и не пытаться глаз?
Ему казалось, будто бы Керим
престранно щурится, встречаясь с ним.
Неужто к Скорину он ревновал, чудило?
До шашней ли ему любовных было!
Решил он,чтобы не свалиться в пропасть,
избрать срединный путь, бывая там:
разыгрывать желание – и робость,
смущение – с восторгом пополам...
Керим, конечно, жаден не был, нет...
Конспиративные соображенья
его удерживали от кормленья
помощничка: ведь где ни тронь – секрет...
(Что было сверхнаивно и напрасно:
как будто все ему и так не ясно.
Хоть, впрочем, разве редко это было,
чтоб доброта о подлость обожглась?)
Тамарочка, конечно б, подкормила,
но... дорого б кормежка обошлась!
В хибару их впускаемый нечасто,
не мог не видеть Скорин, что порой
Керим Саидыч шу-шу-шу с начальством
и шу-шу-шу с начальничьей женой;
что зоркий страж перестает быть зорким,