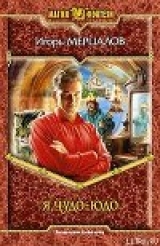
Текст книги "Я, Чудо-юдо"
Автор книги: Игорь Мерцалов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ты говорить «думать», мы говорить – «словоблудии»! Мир погряз в ересь, думать некогда, надо выжигайт ересь с огонь и меч!
От мировых проблем плавно переходили на личности.
– Такие молодчики, как ты, способны оправдать любое преступление! Можно ходить по колено в крови и считать, что совесть твоя чиста, потому что служишь великой идее. А все потому, что своих мозгов нет, вот и нахватываешься всякой дряни со стороны, лишь бы эта дрянь красиво звучала.
– Ты так говорить, потому что есть враг Фатерлянда и христианства! Ты есть воплощение ересь: славянин, русише дикарь, которого Спаситель не защитить от черний кольдовство! Попущением Божьим ты есть облик зла всего мира: отвратительний чудовищ с заблудший душа!
– Парни, парни, ну зачем же так грубо? – запоздало спохватывался Баюн.
– Ах ты, тварь, Нибелунг паршивый, немчура немытая, мало мы вас под Сталинградом…
– Мерзость и кощунство, мало ми вас под Псковом…
Ни под Псковом, ни под Сталинградом ни один из нас не был, но это не мешало.
Однажды я спросил у Руди, сам-то он из которых: кто «думайт» или кто «делайт».
Потомственный рыцарь, то есть по жизни серый «делатель», почуявший шанс стать великим «думателем», Отто Цвейхорн, по-моему, обиделся.
Господи, избави остров Радуги от евреев! Я-то ничего, коту начхать, а вот что с Рудей сделается… или с евреем, если я не успею вмешаться…
Хотя, быть может, я сгущаю краски? Рудя, пока не вспоминает о том, что он фатерляндец, католик и вообще антисемит, вполне приличный парень. Мирится же с фактом моего существования. А ведь все, что он про меня наговорил, с его точки зрения – абсолютная истина. Он действительно обязан – и по рождению, и по убеждениям, – воспринимать меня именно как воплощение мирового зла.
И ничего, уживаемся!
И с котом у него проблем нет, несмотря на то, что Баюн тоже воплощение языческих ересей, к тому же из «диких» славянских краев.
Так, глядишь, занесет к нам иудея, Рудя и с ним смирится…
Или дело в другом?
Все наши с Рудей размолвки кончаются, как правило, более или менее навязчивой демонстрацией моего физического превосходства. Даже если Отто Цвейхорн раздобудет коня и взгромоздится на него в полном рыцарском облачении, ничего он со мной сделать не сумеет.
А вот чисто теоретически – что, если бы самым сильным из присутствующих был наш der brave Ritter? Под чью бы дудку все плясали? Сам я считал бы разумным спорить об исторических судьбах иудейского народа, до которого мне, если честно, дела намного меньше, чем до собственной участи?
Сохранил бы Отто Цвейхорн способность примиряться с действительностью? Ох, сомневаюсь. По себе сужу: ведь, честное слово, в человеческом своем существовании не был я никогда ни вспыльчивым, ни заносчивым, ни хамоватым. Ну про свою философию мирного сосуществования я уже говорил, повторяться не буду. И что со мной стало?
Бытие, быть может, и не определяет сознание во всей его полноте. Но вносит существенные поправки, это точно.
Итак, что бы стало с Рудольфом Отто Цвейхорном? Правильно: стал бы он еще стремительней меня хамом, тираном и самодуром. А мы бы и пикнуть не смели.
Так что пусть лучше буду сильным я, чем неизвестно кто…
Под самый занавес субтропической зимы случился шторм баллов этак на семь или восемь. Волны бушевали пять дней, потом море поутихло. И тут чайки, малость одуревшие от патрулирования при бешеном ветре, принесли весть о чьем-то приближении.
Волшебное зеркало в смотровой башне показало широкую доску, за которую цеплялись два человека. Не зная, на какую часть пляжа их выбросит, я попросил Рудю пройтись на запад, кота – на восток. А сам встал на южном плесе.
Потерпевших вынесло точно на меня.
Один из них, русоволосый, с растрепанной бородой, был полуголым и терял сознание от холода. Другой, рослый блондин, тоже бородатый, в кожаном нагруднике и с топором за поясом, хотя и был далек от обморока, отнюдь не производил впечатление здравомыслящего.
– Мужики! – подбегая, прокричал я. – Живы? Не бойся, сейчас в тепло отнесу!
Здоровяк бормотал спутнику что-то вроде «сидусту хандартёкин». Даже не догадываясь, что это может быть за язык, я постарался хотя бы голосом выразить совершенную доброжелательность.
Полуголый едва шевелился, но старался выползти на берег. Волны набегали со спины, хватали за ноги и тянули назад. Здоровяк, привычно замирая под каждым накатом, тащил его вместе с доской. Он поворачивал голову на мой голос, но намокшая длинная челка мешала смотреть, и только утвердившись на берегу, он сумел разглядеть, кто спешит на помощь. Вздрогнул и схватился за топор, проорав:
– Яйе! Один ок Фригг!
Тут до меня дошло, что передо мной скандинавы. Шведы или норвежцы. Причем, как ни странно, язычники. Впрочем, мне не до странностей было.
– Тролль хейм! Нидинг Ланн!
Не ручаюсь за произношение, но примерно так это звучало.
Ограничившись этой не совсем понятной, но явно нелестной характеристикой, скандинав набросился на меня, занося широкое полукруглое лезвие.
Он был усталым, а мое новое тело обладало прямо-таки роскошной реакцией, так что увернулся я без труда.
– Слышь, мужик, не дури!
Спутник скандинава, пластом лежавший на мокром песке, попытался встать и вдруг произнес по-русски:
– Торфин, оставь! Он же нам добра хочет…
– Это тролль, хевдинг сэтроллей, куннинги! Он убьет и сожрьет нас… Во имья Одина, умрьи! – мешая языки, крикнул Торфин и ударил топором снизу.
М-да, может, я поторопился хвастать реакцией? Глубокой раны не случилось, но болезненная кровавая черта пролегла по правому боку. Я попытался ударить скандинава тыльной стороной ладони, он пригнулся и, выпрямляясь, от души приложил мне обухом поперек морды, пнул и повалил наземь.
– Торфин!
Я успел откатиться, и серое лезвие, едва царапнув по шкуре, вонзилось в песок. Пока скандинав вновь воздевал его над головой, уверяя своего миролюбивого спутника, что он есть «тупоглавый рус» и «блейда», я уже поднялся на лапы.
– Идиот, я же тебя покалечу!
Ответом мне послужила неразборчивая вереница старонорвежских ругательств. Топор свистнул в опасной близости от моей глотки. Лицо скандинава, иссеченное шрамами, быстро теряло сходство с человеческим. Зрачки сузились, ноздри уродливо раздулись, на губах появилась пена.
Дважды я его опрокидывал, и не сказать, чтоб особенно мягко – он вскакивал, как на пружине, и вновь бросался в атаку, изрыгая уже совершенно нечленораздельный рев. А когда я в третий раз повалил его и вжал в песок, он сумел приподнять меня и вывернуться. Я слышал, как хрустят его кости и суставы…
Передо мной был самый натуральный берсерк на пределе боевого безумия.
И когда он в третий раз задел меня, чиркнув топором по лапе, в моей голове тоже что-то перемкнуло. В носу возник пронзительный запах крови, в ушах зазвенело. С предельной ясностью я осознал, что передо мной смертельный враг. И точка.
Я разделался с ним в три удара.
Порыв ветра привел меня в чувство. Сухо шелестели жухлые пальмы, кричали чайки. Русскоязычный спутник берсерка молча сидел неподалеку. Его трясло – но не думаю, что от зрелища, он наверняка всякого навидался. Просто ветер был холодным.
Песок под лапами был черно-багровым. Когти на лапах тоже. Я ничего не чувствовал. Вид разорванного тела не будил в душе смятения. Мысли не метались, были предельно простыми и ясными.
– Отпустило? – спросил так и не урезонивший скандинава товарищ, «тупоглавый рус» и «блейда».
– Ты о чем? – спросил я.
– По глазам вижу, что не в радость тебе убийство. Жаль, конечно. Жил божий человек, жил, а тут раз – и не стало его. Да только Торфин – а его Торфином зовут… звали – иначе кончить не мог. Так уж ему Господь на роду написал. И ведь говорили ему умные люди: зря от Христа отворачиваешься. Не можешь не буйствовать – ладно, но и о смирении помни. Смирение, брат, спасет тебя… Не слушал. Как волокло нас по морю, говорил: хоть бы берег, сушу увидеть, речь живую услышать – я, говорит, и Христу поклонюсь. А вот как оно вышло-то…
Слева к нам уже мчался кот, справа месил песок Рудя.
– Ты сам-то кто? – спросил я, поднимаясь.
– Я-то? Платоном меня кличут, Платоном Новгородцем.
– Как же тебя с Торфином на одну доску занесло?
– А я полонянин был. Меня да еще человек, того, два ли, три ли десятка – всех не видел – до саксов везли. А тут Господь бурей пожаловал, испытание ниспослал. А торфиновичей на борту после давешнего дела мало осталось, и выволокли они нас, пять али шесть душ, с-под палубы, вервие рассекли и на весла усадили. Закон у викингов строг: с кем весло делил, с тем, считай, побратался. И когда драккар, шняку ихнюю разбойничью, развалило, Торфин сам мне руку протянул. Полдня в воде… Только двоих нас волны и вынесли.
– Идти сможешь?
– Смогу, – кивнул Платон Новгородец.
Однако переоценил свои силы. На ноги еще встал, а как шагнуть решил – повалился мне на лапы. Поднял я его на плечо.
– Ходок… Не дергайся, мне не тяжело. Айда, мы тут неподалеку в теремочке живем. Мы – это собственно я, Чудо-юдо островное, беззаконное. Кот Баюн, говорящий, как в сказке, – вот он, рядом идет. А там Рудя пылит, тьфу, то есть Рудольф Отто Цвейхорн фон Готтенбург, саксонец, рыцарь Фатерляндского ордена. Эй, ты там жив еще?
– Угу…
– Рудя! – крикнул я. – Иди вперед, подбрось полешек в печь!
Отто расслышал, кивнул и побежал короткой дорогой, однако пару раз оглянулся на труп Торфина. Не удержавшись, оглянулся и я, борясь с запоздалой тошнотой.
Хоронил я викинга в одиночку, никого с собой не взял. Ребята, кажется, не поняли меня, но спорить не стали.
Я собрал Торфина воедино, завернул в распоротую мешковину вместе с его топором и отнес на скалы западного берега. Туда же отнес два бревна и доску от борта драккара. Из дома приволок смолистых поленьев и растопку.
Хлипкое плавсредство я привязал к берегу в месте, где скала закрывала его от брызг. И только когда огонь охватил всю конструкцию, разорвал веревку и подтолкнул багром. Волны подхватили «погребальный катамаран» и вмиг унесли в сгущающуюся тьму.
Его звали Торфин Тролльлауд Рангарсон. Сиречь Торфин Рагнарович по прозвищу Троллья шкура. Он принадлежал к странному народу, который сам себя именовал «сэманнами» или «драккманнами» – народа, которого я из истории помнить не мог, ибо его просто не было в нашем мире.
Шведские и датские короли, на протяжении нескольких столетий озабоченные в первую голову взаимными территориальными и экваториальными претензиями, однажды спохватились, что слишком уж сноровисто шастают мимо них новгородцы по морю. Литвинов, французов и англичан тоже хватало. Владение проливами Эрес Унн и Каттегат, конечно, давало преимущества, но уже в проливе Скагеррак заправляли осмелевшие британцы. По большому счету, обе короны, конечно, могли бы обойтись и двумя проливами, чтобы задушить хотя бы восточноевропейскую торговлю – это и по Западу бы ударило. Но открытая конфронтация шведов и датчан не прельщала: воевать со всем континентальным побережьем у них силенок не хватило бы.
И решили короли обойтись не войсками, а скрытыми резервами. Бунтарей хватало с избытком в обеих державах, среди соседних норвежцев других, по-видимому, вообще не было. Свободолюбивым асоциалам, владеющим своими кораблями и командами, было неофициально предложено отпущение грехов и несколько уютных заливчиков на халландском берегу в обмен на честное-пречестное слово грабить не всех подряд, а тех, насчет кого будут даны особые рекомендации.
Любовь к свободе – штука весьма своеобразная. В чистом виде существует недолго, как правило, быстро заменяется потребностью приобретенную свободу выгодно реализовать. Асоциалы решили, что предложение властей достаточно выгодное. И дело завертелось.
За десять-пятнадцать лет в Халланде, области на юге Швеции, возникла довольно развитая инфраструктура, включающая в себя базовые поселения, укомплектованные ремесленниками для ремонта судов и оружейниками для снабжения команд, торговую сеть, ориентированную на скупку награбленного, и простую – в духе времени, – но эффективную сферу услуг.
Для оптимизации процесса отпущения грехов был даже создан специальный Халландский епископат, действующий в рамках особой, Халландской же, унии, якобы способствующей поэтапному обращению язычников. Дело в том, что драккманнам не особо возбранялось придерживаться старых верований. Хотя язычество фактически уже умерло, новоявленные корсары обрадовались: сохранившиеся в сагах элементы одинического культа прекрасно подходили для оправдания образа жизни.
В драккманны в основном шли непокорные кланы, дотоле укрывавшиеся от преследования властей в Дании, Швеции, Норвегии и даже Исландии. Но со временем стали встречаться там и ирландцы, шотландцы, валлийцы; немцы, поляки и русичи всех мастей; молдаване, латы, эсты – короче говоря, все, кто на родине слишком нервничал, ощущая, как подбирается к ним пристальный взор закона.
Из этого гремучего сплава медленно, но верно образовывался новый этнос.
– И все язычники?
– Кто как, – ответил Платон, сидя у печи и прихлебывая сбитень. – По большей части да. Норманнов-то все же поболее прочих. Ну церквам латинским кланяются для порядку, патеров не ругают – вот и все их «обращение». Каждый по своему обычаю живет. Капищ не рубят, обряды по домам справляют.
– А что же ты Торфина божьим человеком назвал? – поинтересовался кот.
– Почему не назвать? – невозмутимо ответил новгородец. – Все на свете Богом созданы, а значит, все Господу угодны.
– Фальшь иртум, – немедленно отреагировал Рудя. – Это есть несомненен…
– Дай человеку отдохнуть, – прервал я его.
А глаза-то у Руди горят… Нашел свежие уши, даром, что варварские! Впрочем, для него хуже юде все равно никого нет, на юде он бы и негру жаловался, расист-самоучка.
– Да я и так отдыхаю, – улыбнулся Платон. – Спасибо вам, люди и нелюди добрые, спасли душу православную. Опосля же плавания на доске мне ничто не в тягость. Так о чем ты хотел сказать, Рудольфий?
– Я могу доказайт, что есть народ, не угодний для Бог, – торжественно объявил фатерляндец. – Это есть эйн-цвей-дрей.
Едва ли он прямо сейчас доказательства свои придумал. Вернее всего, давно ждал случая высказать их мне, да повода не было.
– Не может быть, – с мягкой уверенностью, которая отнюдь не исключает возможности спора, сказал Платон.
Воодушевленный его тоном, Рудя приступил к очередному «еврейскому разгрому».
– Эйн, – стиснув кулак, он отогнул большой палец. – Кто бил до приход Спаситель верящий истинний Бог?
Лично мне пришлось секунду-другую побороться со своеобразной Рудиной грамматикой. Платон же, демонстрируя немалый опыт общения с иноземцами, понял его сразу.
– Иудейский народ, кто же еще?
– Я-я! Фернер[7]7
Далее (нем.).
[Закрыть], цвей: толко юде мог надейся на милость Божий, прочий варвар нет?
– Правду молвишь, добрый человек. И Ветхий Завет нам вещает, что Господь рукою Своею вел народ иудейский через тернии бытия…
– Sic![8]8
Так! (Лат.).
[Закрыть] – Рудя предвкушал победу, как рыбак, подсекающий окуня. – Унд дрей: два раз Господь истребляйт юде на корню, спасайт только по один фамилия: Ной, потом Лот. Из целий народ только дфа приличний человек! Благонадежность семейств и то под вопрос, если помнить про жена Лота! И наконец кто продаль Иисус? Тоже юде! Ну кто переспорить мой эйн-цвей-дрей? – Он обвел аудиторию торжествующим взглядом.
Я только вздохнул, кот коротким мурлыком выразил восхищение стройностью рудиных умозаключений. А Платон плечами пожал и сказал:
– Споры спорить я не великий умелец, жизнь не научила. Но только, ты не обижайся, Рудольфий, тут и дите малое возразит. Ну сам посуди: может ли всемогущий Господь ошибаться?
– Абер найн![9]9
Ни в коем случае! (Нем.).
[Закрыть]
– Ну так вот и помысли: неужто по ошибке дозволял Господь иудеям род продолжить? Да и прочим людям, ибо кара небесная всех человеков постигала по грехам их великим. И уж коли сам Отец Небесный распятие Сына Своего простил иудеям, нам ли, грешным, новый суд чинить?
– Вам, грешним, нет. А честний католик…
– Тоже человек. Знаешь, Рудольфий, я свет видел. Куда только доля не бросала… И люд я разный встречал, уж ты поверь. По первости смотришь на иных: тьфу, мерзость! Бывает, и не поймешь: люди перед тобой или мороки какие. А потом пообвыкнешь, приглядишься-присмотришься… И воистину зришь, как велик промысел Господень, что столь чудно свет устроил. В каждой земле правда своя, но не бывает так, чтобы люди совсем без совести жили. А коли совесть есть – уже, значит, не пропащий человек. Уже для чего-то Господу нужен.
Впервые на моей памяти Рудя не поспешил ничтоже сумняшеся отметать встречные аргументы. Призадумался над услышанным.
Платон между тем поднялся на ноги, снял с плеч и аккуратно свернул одеяло. Натянул сухую одежду, которую я принес из волшебного сундука (стояла у нас пара таких в тереме: один выдавал на заказ роскошные парчовые кафтаны и златотканые свиты с сафьяновыми сапожками, другой – поневы да ферязи из нежнейшей тончицы. Однако сундуки стояли без дела: мы с Баюном в их услугах, понятное дело, не нуждались, а Рудя воротил нос от «варварских покровов» – сундуки работали исключительно по славянской моде). Оглядел себя и кротко вздохнул: видно было, что богатая одежда ему непривычна, но то рванье, в котором он прибыл на остров, я уже спалил в печи.
Невысокого роста крепкий мужичок лет едва за тридцать, с круглым располагающим лицом обвел нас взором синих глаз и спросил:
– Не нужно ли в чем пособить вам, добрые люди-нелюди?
– Ты отдохни сперва!
– Я не устал, Чудо-юдо.
– Устал, еще как устал, – гипнотически мурлыкнул кот. – Ты очень хочешь спать.
Не думаю, чтобы ему пришлось применять какие-то свои волшебные свойства, если они у него были. Усталость, а теперь еще сытость и тепло сделали свое дело, веки Платона неудержимо поползли вниз. Кот вызвался проводить его в отведенные покои. Мы с Рудей остались допивать сбитень.
– Что скажешь о Платоне? – спросил я.
– Человек как человек, ничего особенни, – ответил саксонец. – Обични мюжик.
Ага, кому он лапшу вешает… За версту видно: зацепил его чем-то новгородский скиталец, смерд, еретик и вообще представитель низкой нации.
А может, все гораздо проще? Прожив без малого полгода в обществе сказочного кота и не шибко сдержанного чудовища, дер браве риттер был рад просто человеческому лицу?
О таких Платонах романы пишут. То есть раньше писали, сейчас это не модно. Огромные такие романы на пятьсот страниц под серыми обложками с золотым тиснением. С первой частью, описывающей солнечное детство и трудовое взросление героя, с частью второй, посвященной мытарствам, и третьей, в которой нисходит на героя классовое сознание: мол, пока пролетариат не возьмет власть в свои руки, так и будут меня угнетать и притеснять. Однако идейная сторона таких романов не любит пессимизма, и часто к финалу герой таки воссоединяется со своей возлюбленной и устраивается жить-поживать, добра наживать – и ждать, пока в окружающих классовое самосознание пробудится.
Слушая рассказы Платона, я как-то подумал: вот найдет тоска, сяду и напишу про него. Потом, конечно, остыл. Соцреализм с его запахом пота и дегтя, с жарким солнцем над пашней и покосившимися бедными халупами (прочные избы соцреализм допускает только у мироедов, а народ загоняет исключительно в покосившиеся халупы), как нетрудно заметить, не в моде. А другого литературного направления, которое позволило бы написать подробную, вдумчивую сагу о жизни простого новгородского ремесленника, изобрести никто не поспешил.
Толстой, тот или этот, наверное, порадовался бы такому сюжету, да только перевелись Толстые.
Что же, учитывая антураж, делать Платона героем фэнтезийного боевика? Ну нет – это ж придется врать напропалую. Не размахивал Платон мечом, не побеждал колдунов и тиранов, не заливал кровью Османскую империю. Если причины для подобных безобразий у него еще могли возникнуть, то желания – никогда. Не Конан он. По сложению не только тела, но и души. И волшебные чудеса с ним нечасто случались.
Фэнтези или, в крайнем случае, псевдоисторическую приключенческую авантюру надо про Рудю писать. Только я этим сроду не займусь: не хватало еще способствовать распространению фашистского идиотизма.
Про кота и речи нет, он для сказки создан. Правда, пока не знаю, для какой. Но сказки я писать не умею.
Для всего остального, впрочем, тоже опыта маловато. Нет, попробовать можно, но… Как уже отмечалось выше, Толстые-то перевелись…
И с чего я вообще задумался о книге?
– Этто что? – спросил Рудя, указывая на пятна, расползавшиеся по наплечнику.
– Это? А, это я еще не чистил, – ответил Платон. – Да, а башмачку-то кон пришел…
– Почему? – Саксонец вырвал у него из рук сабатон и посмотрел на подошву.
– Да нет, вот сюда гляди. Видишь, на стыке вусмерть проржавело? Ничего не попишешь, воздух туточки сильно влажный. Да и железо, правду сказать…
– Железо хорош! Это лючший железо из лючший кузница ордена!
– Лючший, говоришь? – усмехнулся Платон. – Эх, была бы здесь кузенка… Ну просто наковальня с молотом, печь-то я б сложил, меха бы сшил… Вот тогда бы ты посмотрел, как железо ковать надо.
– Щит и меч, – хмуро ответил Рудя. – Весь остальной не жалько, но щит и меч надо сохраняйт.
– А я сразу говорил…
– Начисти до блеска…
Я подкрался незаметно.
– Рудя!
Фатерляндец подпрыгнул на месте и резко повернулся:
– А я что, я ничто! Он сам предлагайт помогайтен…
– Правда, Чудо, мне же не в тягость человеку помочь, тем паче дворянину.
– Да Бога ради! Только почему-то мне кажется, что Рудя опять забыл сказать волшебные слова «пожалуйста» и «спасибо».
– Я как раз собираться! – покраснел Рудя и заставил себя поблагодарить смерда: – Большой спасибо тебе, добрий рус, за бескорыстен помошчь.
– Так-то лучше. Ты, Рудя, мотай на ус, мотай: на этом острове нет господ и рабов, нет дворян и смердов. Здесь есть я – и этим все сказано. Демократия у меня, понял? Демократия или отлучение от скатерти-самобранки и фингалы под глазом. Демократия – и баста.
– Я-я, их ферштейн…
– Добро. Платон, айда со мной, присмотрел я пару стволов, но без тебя валить не буду. Оцени.
– Может, я закончу сперва? – спросил новгородец, указывая на щит и меч. – То есть мы с Рудольфием закончим…
– Вот, Платон хотеть помогайт мне! – обрадовался браве риттер. – Ти сам сказайт, что тут демократий!
– Ничего, у меня демократия американского образца: свобода человека кончается там, где начинается произвол Пентагона. Если кто не понял, Пентагон в данном случае – я. Ничего с твоим доспехом не сделается, в смысле, хуже уже не будет. В крайнем случае попросим Черномора привезти тебе комплект.
– Это мой фамильний меч! А на щит – родовой герб!
– Тем лучше, значит, дворянская гордость не позволит тебе угробить еще и их из-за нежелания поработать руками. Ну все, хорош болтать. Пошли, Платоша.
Оставив Рудю под гнетом трудотерапии, мы двинулись в путь. Мимо отощавшей за зиму поленницы вышли на поляну, пересекли Ягодный ручей. Дорога лежала краем Сонной лощины на Родниковую гору. Не бог весть какие оригинальные топонимы, зато собственного изобретения.
Ее лесистая макушка вздымалась над морем почти на километр. Южная и западная части горы еще как-то сочетались с прибрежным обликом. А вот с севера и востока подошву украшали дубы и кедры, на северном склоне росли сосны, на восточном – ольховник. Склоны были ступенчатыми, и на них встречались невероятно красивые цветочные поляны.
На самом обширном из уступов, близко к подошве, лежало озеро. Без отдельного названия – просто Озеро, чтобы отличить от Хрустального, имевшегося на севере.
Мы с Платоном дошли до сосняка, и я указал новгородцу деревья, которые наметил под сруб по его рекомендации. Платон внимательно осмотрел их, обходя кругом, поглаживая кору, наконец прищелкнул языком и заявил:
– Самое то, Чудо-юдо, нашел самое то, что надо. Красавицы!
– Мне их уже жалко, – признался я. – Может, ну его, этот плот? Или давай пальмы используем. Нет, правда, нам же не «Кон-Тики» строить! В крайнем случае навяжем бамбуков.
– Любопытно попробовать. Только мы же сосны не абы какие валить станем! Вот, гляди, к примеру, – эта сосенка нездорова. Для корабля бы я ее не взял, но для плота сгодится, а дерево все одно обречено. Потом вот еще, тоже хворое. А вон то – среди поросли задыхается…
Весна вдохнула в нас силы, и тремя голосами при одном воздержавшемся решили построить плот. Вроде бы и не особенно он нужен, покорять на нем море – затея так себе, по крайней мере, вслух ее только критиковали, но мысль о плоте всем пришлась по вкусу. Кроме кота – он и воздержался. Но коту и вообще все было до лампочки, он в тоске пребывал.
То есть тоска – не совсем точное слово… Вы не забыли, что у нас стоял весенний месяц март? В целом поведение Баюна мало изменилось, но последнюю неделю он стабильно, как на работу, на несколько часов в день уходил из дома предаваться безысходному одиночеству.
– Хорошо это, что дерево знакомое на острову имеется. Этак, ежели все сладится, когда-никогда можно будет и о ладеечке подумать. А тут, чтоб дело не запороть, древесина привычная нужна. Я ведь корабельничал только дома, да потом у норвежцев, а там лес привозной, наш. В других местах не довелось.
– У норвежцев? – Мне вспомнились прочитанные в библиотеке рассказы путешественников об этой стране, которой из-за более ловких соседей никак не удавалось толком встать на ноги. – Я думал, они не допускают рабов к кораблям. Как в старые времена.
– Некоторые – да, – согласился Платон. – Торвальд, норвежин, что купил меня на халландском торгу, в самый раз из таковых был. Жил по старинке, заветы прадедов блюл. Плотничал я у него по-простому, лавки там, корыта тесал, подклети чинил. Скучал, конечно, после корабельной-то артели. Но ничего, жили в ладу. Только недолго это длилось: как раз в те годы Шиенский епископ, что к короне так и тянулся, залютовал, весь берег данью обложил, а кто уплатить не мог – повелел жечь беспощадно. Крамолу и ересь изводил, стало быть. Торвальд тогда всех рабов своих запродал королевскому двору. И вот там-то меня от рабства отрешили и в корабелы приняли.
– Отвел душу на любимой работе?
– Отвел… Но и горюшка хлебнул с избытком, – почему-то с улыбкой сообщил Платон. – Епископ Шиенский взялся за нас – ого-го. Кто веру латинскую принимал, еще ничего жили, а кто не желал – тем особое мыто навесил. Почти все, что на стапелях заработаешь, отдаешь. И все равно не всякий на тебя и посмотрит. Повелось, например, что иноверцев кормить запрещалось, кроме как в королевских корчмах – а уж такую бурду там давали…
– Сочувствую.
– Да ничего, иным хуже доля выпадала, грех мне жаловаться. Хоть, правду молвить, в других краях спокойнее жилось, даже у магометан. Грозили они нам муками бесчеловечными – а все к добру повернулось, как всегда на свете.
– Тебя послушать, так худа вообще не бывает, – усмехнулся я.
– А откуда ему взяться, худу-то? Верно, бывает: сатана с недолей соберется ходить по земле, горе сеять, хворь да мор. Так ведь то не худо, а попущением Божьим человеков испытание. А всякое прочее худо человек сам себе выдумывает, когда потерпеть не хочет. Или, того хуже, когда ленится добро сделать.
– Сколько ты лет по чужбине мотаешься?
– Дай припомнить, – озадаченно сказал Платон. – Этой зимой мне тридцать шесть сровнялось, а впервые в полон попал – восемнадцать весен было. Знать… гляди-ка, ровно же восемнадцать получается!
Он сказал это с улыбкой, а мне как-то жутко сделалось.
– Ровно половина жизни, – кивнул я. – Неужели не страшно думать, что полжизни потеряно?
– Почему потеряно? – удивился Платон. – Экий ты, Чудо-юдо… Тоже вот торопыга. Как можно жизнь-то потерять? Было бы можно, так другие бы находили, а нашлись бы и те, кто отнимать надумал. Да только век человеческий свыше отмерен.
– Я не о том. Что сделано-то за это время?
– А что? Пожито – чего еще от жизни ждать? Об одном жалею, что бобылем остался. Но все в руце Божьей. А в остальном грех плакаться: без дела не сидел, добра людям не жалел. Добро же, оно всегда к человеку вернется…
– И даже страшно не было тебе? – спросил я, все думая о том, что со мной сделается, если проживу на острове восемнадцать лет.
– Страшно? – переспросил Платон и пожевал губами.
Видно было, что прежде он никогда не задавался этим вопросом – и другого ответа уже не требовалось, поэтому я спросил вновь:
– А по родине ты разве не скучал?
– Зачем? – пожал он плечами. – Скучать – себя изводить. Добро бы ждали меня там, старики-родители, или жена, или, того пуще, детишки малые. Тогда другое дело, тогда бы я еще в Норвегии согласился бежать – это наших несколько на второй год епископских харчей удумали. Да ведь я десяти весен сиротой остался. Взял меня дядя к себе, ковальскому ремеслу обучил – спасибо ему, да, вишь, в семье он меня во всем после своих домочадцев ставил. Вот пятнадцати лет и подался я в Новгород. Вспомнил отцову науку, поплотничал, да к артели корабельной прибился. Славный труд, только, скажу я тебе, Чудо, трудненько было на плаву-то держаться. В Господине Новгороде мастеров что звезд на небе. Бывало, без работы засидишься и пойдешь дурить. С иными артельщиками и дрались – ой-ой как! Теперь же совсем сноровку растерял – куда возвращаться?
Мы помолчали. Меня не покидало чувство, что на последний мой вопрос он так и не ответил. Но с другой стороны, может быть, я спросил не о том?
Решил сменить тему:
– Насчет плота как, уверен, что надежно будет?
– Отчего нет? Ты же сам говоришь: нам не этих, как их… контиков ладить!
Уже через несколько дней флот острова Радуги вырос на целых три единицы. Во-первых, мы связали плот, во-вторых, вдохновленный свежей мыслью, Платон по моим рассказам воссоздал катамаран (неказистый, но скоростной), а в-третьих, мы отыскали в сарае, выволокли на свет и починили старую лодку.
После зимней истомы и ломоты поработать лапами было сплошным удовольствием.
А вот про «ладеечку» Платон больше не вспоминал. Первые же заплывы средней дальности показали, что пути с острова не существует. Куда ни направься – через пару часов все равно приплывешь к Радуге, только с противоположной стороны. Натуральный заколдованный круг. В пределах досягаемости имелась гряда тех самых излюбленных ундинами рифов и несколько крошечных островков, иные даже с пресной водой, но ничего особенно интересного мы на них не обнаружили.
Сперва-то мы на рифы поплыли. Когда потеплело и месяц начал прибывать, ночами на них можно было заметить какое-то движение, изредка ветер доносил не слишком музыкальные, но веселые голоса. Рассказа о тамошних собраниях ребятам показалось мало, и я, уступив просьбам, как-то раз «просветил» рифы с помощью магического зеркала.








