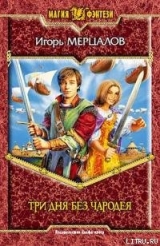
Текст книги "Три дня без чародея"
Автор книги: Игорь Мерцалов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Соколы, соколы,
За море поглядите,
За океан посмотрите,
Княжну Василису
Велиславну из Тверди углядите,
Да мне покажите!
Вода подернулась дымкой, но через миг очистилась и явила «отраженное извне», как называл это Наум, – башню. Более чем знакомую, потому что это была похожая на кремль башня дивнинского чародея.
Упрям сморгнул в удивлении и не заметил, как сменилась картинка. Теперь в миске отражался… Невдогад. Склонился над картой, пальцем водит, одним глазом в «Землеописание Запада» заглядывает.
Ученик чародея разочарованно подул на воду, изгоняя видение. Где-то он ошибся. И наверняка ошибка простейшая – может, не стоило перед волшбой в загадки вдумываться да Невдогада поминать? Досадно – как-то аж по-детски, до слез. Вот вечно так!
Еще раз перечитав свиток, убедился: внешне все правильно. И свечи по сторонам света ровно стоят, и миска чистая. Может быть, он сбился в тот миг, когда стал мечтать о силе волшебной, о чарах мгновенных? Недостойно сие, ибо завистью попахивает. И неумно. Придется все по новой начинать.
Погасив и снова затеплив свечи, Упрям повторил слова заклинания, только вместо книги взял куклу. Один и тот же предмет дважды подряд использовать не советуют, хотя он и пропитывается магией и зачастую «запоминает» свое первое заклинание. Вот, например, котел иноземный – вполне возможно, что Наум, вернувшись, строго накажет за него Упряма, ведь котел уже второй день находится под чарами! Не исключено, что котел теперь будет пригоден только для полетов…
Или не поздно еще снять заклинание?..
Не отвлекаться!
Поздно – после слов «да мне покажите» в миске опять возник Невдогад, теперь уже сосредоточенно что-то пишущий (вот нахал, даже не спросил разрешения взяться за письменный прибор!). Леший побери его, да что за невезуха? Ладно, попробуем с гребешком.
Давя в себе раздражение, Упрям принялся переколдовывать, но на сей раз волшба его окончилась совершенно непредвиденно. Уже на словах «как тверд камень Алатырь» вода в миске явила Невдогада, а пламя свечей взбухло, рванулось к потолку, сплелось в жаркий клубок, а из него выпорхнул великолепный сокол в золотом оперении. Не узнать его было трудно: это его истинное имя следовало произносить вперворяд, а имя это настолько тайное, что даже в самых редких магических книгах упоминается не всегда. Волхвы уважительно зовут этого сокола Востоком или Солнечным Лучом. Сам Сварог его поставил присматривать за Правдой богов на земле, надзирать за судом, закон оберегать, главным среди своих соколов назначил…
– Разуй глаза, дубина стоеросовая! – проклекотал сокол, не без труда приглушая громоподобный свой голос. – Остолоп, делать нам нечего, кроме как Василису тебе указывать. И как только Наум такую бестолочь взял в ученики? Ты гляди в миску-то, гляди!
Потрясенный и еще не до конца понимающий, что происходит, Упрям опустил глаза. И вода показала ему, как Невдогад, воровато оглянувшись на дверь, стянул с головы малахай.
И рассыпались по плечам льняные локоны. Немного слежавшиеся за сутки, но все равно роскошные. Василиса расчесала их пятерней, проветрила и со вздохом принялась опять упрятывать под малахай.
– Дошло? – осведомился устроившийся на столе Восток.
– Дошло, – дрогнувшим голосом признал Упрям. – Дошло, о зоркий служитель Сварога Справедливого, мудрый прекрасный Солнечный Луч…
– Не подлизывайся, – сурово оборвал его сокол. – По уму, стоило бы запретить тебе на веки вечные мое имя призывать. Но… из уважения к Науму и ради земли славянской… так уж и быть, запрет мой только до полудня продлится. Хотя я бы на твоем месте самое меньшее до завтра поостерегся бы волхвовать.
– Спасибо тебе, Солнечный Луч!
– На здоровье. Обращайся, если что, – хмуро ответила птица и исчезла в яркой вспышке.
Свечи погасли сами собой. А Упрям, проморгавшись, увидел, что на полу, у ножки стола, нежно золотится неземным светом оброненное перо. Счастливый дар!
– Спасибо, Солнечный Луч, – повторил Упрям, прибирая перо.
И только потом подумал: если до крайности (и, что греха таить, не без причины) рассерженная вечная птица все-таки делает поистине царский подарок – не иначе, по велению самого великого Сварога, – то уж никак не ради бестолкового недоучки. Сколь же большие труды ему предстоят?
* * *
– Но почему? Как совести хватило? Ведь ты же знал… то есть знала, что от этой свадьбы не только Твердь – честь земель славянских зависит!
– Прямо так и зависит, – привычно низким голосом ворчала Василиса, – А может, я не сразу узнала? Может, батюшка не удосужился мне всего рассказать? Знаешь, как обидно было?.. Заходит и говорит: все, мол, решилась твоя судьба, жених со сватами уже в пути. Будто горничной велел пыль повымести.
– У него на сердце, поди, камень лежал.
– Ага, вот и захотелось родной доченьке такой же камушек подкинуть!
– Не злись на отца. Ему решение трудное выпало. А ты с обидами детскими в делах государственных…
– Да знаю я, знаю, – отвернулась Василиса, комкая в руке малахай. Упрям, однако же, успел заметить предательский блеск в ее глазах. – Все знаю. И, конечно же, вернусь. И буду послушной. И за урода этого замуж пойду. Но что же, совсем норов не показать?
Княжну в Дивном любили. Славили красавицей и разумницей. Шестнадцати весен от роду, уже два года она старалась помогать отцу, вела хозяйство не только в кремле, но и в гостином дворе, где купцы останавливались, и в Иноземном подворье, где послы разных стран обитали. Принимала, привечала, «дивную красу земли славянской собою являла», как начертал в летописании один ладожский волхв. Занималась Василиса и делами торговыми: выезжала с нарочным боярином в окрестные селения и следила, чтобы купцы мимо ярмарки товар втридорога народу не продавали. За то прозвана была народом Премудрой и Ласковой.
Доброту ее все знали. Но знали и то, что норов у нее горячий, хотя о том предпочитали помалкивать. А если кто из иноземцев это вслух примечал, искренне советовали держать рот на замке.
– А что, он еще и урод? – помолчав, сочувственно спросил Упрям.
– А я знаю? Уж наверное… Да разве в этом дело? Будь он хоть красавец писаный разэтакий – все равно урод, урод, урод! А ну его в болото. Два дня еще пожить, а потом и думать о нем.
– Когда хочешь вернуться?
– Когда ты придумаешь, как это сделать. И не строй лицо. Лас видел, что мы с тобой на одной постели спали.
– Так ведь… это ж…
– А ему откуда знать? Да он один раз языком сболтнет – и все, опозорена я.
Упрям почувствовал, как стремительно потеет его спина.
– Надо ему, это самое…
– Ни в коем случае! – твердо заявила Василиса, – Тогда он точно решит, что мы вину укрываем. И батюшке доложит с полным правом как честный служака.
– Так как же…
– Думай.
– Н-да… Слушай, а как ты мои слова угадываешь? – подивился Упрям.
– А у вас, мужиков, одни слова, когда до девичьей чести доходит: тык-мык, да тык-мык.
– И откуда же ты так хорошо это знаешь?
– Знаю – и все, – слегка покраснела Василиса, стараясь не подать виду. – Тебе-то что? Или решил всерьез о чести моей позаботиться? Где уж тебе. Это сгубить девицу доверчивую каждый горазд…
– Эй, придержи коней! – чуть не задохнулся от возмущения ученик чародея. – Этак ты, глядишь, договоришься до такого…
– До какого? – живо полюбопытствовала Василиса.
Упрям промолчал. Княжну он прежде видел редко, знал ее мало, но как-то не вязалось ее поведение сейчас с уже сложившимся представлением. И подозрительно легко она накликала на себя бесчестие. Что чужими словами говорит «про всех вас, мужиков» – ежу понятно. И можно догадаться почему: девчонкам нравится думать о себе как об опытных, все повидавших, жизнь знающих. То есть самой жизни можно и совсем не знать, но почесать языком по поводу «всех этих мужиков» девки любят, это Упрям точно знал. Мало ли гулял по городу… Ему, правда, до сих пор не приходило в голову сравнить девичью болтовню с хвастливыми пересудами городских парней, и он был убежден, что причина кроется в особенностях девичьего ума, согласно поговорке, длиною заметно уступающего косам.
Но как понять этот проблеск веселой искорки в глазах? Ну не рада же, в самом деле, Василиса нависшей угрозе? Если только…
– А ты не нарочно ли со мной улеглась? Чтобы, скажем, я тебя выдать не смел. Или чтобы…
– Так, – отрубила Василиса. – Что и почему я делаю – это моя забота, никого не касается. А вот общие заботы наши – Наум да ворог на земле славянской. Я тут на кой-какие мысли набрел… тьфу, набрела. Гляди… да не на меня, на карту! Ну что ты уставился?
– Да нет, ничего, – ответил Упрям. – Просто придумал, как твою честь спасти. Но об этом потом, а пока малахай надень и рассказывай, чего надумал… Невдогад.
– Нет уж, вперед выкладывай, что изобрел!
Взор княжны горел, подбородок вздернулся – вылитый князь. И как раньше не заметил? Хотя нет, заметил, что уж самому себе-то врать. Заметил с первого же взгляда, Ладно, в ту минуту о другом думал, но, сказать по правде, весь день и половину ночи подсказок у него было выше крыши: и загадочные речи, и оговорки, и осведомленность в делах кремля (ведь ясно же было, что знает «Невдогад» и Болеслава, и Ласа). И внешность, и поведение, и малахай, и прочее, и прочее. Умна Василиса, но ко лжи непривычна, и, чтобы не разгадать ее под наспех состряпанной личиной, надо было быть полным…
«Полным мной», – мрачно подумал Упрям.
– И с чего тебя Ласковой прозвали? – вздохнул ученик чародея. – Вот так посмотришь – ни за что не догадаешься.
– Ну, свою догадливость ты уже хорошо показал, – улыбнулась Василиса. – Не тяни, рассказывай.
– Ладно. Есть такие чары, что внешность человека меняют. Но не злые, оборотные, а безвредные. Вроде слабого морока. Света они не боятся, рассеиваются по заветному слову, следов не оставляют.
– Ну-ну, – с сомнением протянула Василиса, – И в кого ты намерен меня превратить? В сизую голубку?
– И что мне с тобой делать, с этаким чудом крылатым? – усмехнулся Упрям. – Да и потом, голубке несподручно заветные слова произносить. Тут человечье горло нужно, а клювом щелкать без толку. Нет, мы лучше сделаем. Мы тебя – в Невдогада превратим!
– Это как? – опешила Василиса.
– Очень просто. Короткие волосы, более жесткая линия подбородка и губы потоньше, попрямее – уже хватит, – щурясь на княжну то одним, то другим глазом, прикинул Упрям. – На всякий случай изменим цвет и обвод глаз, плечи пошире сделаем. И будешь ты обычным парнем, отдаленно на князя похожим. А как до кремля доберешься, в каком-нито закутке слова заветные скажешь – прежний облик к тебе и воротится. Вот и нашлась княжна. Я же говорить, что дружок мой Невдогад домой подался. Каково?
– Таково, – Василиса сделала неопределенный жест, – Все равно же будут спрашивать, где была, что делала.
– А раньше ты, что думала отвечать?
– Да кабы я думала… – тяжко вздохнула княжна. – Оно ведь как получилось. Я, когда на батюшку озлилась, решила на судьбу себе погадать. Подружки одно: не велено гадалок пускать! Тогда я у одного отрока из прислуги, пока не видел, рубище одолжила и подалась на ярмарку – провидцам-то уже дня три как разрешено своим ремеслом заниматься. Только сунулась за ворота, вижу – не пройти: по дороге от кремля болеславичей – как в дожде капель, и ведь все меня в лицо знают. Тут тебя увидела… То есть вначале услышала, уж больно возок твой стучал да гремел. И думаю: а дай-ка к Науму прокачусь. Наум добрый: и судьбу предскажет, и, может, чего присоветует. Ну а тут такое злодейство… Забылась я. Когда вспомнила, гляжу, поздно уже возвращаться втихаря. Ну, думаю, что ни делается – все к лучшему. Пускай батюшка припомнит, как родную дочь обидел. Это я сейчас призадумалась, а вчера не до того было… Вот такая вот я Ласковая, – невесело усмехнулась она. – Вот такая Премудрая. Смешно, правда?
– Да нет, не очень, – ответил Упрям. – Скорее досадно. Ты же, Василиса, честь и краса Дивного, жемчужина Тверди – и, поверь, не впустую тебя так величают. И вдруг сорвалась… досадно. Совсем на тебя не похоже.
– Ну откуда ты это знаешь, откуда? – вскочила вдруг Василиса. – Что вы все как нелюди, навесили на меня это ярмо – быть славою Тверди – и довольны. А может, я совсем-совсем другая? Может, я злая и глупая, только притворяюсь этакой голубкой? Премудрой кличете? Да ведь все решения мои – с одобрения батюшки или боярина нарочного! Ласковой славите? А может, не от сердца ласка, а от расчета: обласканный человек без ропота подати платит!
– Что на тебя нашло? – искренне изумился Упрям.
– Нашло? Нет, дружок, это прорвало меня, нет больше мочи живой хоругвью ходить, двуногим знаменем. «Поезжай, Василисушка, поселенцам слово доброе промолви, торгашей бесстыдных попрекни, одного осуди, другого отпусти…» «Явись к послам, Василисушка, красотою да умом сверкни, ослепи их, иноземцев злокозненных, мысли им спутай…» Надоело! Не жизнь – сплошная служба, а вместо наград иди, Василисушка, за пришельца проклятого, постылого!.. А что, может быть, и впрямь обличье поменять? – неожиданно тихо спросила княжна, и жгучая слеза прокатилась по ее щеке. – И в самом деле… измени меня, Упрямушка. Зачаруй, заколдуй, сделай страшненькой. Сделай такой уродиной, чтоб родной отец не смог смотреть подолгу. Чтоб сватов от ужаса перекосило! Сделай, Упрямушка, добрый, не откажи несчастной девице, я в долгу не останусь…
– Да что ты несешь? Опамятуйся! – Упрям не усидел на месте, резко поднялся и тут же отступил к стене.
Василиса приближалась к нему, нетвердо держась на ногах, а взгляд у нее был сумасшедшим. Ему стало страшно
– Добрый Упрямушка! Ну что тебе стоит? Заколдуй, избавь меня от ярма этого, вызволи из кабалы, из личины постылой. Что молчишь?
Мысли Упряма метались. Одно видел он ясно: княжна не притворяется. Неужели околдована? Но какой же силой нужно обладать, чтобы навести порчу на человека в башне чародея, где каждый камень, каждое бревнышко – оберег от всех мыслимых несчастий?
Нет, это от души. Неужто простая дурь девичья? Упрям, бывший большим охотником побегать за длинными косами, считал себя знатоком девичьего ума (по юности лет, конечно, изрядно заблуждаясь, но далеко не во всем). И знал, что бывает такое, когда отрочество остается позади: взбредет вдруг в голову, что именно твоя судьба самая глупая и скучная, а любая другая – прямо-таки мечта заоблачная. И восхочет юный ум чего-то такого-этакого, чего – и словами-то сказать не получается, но – другого. Не того, что есть. Чего угодно. И тогда уходит лад из души, сердце мечется. Тут родителям ухо востро надо держать.
Но это люди простые, а сильные мира сего – разве такие же?
– Не молчи, Упрямушка, молви: спасешь ли меня от доли постылой? Любую судьбу приму…
И Упряма вдруг осенило: да. Точно такие же. Всех людей боги сделали из одного дерева. Кого из корней, кого из ветвей, а суть все та же. Будь ты листик оторвавшийся, никому не нужный, будь ты ствол, всему опора – те же соки тебя питают.
Как-то сладко и жутко сделалось от этого «открытия». Стало быть, и князья слабостям подвержены… и чародеи, наверное. Жемчужина Тверди плачется, как дочка мельника, не желающая за старостиного сына идти.
Значит, и ученика могучего чародея где-то поджидают и глупости, и обман. Не стать ему лучше других.
Но ведь и хуже не стать!
Может, это и хорошо? Если все мы из одного теста слеплены, из одной древесины струганы – значит, нет нужды завидовать. Донести до всех людей эту простую мысль – и на целом свете зависть исчезнет. И некому будет перед прочими гордиться, ибо – незачем. И никто не почувствует себя обделенным, униженным…
Или нет? Ведь некого будет и уважать. Все удачи чужие и всю недолю свою на шутку богов списывать – не станет почитания богов. А зависть станет злой, чуть что – перекинется в ненависть. И тогда в целом свете лада не станет. Из-за…
Из-за одной мысли, удосужься чья-то воля донести ее до всех людей. Из-за одной! Как ни странно, как ни нелепо это звучало, Упрям вдруг ясно вообразил себе такой мир. И ему стало не по себе.
Василиса утерла слезы и спросила ослабшим голосом:
– О чем призадумался, Упрямушка? Что, потускнела жемчужина?
– О дереве я подумал, княжна, – медленно ответил Упрям.
– О каком же дереве?
– О том, о котором волхвы говорят, что боги из него людей сделали. Первый народ свой возлюбленный. Из корней вырезали земледельцев да охотников, из ствола – князей да воинов. Из ветвей – ремесленников, купцов да строителей. Разные люди – а все из одной древесины. Одни соки питают нас.
– То не новость, – невесело усмехнулась Василиса. – Что же, ясно увидел, что княжна твердичская последней побродяжке безродной равна, а, пожалуй, что и завидует?
– Нет, княжна. Я подумал о том, что древесина бывает здоровой, а бывает с гнильцой, бывает и с болезнями. И жуки дерево точат, и ураганы буйные ветви ломят, а дерево стоит – потому что живое оно, с гнилью борется, как тело с лихоманкой.
– И что же, много гнили во мне углядел?
– Чего ты восхотела, Велиславна? Свободы?
– Ее, Упрямушка, ее, родименькой…
– Какой же именно? Свободы быть глупой? Свободы ни за что не отвечать? Свободы жить без образа и подобия? Быть злой, на целый свет разобиженной?
На сей раз Василиса промолчала, и Упрям порадовался. Он не знал, откуда шли на язык слова, и спроси его кто-нибудь, не сумел бы сказать, отчего радуется молчанию княжны. Но останавливаться уже не мог – и не хотел:
– Не в том воля, чтобы безобразие принять и злобой облечься. Воля – в душе, она всегда с человеком, нельзя ее отнять у нас. В любой клетке, в любых цепях – волен человек. Только сильное дерево преграду ломит, камень крошит, а гнилое само ломается. И та ветка, что гниль не поборет, всему дереву угроза. Мы, славяне – сильное дерево, в нас воля сильна!
– Гнилая ветка упадет – и свободна, что ей тогда до всего дерева? – тихо спросила княжна.
– Не свободна она, а погублена, – возразил Упрям. – Если только смерть свободой считать. Но боги нам так судили: выбирай, человече – свобода смерти или воля жизни? Выбирай.
Василиса отвернулась. Упрям отчего-то ощутил себя опустошенным. Эх, будь рядом Наум, точно усмехнулся бы: ей-ей, ученик исчерпал запас мыслей на сегодня.
– Как же это так: возвращаться в кабалу – на волю? – не глядя на него, спросила Василиса, – Все равно, что сказать: утонуть в огне или в воде сгореть. Как объяснишь?
– Не знаю, – честно сказал Упрям. – Я не мудрец, не старец разумный. Во что верю, то и сказал.
Василиса обернулась, и он увидел на ее лице улыбку.
– Даже если вере твоей пять минут от роду? Я же вижу: тебя только что осенило, сам не ведал наперед, что с языка сорвется.
Упрям пожал плечами:
– На то и вера. Мысли разные могут прийти, но лишь те, что с верой согласны, на душу ложатся.
– Ух ты, прямо как волхв говоришь, – восхитилась княжна.
– Да где уж мне…
Помолчав, она снова приблизилась, встала в двух шагах, себя пересилила и взор подняла:
– Упрям, я вчера тебя ослушалась, а потом еще и обругала. Ты зла не держи. Совестно… Прости меня, неразумную.
Губы Упряма дрогнули. Слова теснились: не переживай, я тебя не виню, ну что ты в самом деле, я уже забыл… И при этом он обнаружил, что сказать ему нечего. Кроме одного-единственного слова, которое, наверное, нельзя было произносить, обращаясь к девушке, к дочери князя:
– Прощаю.
«Что делаю? – ужаснулся он сам себе. – Умно ли соглашаться: да, ты виновата передо мной». Но каким-то мимолетным был этот испуг. И хорошо, потому что слово оказалось самым верным.
– Упрям… А покажи перо, которое тебе золотой сокол подарил. Покажи, а?
* * *
– Я виноват, глубоко виноват, – вздохнул Наум, прислоняясь лбом к посоху.
– Не стоит себя винить, – возразил его собеседник. – Отчаяние губит.
– Предаваться отчаянию и винить себя – разные вещи, – ответил чародей. – Одно правда губит, а другое, напротив, силы дает. Хотя, к сожалению, не всегда… или недостаточно.
Он подошел к окну своего небывалого укрытия и подставил лицо солнечному свету. Солнце здесь немного другое, пожестче, но все-таки правильное. Вернее сказать – привычное. Ибо определяемая в суждениях суетного быта правильность и неправильность, как все больше убеждался чародей, это во многом дело привычки.
Но не во всем!
И, как ни уверяли его окружающие, будто все произошло как нельзя лучше, что следует отбросить тревоги и жить тем, что здесь и сейчас, не мечась между невозвратимым прошлым и туманным будущим, Наум твердо стоял на своем: ошибки нужно исправлять.
Он должен вернуться…
– Я слишком долго ждал, – объяснил чародей. – Ведь я знал, кто мой противник и на что он способен. Мне было известно многое из того, что он задумал. Но не все. И я был слишком самоуверен – до глупости, до беспечности. Мне так хотелось вызнать замысел врага до мельчайших деталей, чтобы потом все ахнули, чтобы признали меня самым мудрым, смекалистым, проворным… самым лучшим. Пустое тщеславие. Враг меня опередил. Он уже начал действовать, а я все медлил. Теперь и сам уже не знаю, хотел ли и впрямь до каждой мелочи докопаться или… просто боялся?
– Трудно в это поверить. После стольких приключений, после войн и поединков, имея за плечами опыт многих сражений, бурной жизни – испугаться?
– Старость не радость. Большее число моих лет осталось за спиной. Быть может, знаменитая осторожность седобородых опасно граничит с трусостью, когда тень смерти замаячит на окоеме? Не в обиду тебе будь сказано, но, боюсь, это именно так. Я неоправданно промедлил, а следовало действовать, как только я получил весть из Совета о пленении Хапы Цепкого. Но главной ошибкой было другое. Почему я, старый пень, ничего не сказал Упряму?
– Насколько я понял, парень он сметливый, все схватывает на лету.
– Но недоучен. Доверчив. Упрямствует равно и в достижении цели, и в заблуждениях. И самое страшное, даже не подозревает, насколько близок враг!
– Конечно, риск велик. Но разве мы можем сделать то, что превосходит наши силы?
– Силы… Моя магия так слаба здесь, я не могу пробиться к Упряму, не только отправить весть, но даже толком разглядеть, что с ним происходит.
– А я слишком далек от ваших дел, – вздохнул собеседник Наума. – И видения, которые я вызываю, немногим лучше. Остается только ждать, надеяться и пробовать снова и снова.
Он почесал седую бороду, потом указал рукой на накрытый стол:
– Но сначала следует подкрепиться.
– Кус в горло нейдет, – сознался Наум. – Я должен увидеть Упряма.
– Хорошо, – подумав, согласился его собеседник – тоже в своем роде чародей, хотя совсем не такой, как Наум. – Я попытаюсь еще раз.
И он снова взялся за дело.
И снова плоды его трудов не дали удовлетворения.
– Нет, – решительно заявил он. – Я слишком устал. Нам нужно поесть, а потом, как ни трудно это будет, вообще расслабиться и отвлечься. Погода сегодня – просто загляденье, предлагаю после обеда пройтись и подышать свежим воздухом.
– А что остается? – горько вздохнул Наум, – Будем кушать и гулять…
* * *
– Сейчас, косу доплету! Это я, когда из кремля к гадалкам подалась, спешила, даже не причесалась толком. Волосы под этот противный малахай затолкала, как были, и вот со вчерашнего дня ходила… слушай, а эти слова точно сработают?
– Точно, точно. Если не сработают, разрешаю отрубить мне голову, – отозвался Упрям, гася огонь. – У меня готово
Василиса закрутила косу вокруг головы и нацепила ненавистный малахай.
– У меня тоже… Ой, Упрям, что-то боязно. Может, на потом отложим? Меня же здесь в лицо только Лас и знает, прочие дружинники – уличанские, в кремле нечасто бывают.
– Все равно лучше поостеречься. Уж издали-то тебя всякий видел.
– Верно. Ну, давай! – решилась Василиса и уставилась на свое отражение.
Они стояли в спальне чародея, перед высоким вязантским стеклянным зеркалом. Немыслимо дорогая вещь – но очень полезная, приспособленная под многие заклинания.
На море-океане,
На острове Буяне…
Сосредоточение. Руки с чашкой зелья ощущают всплеск тепла – задрожали мистические токи, теперь важно не отвлекаться. Переколдовывать, как убедился Упрям на личном опыте, все-таки не стоит – мало ли чем кончится?
Из уст в уста, из рук в руки,
Из глаз в глаза – чары сильные,
Чары крепкие, чары верные…
Упрям передал чашу Василисе, а сам взял наговоренный уголек и для начала коснулся подбородка княжны.
Что руки делают -
То глаза видят,
Что уста велят -
То глаза видят…
Добавил пару росчерков на скулы, будут острее и мужественнее. Хотя Наум как-то говорил, что уголек – не самое главное, свитки настойчиво советовали начинающим магам не пренебрегать упражнениями в рисовании. А Упрям делал по свиткам. Вот и сейчас, хотя помнил слова наизусть, не поленился лишний раз шагнуть к столу, свериться с записями.
– Как я согласилась? – скривилась Василиса, бросив взгляд на зелье – его по завершении надлежало выпить. – Ну и запах.
– Только не отвлекаться! Ну и что, что запах? Магия нервных людей не любит. Спокойствие и только спокойствие…
– Чирик-чик-чик!
– Ой! – Василиса вздрогнула, деревянная чаша со стуком покатилась к стене, щедро поливая зельем пол.
Уголек оставил косую черту через все лицо – если бы и уцелело зелье, продолжать волшбу уже не стоило, такой ужас получится – нави обзавидуются.
– Чик-чирик!
Чирикала птичка, вырезанная в правом верхнем углу рамы, в которую было заключено зеркало.
– Что это? – отступила Василиса.
– Не знаю, – ответил Упрям. – Хотя… догадываюсь.
– Чик-чир! Чири-ик! – с нарочитой внятностью пропела резная птичка.
– Что я должен сделать? – спросил у нее Упрям.
Птичка скосила на него единственный глаз и хмыкнула:
– Дернуть себя за нос! Ишь, какой исполнительный… не оторви! Пошутила я. – Голосок у нее был тонкий, но очень деловой. – Прикоснись к моему хохолку. Готов? Чирикаю: чирик-чик-чик!
– Встань-ка вот здесь, чтобы тебя видно не было, – сказал Упрям Василисе.
– Видно откуда? – удивилась она, но послушно шагнула за зеркало.
Ученик чародея коснулся искусно вырезанного деревянного хохолка, и зеркало тут же потемнело, по нему побежали разноцветные искры и сполохи.
– Еще, – шепотом подсказала птичка.
После третьего или четвертого касания блики ушли, и в зеркале отразился совершенно другой покой в богатом тереме, густо заставленный различным магическим хламом. Упрям успел разглядеть семь хрустальных шаров размеров от кулака до бычьей головы (Наум рассказывал, что их правильная шлифовка настолько сложна, что стоят они втрое против своего веса в золоте), несколько зеркал в серебряной и бронзовой оправе, завалы испещренного рунами пергамента на рабочем столе, неизменный котел, зелья, даже ступу с помелом – сущая древность, в них уже лет двести как никто не летает, кроме женщин (ведьм, разумеется).
Впрочем, хозяин этого покоя, возможно, не мог расстаться со ступой именно в силу личной привычки и недоверия к новшествам. На вид ему можно было дать и двести, и триста лет – хотя пришлось бы тут же признать, что для своих годов он неплохо сохранился. Одет он был в расшитое золотом подобие рясы и накидку, отороченную мехом. Сухие костлявые пальцы стискивали черный от времени посох. Лицо можно было бы принять за череп, если бы не острые, ничуть не замутненные возрастом глаза. Белоснежная борода ниспадала до колен, потом поднималась вверх, сама за себя заткнутая, дважды обвивалась вокруг туловища, ложилась на сгиб левой руки и только двумя локтями ниже наконец-то кончалась. Кустистые брови тяжко нависали над глазами, делая их взгляд особенно внушительным. Голова же была лысая и венчалась золотым обручем с тремя самоцветами.
– Ты кто? – строго прошамкал старик. – Откуда взялся?
– Я – ученик Наума.
– А-а, Упрям. Конечно, я тебя помню. Ты уже вернулся из Вязани?
– Я там не был, досточтимый Зорок, – невозмутимо ответил Упрям. Он знал старика, хотя в основном по рассказам чародея, лишь однажды видел его в сотворенном Наумом видении да еще слышал его голос из-за двери (пока Наум не велел убираться и не подслушивать – только Упрям совсем не подслушивал, честное слово, просто случайно задержался по пути в чаровальню…); и он знал, как следует с ним разговаривать.
– Ну да, само собой, – закивал Зорок. – К вязантам ездил Скоробогат, а ты ездил к чудинам.
– Я и у чудинов не был, досточтимый Зорок, – напомнил Упрям и поспешил добавить: – Я еще никогда не покидал Тверди.
– Правильно! Я помню – я просто проверяю тебя, – бодро выкрутился старик. – Разумеется, никогда не покидал… а кто же тогда ездил к чудинам? Может быть, Скоробогат?
– Может быть, – согласился Упрям.
– Нет, не может! – воскликнул старец, воздевая указующий перст, – Скоробогат ездил в Вязань, это я точно помню. Договаривался о Волшебном Праве в Аварии. Но кто же тогда ездил к чудинам?
«Кто угодно», – подумал про себя Упрям. Волшебное Право в Аварии, он знал, утверждалось без малого три века назад. По прошествии стольких лет проще было перечислить тех, кто в Чуди не бывал ни разу.
– А может, это они к нам приезжали? – спросил он вслух, прикидывая, как бы подтолкнуть Зорока к нужному разговору. – Наум рассказывал, они часто бывают в Ладоге.
– Ясное дело, бывают. И, конечно, Науму нечего делать в Чуди: зачем ехать, когда они все здесь? Наум в Чудь не ездил, это точно. Эх, молодо-зелено, ничего-то вы не знаете. Хоть бы у меня догадался спросить, а то – Наум у чудинов!.. А ты кто? – оборвал он себя, глядя мимо Упряма.
Так и есть – Василиса не удержалась и заглянула за край оправы зеркала. И тотчас порскнула назад, но уже была замечена.
– Это Невдогад, – сказал Упрям. – Он…
– Как же, помню, – закивал старик. – Я все помню, я всех знаю…
– Он к Науму приходил, – робко перебил его Упрям. – А Наума-то и нет.
– Помню, помню, нет Наума, – покивал еще длиннобородый и вдруг замер. – Наума нет! – торжественно объявил он, вспомнив, ради чего вызывал Дивный. – Нет Наума, а ведь у меня для него сообщение. Где Наум? Ответствуй, отрок.
– Он… – замялся ученик чародея, – Я знаю, он собирался в Ладогу…
– Собирался! – скривился Зорок. – Уже давно здесь должен быть! Этот наглый мальчишка смеет задерживать почтенных Старцев Разумных! Значит, он в дороге?
– Да, – согласился Упрям: пусть Совет так считает. Если правда станет известна в Ладоге, это вызовет скандал и переполох еще быстрее.
– Что же он, земными путями двинулся? – визгливо забрюзжал Зорок. – Может, нам еще до осени его ждать?
– Передо мною Наум не отчитывается, – сказал Упрям.
– А перед нами – должен! Уже три дня, как Совет призвал Наума к ответу – и ни единой весточки от него с той поры! Что позволяет себе этот мальчишка, дерзец? Где благочестие, где уважение, где чинопочитание?
– Наум поступает так, как считает нужным, – мягко стоял на своем Упрям.
– Если он даст о себе знать, напомни ему, отрок, что время работает против него, – неожиданно четко проговорил Зорок, и особенно пронзительно сверкнули его глаза.







