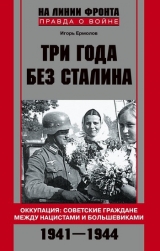
Текст книги "Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и большевиками. 1941–1944"
Автор книги: Игорь Ермолов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Однако, несмотря на тотальный идеологический контроль, зарегистрированы случаи отклонений от предписанных нацистами постулатов. Так, в школах Брянска имело место пение «Интернационала»[294]294
Там же. С. 80.
[Закрыть], в школах Пскова были в ходу пионерские песни, а также «Тачанка»[295]295
Полчанинов Р.В. Псковское содружество молодежи // Под оккупацией: Сб. статей / Под ред. Б.С. Пушкарева. М.: Посев, 2004. С. 107.
[Закрыть]. В начальной школе деревни Лубенск Локотского округа, по свидетельству местной жительницы Т.Н. Гришаевой, учащиеся, воспользовавшись отсутствием учителя А.В. Шубина, обстреляли из рогаток и продырявили висевший в классе портрет Гитлера.
Что касается контингента коллаборационистов в сфере образования, его составляли в основном бывшие учителя, методисты, директора школ, сотрудники РОНО, которых за линией фронта осталось достаточное количество. Так, в Ржевском районе было зарегистрировано 150 учителей, из них 40 – в Ржеве. Директором открывшейся в период оккупации гимназии № 1 Ржева стал бывший директор средней школы № 8 Е.И. Гаврилов, завучем – бывший директор средней школы № 5 А.И. Милославский[296]296
ЛАЕ. Культура и просвещение в оккупацию.
[Закрыть]. В Новоржевском районе Ленинградской области, население которого составляло 100 тысяч человек, в период оккупации в 55 начальных школах работало 115 учителей[297]297
Заря. 1943. 28 февраля. № 16.
[Закрыть]. По Почепскому району Орловской области из 2498 рабочих и служащих 216 человек составляли учителя, то есть педагогических работников было 8,6 % от общего количества трудящихся[298]298
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 18.
[Закрыть]. Подавляющее большинство оставшихся за линией фронта учителей добровольно встало на путь коллаборации, по крайней мере, острого недостатка в педагогических кадрах не было. В некоторых случаях в сфере образования трудились литераторы, работники культуры. Так, Новгородский отдел народного образования возглавил писатель и поэт А. Егунов, творивший под псевдонимом Андрей Николев, автор вышедшей в 2002 г. книги «Елисейские радости»[299]299
А. Егунов родился в дворянской семье, был связан с поэтом А. Блоком. Первое произведение – авторизованный перевод «Законов» Платона. В 1933 г. арестован за участие в работе неофициального молодежного литературного кружка «Осьминог», отбыл три года ссылки в Западной Сибири. После войны осужден на десять лет лагерей за сотрудничество с оккупантами, после освобождения работал в Ленинграде в Пушкинском Доме.
[Закрыть].
В то же время немало педагогических работников, за недостатком рабочих мест в системе образования, было вынуждено устраиваться на ответственные должности в органы местного самоуправления или немецкие комендатуры. Так, в Красногородском районе Калининской области начальником паспортного стола районной управы служила педагог-орденоносец М.В. Виталева, заведовала женским отделом районной биржи труда педагог, комсомолка B.C. Карузина[300]300
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 641. Л. 98.
[Закрыть]. Они же являлись оплачиваемыми немецкими агентами[301]301
Там же.
[Закрыть]. Учитель М.И. Полессков в оккупацию заведовал паспортным столом Хомутовского района Курской области, педагог И.Е. Трощановский работал секретарем заместителя бургомистра Почепского района Орловской области[302]302
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 74.
[Закрыть]. Однако основную массу неработающих учителей использовали на физических работах: по строительству дорог, на лесоразработках, на разгрузке вагонов и т. д.[303]303
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 16. Л. 61 об.
[Закрыть] Иногда работающие, но свободные от занятий учителя, например в дни каникул, также могли быть использованы на физических работах по распоряжению бургомистров и волостных старшин[304]304
ГАБО. Ф. 2608. On. 1. Д. 2. Л. 113.
[Закрыть]. Учителя, неспособные к физическому труду, нередко были вынуждены нищенствовать, побираясь по деревням[305]305
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 16. Л. 61 об.
[Закрыть].
Материальный уровень вставших на путь коллаборации педагогов на протяжении всего периода оккупации оставался крайне низким. В частности, зарплата учителей школ Калининской области составляла в среднем 300 рублей в месяц. Кроме того, калининские педагоги получали по 200 г хлеба в день[306]306
Там же.
[Закрыть]. Учителя школ Брянска – 400 рублей в месяц, а также 150–200 г хлеба в день плюс 100 г на иждивенца[307]307
Черняков Д.И. Указ. соч. С. 82.
[Закрыть]. Иногда один раз в месяц учитель получал 100 г соли и 200 г маргарина[308]308
ЦНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 136. Л. 11.
[Закрыть]. Предусматривались и различные денежные надбавки: за проверку тетрадей – 10 рублей, за классное руководство – 30 рублей, директорам семилетних школ – 15 % от ставки, начальных – 10 %[309]309
ЦНИБО. Ф. 1762. On. 1. Д. 14. Л. 118.
[Закрыть]. Для учителей со стажем более 25 лет предусматривалась 50 %-ная надбавка. Между тем зарегистрированы случаи, когда районные бургомистры превратно истолковывали это положение, разъясняя заслуженным педагогам, что педагогический стаж, выработанный в советской школе, не в счет – 25 лет надо проработать при «новой власти»[310]310
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 36.
[Закрыть]. После вмешательства отделов просвещения недоразумения, как правило, устранялись. По сообщению начальника отдела просвещения Клинцовского округа Водункова, сделанному на окружном собрании бургомистров 19 октября 1942 г., нередки случаи, когда учителям, проболевшим три-четыре месяца, местные органы самоуправления отказывались выплачивать пособие[311]311
Там же.
[Закрыть].
Таким образом, педагоги, согласившиеся работать для «новой власти», являлись одной из самых низкооплачиваемых категорий коллаборационистов – их оклады уступали даже окладам мелких служащих и неквалифицированных рабочих.
Что касается количества школ, оно повсеместно сократилось в результате разрушения школьных зданий в ходе военных действий и их использования не по назначению. Так, по воспоминаниям бывших ржевских Школьников, после оккупации Ржева в городе открылось 2 гимназии и 4 народные (начальные) школы, тогда как до войны по городу действовало не менее 8 школ. В ряде местностей, например в Орле, в Новоржевском, Псковском районах Ленинградской области, действовали лишь начальные школы[312]312
Верт А. Указ. соч. С. 502; Полчанинов Р.В. Указ. соч. С. 104; Заря. 1943. 28 февраля. № 16.
[Закрыть]. Причем их количество, равно как и количество учащихся, в ряде мест резко сократилось. В частности, согласно партизанскому докладу «Об итогах развития партизанского движения» от 1 августа 1943 г., в оккупированных районах Калининской, Ленинградской, Смоленской областей до войны в пределах территории одного сельсовета имелось 5–7 начальных школ с общим числом учащихся до 500 человек. В период оккупации в пределах каждой волости действовало по одной начальной школе с количеством учащихся 20–30 человек[313]313
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 16. Л. 61 об.
[Закрыть]. Так, согласно тому же докладу, в Невеле до войны действовали педучилище, медтехникум, 4 средние школы, школа механизации и сельскохозяйственных кадров. В период оккупации в Невеле работала лишь одна начальная школа[314]314
Там же. Л. 60 об.
[Закрыть]. В Себежском районе Калининской области до войны действовало 5 средних, не менее 7 неполных средних и 12 начальных школ, зоотехникум, ветеринарная школа, в которых обучалось около 7000 человек. В период оккупации в районе сохранились лишь две начальные школы, которые посещало 190 учащихся[315]315
Там же. Д. 22. Л. 45 об.
[Закрыть]. В Опочецком районе сохранилось 30 % довоенных школ[316]316
Там же. Д. 15. Л. 222 об.
[Закрыть].
Лишь в немногих местностях сохранность системы школьного образования выглядела относительно благополучно. В частности, на территории Понуровского района Клинцовского округа (Орловская область) на ноябрь 1942 г. действовало 49 школ, из них средних – 8, неполных средних – 13, начальных – 28. В них работало 226 учителей, школьным образованием было охвачено 6354 учащихся, постоянно посещали школы 4650 учащихся[317]317
ГАБО. Ф. 2608. On. 1. Д. 15. Л. 248 об.
[Закрыть]. При этом население района составляло 34 743 человека, из них детей – 12 062 человека[318]318
Там же. Л. 42.
[Закрыть]. Если предположить, что около половины этого количества составляли дети дошкольного (до 7 лет) и послешкольного (старше 14 и 16 лет) возраста, то охват детей школьным обучением был практически 100 %-ным. На территории восьми районов Локотского округа, население которого составляло 581 тысячу человек, действовало 345 школ, из них 10 средних, в которых обучалось 43 422 учащихся, учебный процесс осуществляли 1338 учителей[319]319
Голос народа. 1942. 5 ноября. № 28.
[Закрыть]. Только по Навлинскому району, включавшему 6 волостей, на ноябрь 1942 г. действовало 22 школы, из них одна средняя[320]320
Голос народа. 1942. 15 ноября. № 30.
[Закрыть]. В неполной средней школе № 1 Брянска обучалось 600 учащихся, распределенных по 15 классам[321]321
Речь. 1942. 13 июня.
[Закрыть]. По Мглинскому району Орловской области на август 1942 г. на 60 тысяч человек населения действовало 24 школы, вскоре их количество было доведено до 50[322]322
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 15. Л. 78.
[Закрыть]. В Стародубском районе на ноябрь 1942 г. работало 70 школ, с педагогическим персоналом проблем не было[323]323
Там же. Д. 21. Л. 33.
[Закрыть].
В некоторых местностях, например в Смоленском районе, недостаток школьных зданий покрывался созданием «школ на воздухе», в которых занятия проводились под открытым небом, причем летние каникулы, в связи с необходимостью использования теплого времени года, отменялись[324]324
Клич: Еженедельная газета для военнопленных. 1942. 26 июля. № 29 (51).
[Закрыть].
Финансирование работы школ осуществлялось из бюджетов соответствующих органов местного самоуправления – городских и волостных управ. С этой целью население облагалось соответствующим налогом. Кроме того, с родителей, допускающих пропуски их детьми школьных занятий без уважительных причин, взимались штрафы. Их размер в различных местностях колебался от 100 рублей (Калининская область)[325]325
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 637. Л. 11 об.
[Закрыть] до 500 рублей (Локотской округ)[326]326
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 20. Л. 24; Ермолов И.Г. Гражданский и военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской области. С. 74–75.
[Закрыть]. К таким мерам местные власти подталкивала низкая посещаемость школ, срывы занятий по этой причине. Так, в начале декабря 1942 г. обер-бургомистр Локотского округа Б.В. Каминский констатировал, что бургомистры, волостные старшины и старосты не уделяют сфере образования должного внимания, в результате занятия, особенно в 5–7-х классах, срываются. В соответствии с приказом № 36 от 12 декабря 1942 г. только по Брасовской волости было оштрафовано 45 семей на 500 рублей каждая. Одновременно предписывалось привлекать к уголовной ответственности родителей, которые и после уплаты штрафов будут препятствовать детям посещать школы. Такое же наказание грозило руководящим работникам и директорам школ, допустившим срыв учебных занятий[327]327
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 20. Л. 24; Ермолов И.Г. Гражданский и военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской области. С. 74–75.
[Закрыть]. В соответствии с приказом Кудеверьской районной управы (Калининская область) от 1 октября 1942 г., детей, склонных к пропускам занятий, в школы доставляла полиция в принудительном порядке[328]328
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 637. Л. 11 об.
[Закрыть]. Одним из источников финансирования являлось введение в ряде школ платы за обучение. Так, в школах Брянска за обучение одного ребенка взималось 60 рублей, за второго и последующих родители доплачивали еще 30 рублей[329]329
Черняков Д.И. Указ. соч. С. 73.
[Закрыть]. Платное обучение сохранялось и в ряде оккупированных районов Калининской области, в частности в Ржевском. Причем в случае закрытия школы внесенная плата не возвращалась[330]330
ЛАЕ. Культура и просвещение в оккупацию.
[Закрыть].
Одной из характерных черт народного образования была его нестабильность. Так, в ряде школ занятия постоянно приостанавливались, иногда на несколько месяцев. Так, открытая в Ржеве гимназия № 1 проработала всего три дня – с 1 по 3 декабря 1941 г., одна из четырех народных (начальных) школ была через несколько дней закрыта из-за плохой посещаемости[331]331
Там же.
[Закрыть]. Школа № 1 Брянска, открытая 13 июня 1942 г., в августе того же года приостановила свою работу, школа № 2, занятия в которой начались 30 июня 1942 г., также приостановила работу в августе[332]332
Черняков Д.И. Указ. соч. С. 73.
[Закрыть]. Подобное положение складывалось в оккупированных районах Калининской области, где занятия в школах то и дело прерывались[333]333
ТЦДНИ. Ф. 479, Оп. Д. 16. Л. 105.
[Закрыть].
Наряду со светским школьным образованием, находящимся в ведении органов местного самоуправления, определенное развитие получила система школьного образования, созданная православной церковью. Это касалось не только создания церковных общеобразовательных школ, но и преподавания в светских учебных заведениях религиозных дисциплин не школьными учителями, а священнослужителями. Наиболее характерны в этом отношении мероприятия, проводившиеся на территории, контролируемой Псковской православной миссией под управлением экзарха, митрополита Сергия (Воскресенского). Так, в течение 1942 г. при псковской церкви Преподобного Варлаама Хутынского действовала организованная священником Константином Шаховским общеобразовательная (вероятно, начальная) школа. В ней обучалось 80 учащихся. В Пушкиногорском районе 17 начальных школ организовал священник Владимир Толстоухов, в Красногородском районе действовало 15 начальных школ, курировал которые священник-миссионер Федор Ягодкин[334]334
Неподкосов С. Второе крещение Руси. Деятельность Православной Миссии на оккупированной территории Северо-запада России (1941–1944 гг.) // Эхо войны: Военно-исторический журнал о Второй мировой войне. 2007. № 1. С. 36.
[Закрыть]. По распоряжению управления миссии, изданному по инициативе немецкой оккупационной администрации, настоятелям храмов вменялось в обязанность, организуя церковные школы, проводить обучение не только религиозным, но и светским дисциплинам: «Обучать сверх всего детей… правильному разумению церковных обрядов, чтению, письму и др. предметам, полезным в общежитии»[335]335
ГАПО. Ф. 1633. On. 1. Д. 1. Л. 27.
[Закрыть]. Любопытно, что взимание платы за обучение в школах, находящихся под юрисдикцией церкви, строго запрещалось, что открывало для детей широкие возможности для получения школьного образования[336]336
Там же.
[Закрыть].
В 1942 г. Закон Божий как обязательный предмет был введен, в частности, в Псковской художественной школе, его преподавал священник-миссионер Георгий Бенигсен[337]337
Неподкосов С. Указ. соч. С. 36.
[Закрыть]. В этом учебном заведении насчитывалось на 1942 г. 60 учащихся в возрасте от 17 до 22 лет. В конце 1942 г. школа закрылась ввиду того, что лица старше 12 лет, включая учащихся, были обязаны нести трудовую повинность[338]338
Там же.
[Закрыть].
Помимо школьного образования, в период оккупации предпринимались попытки создания системы профессионального образования.
Оно было ориентировано в основном на подготовку специалистов рабочих профессий и лишь в незначительной степени – интеллигенции. Характерной чертой деятельности профессиональных учебных заведений стало максимальное сокращение теоретического курса, большой объем практического обучения, в процессе которого учащиеся фактически использовались в качестве рабочей силы. Так, на территории Орловской области в период оккупации действовало пять средних профессиональных учебных заведений: Севское педагогическое училище, Унечское ремесленное училище, Севское ремесленное училище, Понуровская ремесленная школа[339]339
ГАБО. Ф. 2608. On. 1. Д. 15. Л. 260.
[Закрыть], краткосрочные курсы по подготовке агрономов. Открывшееся в 1942 г. Унечское ремесленное училище готовило столяров, плотников, бондарей, токарей по дереву. При трехгодичном сроке обучения лишь первый курс был запланирован для изучения теоретических дисциплин, после чего учащимся присваивали разряды и направляли на деревообрабатывающие предприятия для прохождения практики[340]340
Там же. Д. 2. Л. 192.
[Закрыть]. Подобной направленностью отличался процесс обучения в Севском ремесленном училище, курс обучения в котором был рассчитан на два года. 70 учащихся, распределенных по трем слесарным группам, занимались в основном практической работой – изготовлением слесарных инструментов[341]341
Севский листок. 1942. 14 октября. № 8.
[Закрыть]. Севское педучилище готовило лишь кадры учителей для начальных школ[342]342
Ермолов И.Г. Гражданский и военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской области. С. 76.
[Закрыть].
В тыловых районах группы армий «Север» была предпринята попытка соединить среднее школьное образование с профессиональным. Один из нормативных документов германского командования – записка «Расширение школьной системы», подписанная 30 июня 1943 г. начальником Генштаба группы армий «Север» генерал-лейтенантом Э. Кинцелем, направленная командованию 16-й и 18-я армий и командующему тыловым районом, указывает на недостаточность образования в объеме четырехклассной школы. Тут же обосновывается необходимость создания наряду с начальными средних школ со сроком обучения два-три года с введением в программу профессиональной подготовки, рассчитанной на один-три года. Составитель обосновывает причины такого решения, указывая на необходимость профессионального образования «в интересах достаточной предварительной профессиональной подготовки подрастающего поколения, а также исходя из общих политических соображений»[343]343
Хасс Г. Указ. соч.
[Закрыть]. В приложенной к документу записке того же Э. Кинцеля, датированной 14 августа 1943 г., говорится о создании комиссии из восьми русских учителей, на которых возлагалась обязанность подготовки программ средних школ[344]344
Там же.
[Закрыть]. Однако введение в действие профессионального образования в составе среднего не осуществилось ввиду окончания периода оккупации северной территории РСФСР.
Что касается высшего профессионального образования, оно на оккупированных территориях РСФСР так и не возродилось – ни одно из высших учебных заведений не возобновило свою работу в период оккупации. В лучшем случае на базе вузов создавались курсы по подготовке специалистов, в основном сельскохозяйственного и промышленного профиля. Так, на базе Смоленского сельскохозяйственного института открылись курсы агрономов. Лекции читали как избежавшие эвакуации профессора и доценты сельхозинститута, так и посещавшие Смоленск специалисты из Германии. Первый набор слушателей прошел двухмесячный срок обучения (с ноября 1942 г. по январь 1943 г.), затем срок обучения сократили до одной недели. В ходе обучения курсантам читали лекции о порядке землепользования, о климате и почве, о новых мероприятиях по увеличению урожайности, о задачах сельскохозяйственных управлений[345]345
Заря. 1943. 28 февраля. № 16.
[Закрыть]. Подобной реорганизации подверглись и другие вузы на оккупированной территории РСФСР, поэтому применяемый по отношению к ним в коллаборационистской печати термин «институт»[346]346
См., напр.: Дмитровская газета. 1942. 1 1 ноября.
[Закрыть] ни в коем случае не отражал действительного состояния этих учебных заведений.
Таким образом, система образования в условиях оккупации прошла эволюцию от надзора за сохранностью школьных и иных учебных помещений до активного использования образовательной сферы в интересах нацистской пропаганды. Политика оккупантов была направлена не просто на искоренение из школы коммунистической идеологии, она преследовала цель установления эффективного контроля за настроениями части населения, воспитания подрастающего поколения в соответствии с догмами национал-социализма. Необходимо отметить некоторые особенности образовательной политики. Так, наибольший охват подрастающего поколения был осуществлен начальным образованием, в наименьшей степени – основным и лишь в незначительной степени – средним. Однако нестабильность учебного процесса зачастую лишала подрастающее поколение возможности получения даже начального образования. Что касается профессионального образования, оно было направлено почти исключительно на подготовку рабочих кадров. Ввиду этого потенциал интеллигенции был лишен возможности воспроизводства, следовательно, был обречен на постепенное вымирание, что в полной мере соответствовало планам гитлеровского руководства относительно будущего народов СССР. Однако необходимо признать и тот очевидный факт, что, несмотря на различные перекосы, насыщенность нацистской идеологией и нестабильность, школьное образование в период оккупации как таковое было доступным, а школьные программы обеспечивали получение детьми необходимого минимума знаний. Поэтому коллаборационизм в области образования нельзя назвать однозначно вредным, так как меры, приведшие к деформации образовательной системы, были вынужденными и стали, по сути, необходимым условием продолжения функционирования школ и иных учебных заведений за линией фронта.
§ 3. Здравоохранение и социальное обеспечение
Здравоохранение и социальное обеспечение в условиях оккупации РСФСР стали теми отраслями инфраструктуры, налаживание и обеспечение должного функционирования которых стало следствием осознания оккупантами того, что война с СССР не стала шестинедельным блицкригом. В условиях затяжной войны немецкое командование было поставлено перед необходимостью обеспечения жизненного уровня населения, восстановления существовавшей до оккупации сети учреждений здравоохранения и социального обеспечения.
В структуру городских и районных управ в обязательном порядке входили отделы здравоохранения, иногда в структуру отделов здравоохранения входили ветеринарные подотделы[347]347
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. л. 16 об.
[Закрыть]. Первоначально в их функции входили сохранность больничных зданий, медицинского оборудования, учет кадров медицинских работников. С первой половины 1942 г., после перехода войны и оккупации в долговременную фазу, началось восстановление лечебно-профилактических учреждений по довоенному принципу. Эта задача была возложена на соответствующие органы местного самоуправления, в частности входящие в их структуру отделы здравоохранения. Однако это наталкивалось на значительные затруднения по той причине, что медицинский персонал был в большинстве эвакуирован, на оккупированной территории осталось незначительное количество врачей и средних медработников, в большинстве случаев были вывезены оборудование и медикаменты. Так, из 2627 рабочих и служащих по Почепскому району Орловской области зарегистрированы 1 врач, 14 фельдшеров, 6 акушеров, 2 медсестры[348]348
Там же. Л. 15.
[Закрыть], по Понуровскому району – 5 врачей, 12 фельдшеров, а также 6 ветеринарных фельдшеров, распределенных по трем ветучасткам[349]349
Там же. Д. 15. Л. 143.
[Закрыть]. По Торопецкому району Калининской области на 36 624 человека населения, зарегистрированных на начало 1942 г.[350]350
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 12. Л. 5.
[Закрыть], приходились 3 врача, 2 медсестры, 1 фельдшер[351]351
Там же. Д. 1. Л. 1 об.
[Закрыть]. Даже на территории Локотского автономного округа, отличавшегося более отлаженной инфраструктурой, работали 51 врач и 179 мед сестер[352]352
Ермолов И. Г. Гражданский и военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской области. С. 76.
[Закрыть]. То есть один специалист с высшим медицинским образованием приходился более чем на 11 тысяч человек населения округа.
Преодолеть кадровый дефицит не удалось в течение всего периода оккупации. Так, в докладе «Об итогах развития партизанского движения, борьбы партизан с немецкими оккупантами и положении в оккупированных районах Калининской области» от 1 августа 1943 г. констатировалось отсутствие должного количества врачебного персонала. В частности, в каждой больнице работало 2–3 врача[353]353
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 16. Л. 62.
[Закрыть]. По штату же на одну больницу или амбулаторию было положено не менее 4 врачей (хирург, терапевт, гинеколог, стоматолог), 8 медсестер, 1 аптекарь[354]354
Там же. Л. 61 об.
[Закрыть]. Подобное положение складывалось на других территориях. Так, штат считавшейся одной из образцовых Навлинской районной больницы (Локотской округ) на март 1943 г. включал 2 врачей и 6 медсестер[355]355
Речь. 1943. 26 марта.
[Закрыть].
Интересно, что при столь ощутимой нехватке медицинских работников врачи, в отличие от других гражданских коллаборационистов, имели в ряде случаев неоправданно короткий рабочий день. Так, приказ № 87 от 16 июня 1943 г. Клинцовского окружного управления устанавливал для врачебного персонала следующую продолжительность рабочего дня: для врачей больниц, врачебных медучастков и лабораторий – 6 часов, для врачей поликлиник и амбулаторий – 5 часов, для врачей, оказывающих помощь на дому, – 7 часов[356]356
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 14. Л. 56.
[Закрыть]. При таком положении неудивительно, что в последние месяцы оккупации того или иного района немало беженцев пыталось выдать себя за врачей, желая устроиться на работу в медицинские учреждения. Отсутствие на руках дипломов эти лица объясняли их утратой в условиях эвакуации. В связи с этим в пределах округов создавались комиссии, в задачи которых входила проверка квалификации лиц, заявлявших себя медицинскими специалистами. Комиссия могла дать разрешение заниматься врачебной или иной медицинской деятельностью[357]357
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 15. Л. 68.
[Закрыть]. Иногда медицинские работники, не соответствующие занимаемым должностям, по всей видимости, ввиду отсутствия специального образования, допускались к работе по разрешениям горуправ, при этом исполняли свои обязанности только под контролем врачебного персонала[358]358
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
[Закрыть].
Медицинская помощь была платной. Согласно действовавшему в тыловых районах группы армий «Центр» «Постановлению о введении платы за медицинскую помощь, оказываемую врачами», в сельской местности взималось 5 рублей за однократное посещение врача, оказание помощи фельдшером стоило 3 рубля[359]359
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
[Закрыть]. Плата за стационарное лечение составляла 20 рублей в сутки, сюда же входило питание[360]360
Там же. Д. 21. Л. 36.
[Закрыть]. Однако при этом отделами здравоохранения часто констатировалось неудовлетворительное питание больных[361]361
Там же.
[Закрыть]. Правомерно предположить, что связано это со снабжением больниц по остаточному принципу. Любопытна в этом отношении переписка бургомистра города Торопец и Торопецкого района Калининской области Николаева с немецкой комендатурой. Так, в одном из писем бургомистр просит коменданта отпустить для питания больных льняное масло и какие-либо продукты, так как у больницы нет ничего, кроме ржаной муки[362]362
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 7. Л. 35.
[Закрыть]. В другом обращении на имя заведующего отделом снабжения немецких воинских частей бургомистр Николаев пишет: «На снабжении Горуправления состоят больница и столовая для беженцев. Они получали ранее мясные отходы от убоя скота на бойне при военном городке. Несколько дней уже мясных отходов не получаем. Горуправление в критическом положении, будет вынуждено закрыть столовую и прекратить прием больных на излечение в больницу»[363]363
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 7. Л. 46.
[Закрыть].
В ряде тыловых районов группы армий «Север» не было единой системы оплаты. Так, в Кудеверьском районе Калининской области прием у врача стоил 3 рубля, у фельдшера – 2 рубля[364]364
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 637. Л. 11 об.
[Закрыть]. В иных районах плата за прием у врача достигала 10 рублей, вызов врача на дом колебался от 20 до 30 рублей, стационарное лечение обходилось в 20 рублей за один койко-день, сюда не входила плата за медикаменты и питание – больные питались своими продуктами, пользовались своим постельным бельем, плата за комиссию составляла 15 рублей[365]365
Там же. Оп. 2. Д. 16. Л. 62; Д. 22. Л. 46 об.-47.
[Закрыть]. Плата за медицинскую помощь вносилась в то волостное управление, при котором служил врач или на территории которого находилось медицинское учреждение. Получив плату, волуправление выписывало крестьянину лечебный листок, который представлялся врачу или фельдшеру. Лечебный листок был действителен 3 месяца и лишь для лечения какой-либо одной болезни. Если по истечении этого срока болезнь продолжалась или пациент заболевал другой болезнью, следовало оформить новый лечебный листок. Врач или фельдшер в обязательном порядке вносили в лечебный листок, помимо сведений о больном, данные о характере и продолжительности болезни. Лечебные листки являлись документами строгой отчетности, в конце каждого месяца они собирались и возвращались в соответствующее волуправление. Оказание медицинской помощи без лечебного листка наказывалось штрафом до 100 рублей[366]366
Там же. Д. 17. Л. 1.
[Закрыть]. Исключение составляли случаи оказания экстренной медицинской помощи, например при травмах. В этом случае лечебный листок выписывался и представлялся после прохождения курса лечения[367]367
Там же.
[Закрыть]. Медикаменты, как для амбулаторных, так и для стационарных больных, отпускались за дополнительную плату. Один порошок стоил 1 рубль, микстура несложная – 8 рублей, микстура сложная – 12 рублей, растирки и примочки – 12 рублей[368]368
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 22. Л. 46 об.
[Закрыть]. По свидетельству жительницы Брасовского района Орловской области Т.Н. Гришаевой, цены, установленные в Сусловской волостной больнице, не были обременительны для сельчан, имели скорее символическое значение. В то же время ряд медицинских услуг был труднодоступен для трудящихся, не имевших доходов от приусадебного хозяйства и живших только на зарплату. Интересное заявление подала на имя инспектора в отдел просвещения Брянской горуправы учительница школы № 2: «Я занимаюсь с первым классом. При обучении детей письму и чтению выделение звуков имеет очень серьезное значение. У меня же, благодаря отсутствию переднего зуба, звуки при выделении их получаются неправильными, что плохо отражается на деле. Прошу Вашего ходатайства перед германскими властями, чтобы мне вставили передний зуб»[369]369
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 41. Л. 313.
[Закрыть].
Полностью от платы за медицинскую помощь, в том числе за медикаменты, освобождались бойцы и командиры РОА, служащие органов местного самоуправления, работники полиции[370]370
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 16. Л. 62, Д. 22. Л. 46 об.
[Закрыть]. Лечебные листки выписывались бесплатно также лицам, признанным соответствующим волостным старшиной неимущими, а также находящимся на социальном обеспечении[371]371
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.
[Закрыть]. На территории Калининской области при несчастных случаях на производстве оплата лечения по ходатайству руководителя соответствующего предприятия могла быть отнесена на счет управы, в непосредственном подчинении которой находилось данное предприятие[372]372
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 6. Л. 80.
[Закрыть]. Однако данная система оплаты лечения касалась, очевидно, лишь работников муниципальных предприятий. На территории некоторых округов Центральной России по указанию начальников окружных отделов здравоохранения районные бургомистры могли освободить от оплаты лечения малоимущих[373]373
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 36.
[Закрыть].
Ввиду резкого сокращения числа медицинских учреждений медпомощь в период оккупации была доступна далеко не каждому. Так, в партизанском донесении в Калининский обком ВКП(б), составленном в августе 1943 г., в качестве примера приводится Себежский район, в котором до войны действовало 7 больниц, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 роддома. На протяжении оккупации работали лишь больница стационарного типа и амбулатория в городе Себеж[374]374
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 22. Л. 46 об.
[Закрыть]. Согласно той же докладной записке, 91 % населения района был лишен возможности получения медпомощи ввиду того, что поездка в город населения, проживающего в деревнях далее 5–7 км от райцентра, влекла опасность ареста по подозрению в связях с партизанами[375]375
Там же. Л. 47.
[Закрыть]. Это же косвенно подтверждается относительно небольшим количеством больных, принимаемых ежедневно. Так, по Торопецкому району Калининской области, согласно сохранившимся данным, в течение ноября 1941 г. районной больницей принималось от 12 до 15 человек ежедневно, врачебной амбулаторией – 19–35 человек[376]376
ГАТО. Ф. Р-2759. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
[Закрыть].
Подобное ограничение свободы передвижения сохранялось повсеместно. Кроме того, запрещался выход медработников за пределы райцентров[377]377
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 2. Д. 16. Л. 62.
[Закрыть]. Вместе с тем горуправы в некоторых случаях пытались разрешить данную проблему, подавая в комендатуры ходатайства о разрешении медработникам круглосуточного хождения по городу для оказания помощи больным[378]378
ГАТО. Ф. Р-2759. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.
[Закрыть]. Однако подобные просьбы, как правило, не удовлетворялись.
Сокращение численности лечебных учреждений также наблюдалось повсеместно. Обычным было положение, когда в пределах района работал один стационар и один-два фельдшерско-акушерских пункта[379]379
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 33.
[Закрыть]. Лишь некоторые районы составляли исключение, пополнившись за период оккупации врачебным персоналом. Так, в Торопецком районе Калининской области в течение первых трех месяцев оккупации, к концу 1941 г., помимо районной больницы, открылось шесть сельских медпунктов, причем двумя из них заведовали врачи с высшим образованием, одним – медсестра, тремя – фельдшеры[380]380
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.
[Закрыть]. Врачебный персонал района на начало оккупации (сентябрь 1941 г.) составлял три врача, однако в течение нескольких месяцев вырос до семи врачей, включив дополнительно санитарного врача при горуправе[381]381
Там же. Л. 10.
[Закрыть], врача-стоматолога[382]382
Там же. Л. 32 об.
[Закрыть] и двух врачей общего профиля, назначенных заведующими сельскими медпунктами[383]383
Там же. Л. 30.
[Закрыть].
Хранить у себя какие-либо медикаменты, не выписанные врачом, равно как и оказывать медицинскую помощь лицам, не работающим по медицинским специальностям, запрещалось. К виновным принимались репрессивные меры, вплоть до расстрела[384]384
ТЦДНИ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 637. Л. 11 об.
[Закрыть].
Правомерно предположить, что введение лечебных листков, строгий учет медикаментов, в том числе запрет их хранения и произвольного использования, ограничение свободы передвижения медработников служили не только дополнительным средством учета трудоспособного населения, предупреждения симуляции, а также помогали борьбе с партизанским движением, исключая оказание помощи раненым и больным партизанам.
Местами система здравоохранения страдала от необдуманных действий партизан, рассматривавших работу лечебных учреждений как сотрудничество с оккупантами. Так, согласно отчету бургомистра Мглинского района Клинцовского округа Летяго на окружном совещании бургомистров 16 ноября 1942 г., из трех больниц района партизанами было разгромлено две, спасшийся медперсонал был трудоустроен в сохранившейся больнице Мглина[385]385
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 33.
[Закрыть].
Помимо сокращения численности лечебных учреждений одной из основных проблем здравоохранения периода оккупации был недостаток медикаментов. Больницы и амбулатории получали лекарственные препараты из немецких госпиталей в ограниченном количестве. Ввиду этого больному выдавалось на руки, например, не более шести порошков[386]386
ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 33, Л. 36, Д. 637. Л. 11–11 об.
[Закрыть]. В тех местностях, где влияние германских властей было ограничено, например на территории Локотского округа, больницы и амбулатории использовали довоенные запасы медикаментов, часто с истекшим сроком годности[387]387
Ермолов И.Г. Гражданский и военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской области. С. 77.
[Закрыть]. Ввиду этого медицинские учреждения повсеместно пытались компенсировать нехватку медикаментов более широким применением отваров и настоев из лечебных трав. К их сбору привлекались школьники. В школах Брянска за качественный сбор лекарственных трав школьники, что удивительно, получали вознаграждение не только деньгами, но и водкой и табаком[388]388
Черняков Д.И. Указ соч. С. 84.
[Закрыть].








