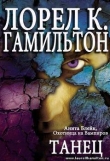Текст книги "Второй после Солнца"
Автор книги: Игорь Белладоннин
Жанр:
Историческое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
5. Нескромная омерзительность витализма + 6. Это сладкое слово – амёба
В лондонском театре «Глобус» Аркаша презентовал свой очередной (шестьдесят шестой) автобиографический роман, который так и назывался «Я № 66 или Путь вундеркинда». Почти каждый новый Аркашин роман отличался от старого лишь перетасовкой глав и абзацев, что придавало всей серии (выходившей под названием «Жизнь замечательного человека») особую прелесть как в глазах гурманов-глюковочиев, так и в глазах не столь ещё искушённых простых любителей и ценителей Глюковского слова.
Аркаша с чувством и выражениями читал страницу за страницей, причём иногда он намеренно, как бы на бис, несколько раз зачитывал одну и ту же страницу, а Ганга, изображая рок, трагически подвывала ему из-за ширмы.
Мировой бомонд внимал им с открытыми ртами, выпученными ушами и красными, полными слёз, глазами.
Аркаша кончил, Ганга кончила минут через пять после Аркаши. Зал катарсисуально молчал. Ганга вышла из-за ширмы и присоединилась к Аркаше, поминутно кланяясь залу. Наконец над вставшими дыбом париками взметнулась рука.
– Прошу, ваш вопрос! – ободрил смельчака Аркаша.
– Аркаша, в принципе жизнь ваша известна человечеству, и в том числе каждому из нас, здесь присутствующих, до последнего, извиняюсь, чиха. Так почему же мы всё равно, затаив дыхание, на грани обморока, на грани между жизнью и смертью, следим за перипетиями вашей вундеркиндальной судьбы в вашем конгениальном исполнении? – спросил Чжи Ху, герцог Орегонский и Невадский, как бы суммируя главный невысказанный вопрос всех добившихся права попасть в этот зал.
Аркаша (а хитринка так и поигрывала в уголках его глаз) прищурился:
– Всё дело в Ганге. У неё на редкость эротичный тембр. И не только тембр.
Вопрос герцога и ответ Аркаши как бы прорвали плотину, сдерживавшую у кого-то – природную любознательность, у кого-то – природное любопытство. Вопросы сыпались наперебой, и Аркаша был вынужден ограничить их число шестьюдесятью шестью. Возможность задать последний вопрос Аркаша присудил сёстрам-княжнам Иванке и Бориске.
– Аркаша, почему всё-таки для написания ряда своих ранних драматических произведений вы выбрали такой странный псевдоним: Схакеспеаре, ведь некоторые теперь путают вас с Шекспиром?! – спросили в один голос сёстры-княжны.
Аркаша моргнул и сглотнул слюну: лучистые глаза княжны Иванки явно чем-то облучали его; Бориска же сидела, потупив взор. Такие трудные вопросы Аркаша недолюбливал и сам на них не отвечал, отсылая всех не в меру любопытных к Ганге; Ганга же отделывалась от них поклонами.
Когда, удовлетворив шестьдесят семь лучших представителей человеческого рода, Аркаша с семейством (Аркашино семейство насчитывало трёх человек: Гангу и Аркашу, так как сам Аркаша считался минимум за двоих) выходил из театра в окружении экзальтированных мэров, сэров и пэров и их мэрих, сэрих и пэрих, Ганга невольно замедлила шаг. Она имела одну известную Аркаше слабость: любила засматриваться на красивые женские лица. Здесь надобно попутно отметить, что англичанки, по крайней мере, в окрестностях театра «Глобус», не все отличаются совершенной красотою.
Поэтому Аркаша, тончайший знаток всего на свете, в том числе, естественно, и женщин, не поленился проследить за её взглядом и не смог удержаться, чтобы не шепнуть Ганге:
– Какая хорошенькая брюнетка…
– Я не брюнетка, – быстро сказала брюнетка, проскользнув сквозь непролазную толпу как инфузория сквозь туфельку. – Мои волосы – тёмно-каштановые.
– Она и вправду хороша: нос, рот, губы, волосы, целых два глаза – и ничего лишнего, и всё на своём месте, – восхищённо цокая языком, отметила Ганга.
– Обратите внимание на мою грудь, – сказала брюнетка, указав взглядом, на что именно следует обратить внимание. – Она невелика, но оч-чень занимательной формы.
– Вы читаете по губам? – спросил Аркаша.
– Мысли великого Глюкова до́лжно ловить на лету, пока тутошние аборигены не затуманили их своим смогом, – туманно пояснила брюнетка, цокая языком не хуже Ганги.
– Это Ганга – лучшая, но меньшая из моих половинок, – сказал слегка польщённый Аркаша, представляя задумчиво улыбающуюся Гангу в качестве ответной любезности.
– Бросьте. Ну кто же не знает Гангу? Лучше позвольте представить меня: я – Виталия! – представилась Виталия, с явным интересом оглядывая Гангу.
– Певица? – спросил Аркаша, как будто что-то припоминая.
– Нет, я возмутительница общественного спокойствия, – отвечала Виталия, продолжая внимательно рассматривать Гангу.
– Никогда не слышал о таком занятии, – вежливо заметил Аркаша: он распознал в Виталии аферистку и тут же утерял к ней всякий интерес.
– Не переживайте. И о нём, и обо мне вы ещё услышите, – пообещала Виталия и, не прощаясь, растворилась в толпе вместе с Аркашиной запонкой.
– Пойду-ка я к реке, – шепнул Аркаша Ганге.
Ганга знала об этой его маленькой слабости: Аркаша любил смотреть на воды, не важно – движущиеся ли, стоячие ли – все они равно притягивали Аркашино внимание гораздо более, нежели любые самые приятные женские лица.
«Вылитый Альбис, где-нибудь в районе Лютерштадта8282
Лютерштадт – одно из названий г. Виттенберг, стоящего на р. Эльба.
[Закрыть]», – подумал Аркаша, глядя задумчиво в Темзу широкую.
– Вы – аквафил! – заклеймила его незаметно подкравшаяся Ганга. – У вас – опасное сексопатологическое отклонение!
– А вы лечите меня! – потребовал опасно отклонённый Аркаша. – А вы активней склоняйте меня к гангофилии!
Ненависть к серпизму-молоткизму (или сермолизму, как окрестили своё учение отцы-основатели) я впитал с птичьим молоком либерализации, приватизации и последующей стагфляции. Лишь крепкая моя продублённая всеми недостройками, достройками и перестройками кожаная оболочка сейчас мешает ей, ненависти, с рёвом прорваться наружу, но когда я умру, она отделится от моего тела вместе с последним проклятьем этому миру хитрожопых кукловодов и их недовыпоротых рабов, чтоб гневным призраком летать над Европой, смущая образцовый сон уставших от свободы розовощёких почитателей обществ всеобщего благоденствия.
А пока я не умер – режьте меня, жгите меня, варите меня в кипящей смоле, рвите меня на части, привязав за ноги к двум согнутым берёзкам – я всё равно буду кричать: «Долой серпизм! Долой молоткизм!»
Давить вас, молоткастые, где только увижу, мочить вас, серпастые, самым смертным мочением, бить прямо в рыла, в ваши тупые хамовитые рыла, бить, пока не слезет с кулаков мясо, а после этого бить костью по кости – вот ради этого и стоит ещё жить. Собственно, только ради этого и стоит жить на испоганенной, испохабленной и искорёженной вами одной шестой части суши.
Я ненавижу вас полной грудью – самой полной из моих грудей, самым остекленевшим из моих глаз, самым тяжёлым из моих кулаков, самой извилистой из моих извилин.
А вот так мог бы выглядеть мой основной инстинкт, если б я решил отделить его от себя: давить вас и блевать от вас, мною раздавленных, как блевал я в детстве, обожравшись мёда, от одного его только запаха. Но я подавляю такие инстинкты в зародыше, чтобы не мешали они выполнять предначертанное.
По возвращении в Квамос у родного подъезда Аркашу с Гангой поджидал маленький, хотя и не совсем нежданный сюрприз в лице коммуниста Павла Волгина и его плаката «Вундеркинд Земли Русской, хватит унижаться перед западом!»
Увидев Аркашу, Павел вслух повторил свою мысль, изображённую на плакате, и также добавил ещё одну мысль, на плакате не уместившуюся: «Аркаша, вы – Гений Земли Нашей, так хватит пресмыкаться перед ними, хватит вымаливать у них подачки!»
– Павлуха, брат мой, понимаешь, во звезде! – приветствовал коммуниста Аркаша, потрепав его за пионерский вихор. – Грешен, вымаливал, каюсь. Но готов сейчас же исправиться – а ты готов ли вдарить со мною вместе из обоих наших стволов уничтожительной критикой по Дядюшке Сэму и его старшему, но меньшому родственнику, Джону Булю8383
Джон Буль – прозвище типичного англичанина.
[Закрыть]?
– Всегда готов! – гордо ответил Павел и вскинул руку в пионерском салюте.
– Я знал, что найду в тебе союзника, – обрадовался Аркаша. – Проходи, Павлуша. Мы их сейчас!
– Да нет, – стушевался Павел. – Вы с дороги, вам бы нужно, наверное…
– Ну и не надо, – ещё больше обрадовался Аркаша. – Тогда в другой раз, но приходи уж точно. Единственное, – радостно хихикнул он, вспомнив Гангины обвинения в аквафилии, оставшиеся пока неотмщёнными, – не окажешь ли ты мне любезность, не поведаешь ли Ганге, кто есть такие, гой еси, коммунисты – а то она меня, понимаешь, вопросами замучила.
Ганга показала Аркаше кулак: она слышала этот монолог Павла Волгина не раз и не два, но Павел уже вдохновенно трындел:
– Коммунисты – они хорошие, потому что они – за народ, они – за правду, они – против угнетения человека человеком. Настоящий коммунист не пьёт, не курит, не сквернословит, имеет с женщинами исключительно товарищеские отношения, не пользуется предметами, изготовленными в странах капитала, где существует эксплуатация человека человеком…
– Вот видишь, – попенял Аркаша Ганге, воспользовавшись поводом прервать Павла и попрощаться с ним взмахом руки. – А ты меня сексуально эксплуатируешь, как изготовленного в стране капитала, хоть и имеешь с женщинами исключительно товарищеские отношения – я надеюсь.
Ганга надулась: она посчитала это намёком на отсутствие в их семье какого-либо прогресса в сфере деторождения. Да, был у неё такой пунктик, и он имел под собой основания.
«Одно беспокоит нас! – говорили Аркашиной семье люди – а все они были крайне озабочены проблемами вундеркиндовоспроизводства. – Что нет у вас, как-никак, наследника!» «Не пришла ещё пора, – отшучивался Аркаша. – Молоды мы ещё детей заводить». Иногда он апеллировал при этом к хорошо этому народу известному и понятному дедушке Ленину, который тоже был, вроде, бездетен, но люди шептались насчёт бесплодия Ганги, так как чудовищная плодовитость Аркаши во всех сферах приложения его гения была хорошо известна землянам.
Даже во сне мне нет покоя от вас: я давлю и блюю, давлю и блюю, давлю и блюю. Но я просыпаюсь. Пора. Труба зовёт.
Вот идёт колонна красножопых (они любят ходить колоннами, так уж они привыкли). Я придаю лицу агрессивно-идиотское выражение, сажусь в ящик с протухшими помидорами (отчего задница моя приобретает искомый алый цвет) и, отряхиваясь, вливаюсь в этот авангард человечества. Я радостно сморкаюсь в рукав, я заразительно рыгаю чесноком и этими двумя подвигами вызываю одобрительное шипение сотоварищей. Я – свой среди ящерочеловеков, таких же редкостных уродов, как я. Вот мой портрет, зацените: голова в форме редьки, венчаемой русой проплешиной; несимметричный ряшник: правая скептически-рациональная часть с опущенным глазом и приподнятым уголком рта противостоит левой вздорно-героической половине со вздёрнутой бровью и прямой линией рта; два безумных глаза: один – косой, но широко открытый (левый), другой – кривой и узкий (тоже теперь левый). Боже, как земля ещё носит такого урода? Зато чем не сермолист?
И вот я в колонне красных, и замысел мой чёрен, и мысли мои краснеют от адской своей черноты.
– Каждому вору – по фонарю! – дружно кричу я.
– Каждому вору – по фонарю! – поддерживает меня сотня глоток.
– Как зовут тебя, хороший человек? – спрашивают меня.
– Иудушка, Гапонов, – отвечаю я без запинки.
– Держи пять, – суют они мне отовсюду свои заскорузлые пять, шесть, четыре, три, два, один. – Гапонычем будешь, – сообщают они мне, пока я терпеливо пожимаю их пять, шесть, четыре, три, два, один.
– Буду, ещё как буду, – обещаю я.
Наши души уродливы, как уродливы наши тела – но такими нас сделала ты, Власть, мигалочными кортежами проносящаяся мимо нас уже который десяток лет.
– Из «Мерседеса» – да на столб! – дружно кричу я.
– Из «Мерседеса» – да на столб! – повторяет за мной сотня глоток.
– Слышь, Гапоныч, – говорят мне, – ты давай, ты – молодой, головастый, хороший – ты продвигайся вперёд, к Витюше, будешь ему заместо помощника.
Мы идём вдоль границы ботанического сада МГУ, выполняя Витюшину, очевидно, команду «Левое плечо вперёд!» (хотя у настоящего сермолиста любое плечо – левое). Так, вероятно, и будем ходить по кругу, пока кто-нибудь не обратит на нас внимания, или какой-нибудь особо древний товарищ не выпадет из рядов по естественным, как говорится, причинам.
Меня продвигают вперёд, и я вижу Витюшу в красной кожаной куртке. Витюша оборачивается, его лицо мне знакомо – оно мелькало на телеэкранах. Витюша настороженно смотрит на меня. Он – гуру, он – вожак стаи, он – главный самец всех этих полоумных старух. Соперник ему ни к чему. Физиономия его премерзка – это, конечно, ему в плюс, однако, и я не лучше.
Рассеять опасения сограждан по данному – деторожденческому – вопросу, а также ряду других, менее значимых вопросов, должно было Аркашино интервью одному из центральных российских телеканалов. Телевидение всегда уважало Аркашу:
– Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, Аркаша! – говорило оно обычно.
Выйдя из дома, чтобы ехать в Остан-Кино, Аркаша снова увидел Павла.
– А где же новый плакат? – поддел его Аркаша. – Не поспеваешь намалёвывать?
– Да, прости, не успел, – согласился Павел, и его красные от ночного боренья глаза сверкнули малиновым светом. – Я работал в ночную, я точил гайки. Я работал, ночью, теперь вот заступил на общественную вахту – но другие-то не работают! Скажи им на всю страну – так же нельзя: на одного меня с сошкой – семеро с ложкой!
– И кто эти семеро? Извольте немедля перечислить! – потребовал Аркаша, заподозрив, грешным делом, что один из семи, если не все семь – это он сам, Аркаша.
– А то ты не знаешь? Ты же знаешь всё! – запальчиво крикнул Павел.
Аркаша, действительно, знал их, причём, их было не семеро, а гораздо больше – одних только порядкоблюстителей насчитывалось четыре или пять разновидностей, а ещё были чиновники, таможенники, попы, поэты…
Вундеркинд, конечно, торопился: его ждали миллионы в прямом эфире, но решил всё же потратить пару минут на одного из них, из этих, из миллионов – поведать Павлу новый кусочек истины. Так, понемножку работая над Павлом, обтёсывая его с разных сторон, Аркаша каждый раз придавал некую дополнительную объёмность его изначально плоскому как правда образу.
– Они не только с ложкой, но и с поварёшкой, – поведал Аркаша свой новый кусочек истины. – Это – работники сферы обслуживания, они ведь тебя обслуживают: они в тебя не стреляют, хотя могут – и запросто, не отнимают твоё имущество в особо крупных размерах – хотя могут и это, не запрещают тебе работать, даже не штрафуют тебя лишний раз – и за такой ароматный букет услуг они требуют от тебя самую малость: делиться. По росту занятости в сфере обслуживания и по сокращению численности стоящих с сошкой у разного рода станков судят о прогрессе в экономике нации – и мы прогрессируем очень бурно!
– К чёрту прогресс! – завопил Павел. – К стенке! К стенке через одного! Чтоб не мешали жить! Развели их твои демократы на наши головы! Да с ними не то, что коммунизм – феодализм не построишь!
– На первый-второй рассчитайсь! – скомандовал Аркаша. – Первый! – Аркаша, естественно, начал расчёт с себя. – Ты – второй, давай-ка к стенке, чтоб не мешал мне здесь жить своими истошными воплями.
– Да мои-то вопли как раз не истошные, а вот чьи-то будут реально истошными! – взвился задетый Павел – как алый стяг над покорившимся городом.
– Спокойно! – потребовал Аркаша. – Ты, который с сошкой, ты у нас что – совесть нации? Тогда где твой сертификат? Феодализм он тут, видите ли, недостроил! Его и без тебя достроят. А прогресс тебе всё равно не остановить! Иди лучше проспись! – бросил он Павлу напоследок из окошка своего монструозного лимузина (выпущенного по эскизу Аркаши в виде томика Глюкова) с зелёной мигалкой.
Я не люблю, когда ходят строем: я не могу ни идти в строю, ни пойти против строя, ни пройти сквозь строй. Для первого я слишком самобытен, для второго – пожалуй, слабоват, для третьего – рационален не в меру. И меня ожидаемо начинает мутить от себя-красножопого, от Витюши и от витюшинцев.
Я догоняю Витюшу и кладу руку на красное кожаное плечо.
– Верной дорогой идёте, товарищ, – заверяю я.
– Вы думаете? – не очень уверенно спрашивает он.
– Идёте брать Центробанк?
– Нет, мы просто гуляем, просто гуляем на свежем воздухе – это полезно.
Да он остроумен!
– А кто же будет брать почтамт? Телеграф? Мосты? Вокзалы? Дедушка Троцкий? – горячо, в порыве революционного энтузиазма, интересуюсь я.
И всё-таки я остроумнее.
– Вокзалы? – переспрашивает он. – Но революционный момент ещё не вызрел.
– Я боюсь, он уже перезрел, – возражаю я, – и скоро он совсем сгниёт, ваш момент. А ведь с такими бойцами, – я обвожу рукой наш старушечий батальон, – можно брать хоть Кремль, хоть Горки-9. Взяв же Горки, вы автоматически становитесь президентом, а я – так и быть, стану премьером при вас.
Витюша мнётся:
– Премьера я уже обещал.
– Ладно, мне хватит и первого вице, – миролюбиво соглашаюсь я.
– Может, всё-таки лучше начать с моста или вокзала? – осторожно спрашивает Витюша. – Чем с Кремля? И тем более с Горок?
Я смотрю на него с восхищением: он рождён для великих дел.
– Вокзал – это будет сильно, – отвечаю я, – это будет вызов, это будет самый сильный вызов режиму за всю эпоху. Савёловский? Рижский?
Витюше больше по душе Рижский («Оттуда можно двинуть на Ригу, где угнетают наших собратьев», – доходчиво объясняет Витюша). Очевидно, ему мало наших, отечественных буржуев, он должен сразу сразиться со всем миром зла.
– Сила есть, знание есть, вера есть, вокзал есть. Почему же он до сих пор не взят? – сурово вопрошаю я.
Витюша пытается оправдаться тем, что вокзал до сих пор был не нужен.
– Это вокзал-то не нужен? – с лёгким недоумением спрашиваю я. – Классиков надо читать почаще!
Классики добивают последние Витьковы сомнения.
– Идём прямо сейчас? – вскидывается он, загоревшись яркой красной звездой.
– Сначала выработаем план, проведём рекогносцировку, устроим маёвку, – остужаю я его почти юношеский задор.
– Маёвку – осенью? – изумляется Витюша.
– Ну не тянуть же до зимы? – изумляюсь уже я.
Похоже, Витюшу так увлекли идеи составления плана штурма вокзала и осенней маёвки, что он решает через мегафон досрочно распустить своё войско.
– Спасибо, товарищи, – темпераментно, захлёбываясь слюной, вещает Витюша, – сегодня мы утёрли нос этим сытым гадам, этим кровопийцам трудового народа! Сегодня мы приблизили светлый миг нашей победы, сегодня враг увидел, как мы сильны и сплочённы! Сегодня враг задрожал! Завтра враг побежит! Послезавтра он запросит пощады! Но пощады не будет!
– Пощады не будет! – повторяет сотня стариковских глоток.
– Аркаша, вот вы – величайший из когда-либо живших на Земле людей, – так начал интервью с Аркашей телеведущий – тоже, впрочем, достаточно великий – как и любой, достигший звания телеведущего.
«А ведь он прав, шельмец, – вслух подумал Аркаша. – Ишь, как режет, шельмец, правду-матку!»
– Продолжайте в том же духе, – подбодрил он ведущего. – Я слушаю, мне кажется, пока вы не отошли далеко от истины. Отклонитесь – я вас поправлю.
Телеведущий зарделся от Аркашиной похвалы.
«Он ещё может смущаться? – с удивлением подумал Аркаша уже не вслух. – Выходит, не совсем он ещё конченый, хоть и ведущий?»
– Тошно мне, один я планетарного масштаба вундеркинд на Земле – вот вам ещё одна истина, ещё один маленький кусочек истины, – неожиданно признался он прямо в прямой эфир. – Где вы, вундеркинды, братья мои, ровные мне, кому мог бы я передать эстафетную палочку служения человечеству?
– Позвольте, позвольте, позвольте сразу к вопросам! – закудахтал телеведущий, ошарашенный страшной бездной раскрывшейся перед ним истины.
Аркаша сумрачно кивнул:
– Давайте, сейчас всё вам выложу: про наследников, про зачатие, про плодовитость, про дедушку Ленина…
Но телеведущий достал «Таймс», на первой полосе которой был помещён снимок Аркаши в Британском музее носом к носу – вернее, к дырке от носа – с черепом неандертальца.
– Позвольте узнать, что вы думали в этот момент? – задал он достаточно оригинальный вопрос.
– Сами придумали вопрос? Хороший вопрос. «Знал ли он обо мне? Думал ли обо мне?» – вот о чём размышлял я, глядя на этот череп, – честно признался Аркаша.
– То есть, вы задавались вопросом: читал ли он вас? Любил ли он вас? – опошлил Аркашину мысль ведущий. – Хорошо, очень, очень хорошо, мы надеемся, да, все мы надеемся, что он, конечно же, вас читал и, конечно же, он вас любил, как все мы, земляне! Теперь позвольте – вот я выбираю наугад из этой огромной кучи вопросов – ага, вопрос телезрительницы. «Когда вы под известным всему миру псевдонимом писали свои знаменитые трагедии так называемого английского цикла – что вы, Аркаша, ощущали?» – спрашивает наша смелая телезрительница из города … Алпатьевска!
– Во-первых, я отправлялся прямо на место – в Верону, в Хельсингёр, в Фамагусту, в замок Кавдор8484
В Хельсингёр, в Фамагусту, в замок Кавдор – в этих местах разворачивалось действие трагедий Шекспира: соответственно, «Гамлета», «Отелло» и «Макбета».
[Закрыть], в Венецию – чтобы пощупать, попробовать на вкус, обнюхать, а в какой-то даже степени и обозреть все те места, которые решился описать, – ответил Аркаша, зевнув; ему надоело отвечать на этот вопрос. – Во-вторых, я ощущал себя там длинноволосым усатым англичанином эпохи Возрождения в камзоле с преогромным воротником.
– Блестящий ответ! – восхитился телеведущий. – Теперь вопрос от меня, если позволите, мы будем их чередовать: из кучи, от меня, из кучи, от меня… Конфликт в так называемом Соково. Как вы полагаете, нам нужно ввязываться в этот конфликт или лучше оставаться в стороне?
– Да, – сухо ответил Аркаша.
Телеведущий закашлялся, но не рискнул развивать тему. Вместо этого он прибегнул к маленькой мести, снайперски выудив из сотен тысяч вопросов не самый для Аркаша приятный:
– Второй вопрос из кучи: «Аркаша, как вам в ваши-то годы в вундеркиндах-то живётся-поживается?» – не без ехидства спрашивает безрассудно отважный телезритель из посёлка … Супонево!
– Я же не просто вундеркинд, я – вундеркинд Земли русской, а земля наша русская всегда была и вечно пребудет – и я всегда пребуду для неё бесконечно юным – на её-то фоне – и столь же бесконечно талантливым! – спокойно отвечал Аркаша. – Всё. Интервью окончено, мне надо идти. Мне невтерпёж, я иду искать братьев по разуму, которых здесь не наблюдаю. А про зачатие сами чего-нибудь наплетите.
Его и раньше называли «вундеркинд-переросток».
– Ну да, – посмеивался тогда Аркаша, – я – вундеркинд довольно зрелый.
– Аркаша, вы самый зрелый из когда-либо живших на земле вундеркиндов, – пеняли ему иногда не самые воспитанные из землян.
– Я юн душой, – отвечал на эти гнусные поддёвки Аркаша, – хотя, может быть, уже и состоялся как вполне зрелый мыслитель.
– Один только ещё вопрос – от себя лично! – взмолился телеведущий: ох, как он пожалел, должно быть, о своей так некстати приключившейся мести. – А мог бы, например, вот я стать вундеркиндом?
– Таких не берут в вундеркинды! – на ходу весело ответил Аркаша.
Последним, что запечатлели студийные телекамеры, был Аркашин ботинок, летящий в кучку папарацци, карауливших вундеркинда у дверей студии.
Выходя из телецентра в одном ботинке, Аркаша вместо братьев по разуму, толпы поклонников или хотя бы журналистов был неожиданно атакован безногим нищим.
– Вот вы, Аркаша, – вы знамениты, хороши собой, богаты, знатны, а я – ничтожен, нищ, я мерзок даже самому себе, так подайте ж мне копеечку, подайте! – так говорил Аркаше безногий нищий, разъезжая вокруг него на своей тележке.
– Брат мой, сын мой, отец мой! На, возьми мою славу, забирай мой талант, наслаждайся моей родовитостью, но копеечку – не трожь! Не трожь копеечку! Ибо нажита она честным трудом – и не вам, не вам тратить мою копеечку! – отвечал Аркаша нищему почти по-волгински: он вдруг вспомнил, что забыл исполнить Павлов наказ.
Мы с Витюшей и парой стариканов идём на его конспиративную квартиру. Витюша возбуждён, стариканы еле поспевают за нами. Квартира недалеко, в Марьиной Роще. Закрыв за нами конспиративную дверь, Витюша прыгает на меня сзади.
– Хватайте его! – кричит он стариканам. – Это – провокатор!
Я не сопротивляюсь. Ведь он прав.
– Кто подослал тебя? Чуйбарс? Березковский? – начинает допрос Витюша.
– Сам Книлтон – мелковато берёшь, – сразу раскалываюсь я, будучи не в силах противостоять правоте его дела.
Витюша лучится от удовольствия: его лучшие подозрения оправдываются.
– Врёшь, собака, – мягко произносит Витюша.
– Вру. Собака, – снова раскалываюсь я.
– С виду – вроде наш, да вот внутри – с гнильцой. А гнильца – она народом чувствуется, народу она видна, от народа не спрячешься, – задумчиво говорит Витюша.
– Как есть весь прогнил, – подтверждаю я.
Витюше нравится моя откровенность.
– Так ты от Бандюганова? – внезапно доходит до Витюши эта простая как правда мысль.
– Почти от Бандюганова, – отвечаю я, выдохнув с явным облегчением.
– Бандюганов – ренегат, – перекосившись, сообщает Витюша, – только и умеет, что шпионов подсылать. Но ты вроде не дурак, сам можешь проинтуичить, чья возьмёт. Хочешь работать на народ, на будущее?
Как же такого не хотеть?
– Так я принят в Организацию? – с надеждой спрашиваю я.
– С испытательным сроком, – строго отвечает Витюша. – Выдержишь – сам напишу тебе рекомендацию.
– Тесно мне. На волю хочу! – сообщил Аркаша, возвратившись домой. – Отпусти меня, Ганга, на волю!
– Изволь, – улыбнулась Ганга, отворяя балконную дверь.
Аркаша погрозил ей на это пальцем.
– У меня гнусное настроение, – буркнул он. – Сначала этот Павлуша со своими сошками, потом я был зрелищем и чуть было не стал хлебом, поэтому я требую уже у тебя хлеба и зрелищ.
– Я готова, – улыбнулась Ганга, – и накормить тебя, и станцевать. Хочешь танец живота? Или танец попки?
– Накормить-то ты меня накорми, – отвечал Аркаша, – но зрелища мне сейчас нужны другие. Мне нужно что-нибудь помощнее, подраматичнее. Мне нужен бой гладиаторов-тяжеловесов.
– Я поняла, что ты задумал, – улыбнулась Ганга. – Постарайтесь хоть на этот раз разойтись без крови.
– Постараемся, – буркнул Аркаша, рассчитывая как раз на обратное, и набрал номер Павла Волгина.
Партия, предводительствуемая Витюшей, внешне мала. Собственно, те бабульки с дедками, которых я видел сегодня, эту партию и исчерпывают. Но Витюшина партия берёт не количеством, а качеством. «Я – мал, да вонюч», – говорит Витюша и испытующе смотрит на собеседника. Витюша ожидает, что собеседник с жаром опровергнет оба его утверждения и, как правило, дожидается.
– Да, нас немного, – говорит Витюша, пытаясь пронзить меня своим взглядом раненого кролика, – но мы берём не количеством. Наша сила – в исторической правоте нашего дела. И что бы вы там ни тщились доказать, – Витюша тычет в меня указательным пальцем, – после капитализма неизбежен социализм, так же как после семёрки неизбежно следует восьмёрка.
– Я так понимаю, – говорю я, – что вы оттачиваете на мне своё ораторское мастерство, и мне в дискуссии предстоит играть роль прихвостня олигархов или, по меньшей мере, ревизиониста. Я не согласен. Так дело не пойдёт.
– Помни об испытательном сроке, – остужает моё искреннее негодование Витюша. – Твоё будущее – в моих руках.
Он снова тычет в меня пальцем:
– Мы возьмём вокзал, и после этого ваша власть рухнет сама. Она упадёт, как яблоко, изъеденное червём.
Я молча проглатываю это оскорбление. Это – не моя власть. Такая власть мне не нужна – как и Витюше.
Павел Волгин носил хорошее, правильное имя и имел соответствующее ему хорошее, правильное лицо. С этим лицом он работал токарем на заводе имени Ильича. Работая токарем на заводе имени Ильича, он приносил пользу Родине путём производства для неё продукта.
Досуг его был не менее напряжён, чем рабочие часы или стояние на общественной вахте. Он изучал английский – язык зажравшихся буржуа и хорошо прикормленных рабочих. Язык этот приходилось учить для общения с единомышленниками всех стран, хотя с гораздо большим удовольствием он выучил бы шотландский, эскимосский, зулусский, ирокезский или язык другой угнетённой капиталом народности.
Он избегал женщин, он вступал с ними лишь в товарищеские отношения.
Зато на подоконнике, в зарослях кактусов и алоэ, были пристроены тисочки. С помощью этого приспособления Павел ежедневно тренировал свою волю. Он зажимал свой левый мизинец, излюбленный палец пророков, до такой степени, что палец синел, а потом чернел, но Павел только улыбался да скрипел зубами. Враги рабочего класса могут пытать его сколько угодно их чёрным душонкам – он встретит улыбкой любую боль.
Он отжимался от пола на костяшках пальцев, на тыльных сторонах кистей до появления перед глазами красных кругов. Он приседал, прикусив язык, пока не ощущал во рту солёный вкус крови.
И всё равно он думал: «Какая же я мелкая ничтожная личность по сравнению с титанами прошлого – Спартаком, Робеспьером, Разиным, Мюнцером, Туссен-Лувертюром!»
Он презирал суеверия всей силой просвещённого истматом и диаматом8585
Истмат и диамат – соответственно, исторический и диалектический материализм; были разработаны классиками марксизма-ленинизма.
[Закрыть] презрения: если сегодня он вставал с левой ноги, то завтра мог встать с правой или с обеих сразу.
«Жрите своих рябчиков, господа новоявленные нувориши, но знайте, что мировая социалистическая революция снова начнётся с России!» – повторял Павел, как заклинание. Это было одно из любимых его изречений, по силе, как он считал, уступающее только отдельным Глюковским строкам.
Я на время погружаюсь в себя, но моя дискуссия с Витюшей продолжается – мысленно.
«На свете нет ничего более гнусного, чем Наша Власть. Она как амёба накрыла всю нашу огромную прекрасную Родину. Это – простейшее, но прожорливое животное. Вспомните картинку из учебника биологии: когда амёбе хочется кушать, а кушать она готова всегда, она обволакивает жертву – и жертва, не сумевшая даже дёрнуться, оказывается засосанной и высосанной», – говорит Витюша – примерно так или чуть более выспренно.
Он продолжает:
«У Нашей амёбы три классических признака:
первый: вы зависите от неё, вы у неё на крючке;
второй: вам приходится с ней делиться, чтобы крючок не загнали поглубже;
третий: она не производит ничего полезного; напротив, перераспределение, потребление и уничтожение добавленной стоимости – вот то, что она освоила в совершенстве».
«Хорошо, – возражает какой-нибудь Невитюша. – Она – конечно, амёба, но она – Наша амёба!»
И тут Витюша сражает его наповал:
«Дык зачем она такая нужна, эта Наша амёба, которая только мешает жить, которая вынуждает жить так, чтоб было хорошо только ей? Которая облагает поборами и просто налогами – и их она считает своей законной добычей, она покупает себе на них бронированные Мерсы, ставит мигалки – и спихивает тебя же, Невитюшу, в сугроб. На твои деньги она строит себе дворцы раблезианских размеров за заборами с колючей проволокой, за которые тебя и на дух не пустят. На твои деньги она заказывает себе лакшери-туры с лакшери-сьютами, в которые тебе нету входа – презрительным движением плеча швейцар укажет тебе твоё место. На твои деньги она организует себе охрану, и эта охрана защищает её от тебя – как бы насильника и убийцы в седьмом колене».