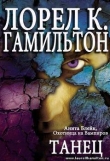Текст книги "Второй после Солнца"
Автор книги: Игорь Белладоннин
Жанр:
Историческое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– А вы, друзья, как ни рядитесь – всё в вундеркинды не годитесь! – насмешливо рокотал Аркаша с высоты своего величия.
Но бумагомарателишки всё равно тщились приобщиться к вечному и совершенному. Порой им даже начинало казаться, что они прозревают.
– Каждое слово должно бить током с напряжением никак не менее десяти киловольт, – терпеливо учил их Аркаша, – каждая фраза должна писаться как лучшая и последняя в вашей неудавшейся жизни, каждый абзац должен сверкать как глаза глядящей на меня женщины. Всё равно ничего у вас не получится, но хотя бы знайте, что должно было б у вас получиться, будь вы хоть чуточку мною!
Выждав, пока расползётся по кустам в поисках заблаговременно развешанных там верёвок и кусков мыла первый эшелон «коллег», раздавленных невыносимой тяжестью своей ничтожности, Аркаша продолжал занятия с отстающими:
– Вы пишете пастой или чернилами, я же пишу кровью, замешанной на моче и сперме. Да, запах ужасен, но сила воздействия превосходит и силу тяготения, и все прочие силы земные, позволяя читающему меня воспарять аж к звёздам!
– Аркаша, а как вы относитесь к тому, что вас опять прокатили с Нобелевской премией? – сочувственно/ехидно кричали ему, бывало, снизу прилипучие репортёришки.
– Это – проблема Нобеля, не моя. Вон, Сервантес с Шекспиром обходились как-то без вашей премии, а я и тем более обойдусь! – отвечал Аркаша, разгонял репортёришек и возобновлял уроки.
Он знал, что занятия эти бесполезны: рождённый квакать рычать не может, но продолжал свой изнурительный труд – иначе он не был бы Аркашей.
– И на хрена нам это надо – стараться, писать там что-то, – говорили друг другу незадачливые бумагомаратели из числа не допущенных Аркашей до занятий в связи с недобором намаранного. – Всё равно Глюков напишет больше и лучше, всё равно издавать и читать будут Глюкова, а не нас.
И целыми толпами уходили писатели из писателей в люди, в горы, в народ, в пампасы.
А за томиками, под томиками и на томиках Глюкова мастурбировали прекрасные панночки и знойные сеньоры, добропорядочные фройляйн и легкомысленные мамзель, эти томики таскали с собой покорители восьмитысячников и океанских глубин, открыватели месторождений золота и редкоземельных металлов, разносчики пиццы и благих вестей.
Аркаше приносили в жертву честь и доброе имя, фамильные имения и состояния. Все жертвы, даже самые маленькие, Аркаша принимал весьма тактично и не без благодарности.
Достаточно было переписать любое произведение Глюкова восемь раз – и приходило счастье (Аркаша и сам неоднократно ставил на себе подобный эксперимент).
Самим фактом своего явления в приличном и даже не очень приличном обществе такая вот Пристипома предлагает на продажу свой главный товар – себя, упакованную в соответствующее её классу шмотьё.
«Я – дорогой, я – штучный товар. Купи меня, я стою твоей любви!» – всем своим видом говорит Пристипома сразу нескольким перспективным покупателям – членам того самого общества.
«Я дорогой товар, тебе не по карману», – говорит её вид всем прочим.
«Куплю любую, но любую покупать не хочу», – сигнализируют ей первые всеми своими достоинствами, которые они и не думают скрывать.
«Пода-айте, кому не жалко», – написано на вторых и сверху вниз, и снизу вверх, и справа налево, и слева направо. И кто-то ведь интересуется и такими вот классифайдами.
Каким образом, на какой гигантской бирже происходит в итоге купля-продажа – ведь она же всё-таки происходит?
Но это теория, более развёрнуто во всей своей неземной красе изложенная в том самом седьмом томе ПСС Самогрызбаши. А вот какой товар мне предложит Пристипома у себя дома, насколько мне будет нужен этот товар, и не ценнее ли товар, предлагаемый мною в порядке бартера, Пристипоминого залежалого товара, а если ценнее, то насколько, и какую доплату с неё требовать с учётом выданного мне аванса, и не сунется ли кто-нибудь за своими комиссионными – эти вопросы волновали меня по дороге из «Съешь себя сам» гораздо больше всяких теорий.
Немало времени Аркаша проводил в книжных магазинах, добрая половина площадей которых была заставлена его творениями. Великая душа Аркаши требовала великой же пищи.
Он листал, прицениваясь, какой-нибудь из своих романов, и на расспросы возбуждённых покупателей: «Скажите, где у вас тут Глюкова дают?» отвечал, швыряя роман им под ноги: «Глюков? Да зачем он вам? Я бы этого прохвоста и даром не взял». После столь вызывающих слов любой на месте Аркаши немедленно был бы бит – да ещё с пристрастием, но его почти сразу же узнавали, в какие бы немыслимые наряды и личины он ни рядился, и застывали с распахнутыми ртами, глазами и душами и развешанными ушами.
Мировой антимонопольный комитет (ему хорошо проплатили, были известны и заказчики этой гнусности) додумался обвинить Аркашу в монополизации литературного рынка: доля Аркашиных произведений в общем объёме мировой литературной продукции в отдельные годы превышала девяносто процентов.
– Я согласен, – отвечал на эти обвинения Аркаша, – делите. Можете разделить меня на две, на три части – и каждая будет писать – и как писать! Режьте, да не стесняйтесь: таким как вы не к лицу стеснение! Но ограничить мой гений лимитом печатных листов в минуту вам всё равно не удастся – легче укротить ураган.
Аркаша же занял первые три места в международном конкурсе МинОбров3333
МинОбров – сокр. от министерств образования.
[Закрыть] на право написания учебника-биографии «Четыреста уроков у Глюкова». И тут же преподал миру очередной урок, вошедший в учебник-биографию под № 401: добровольно отказался от первых двух мест в пользу последующих лауреатов.
Под крышей Пристипоминого дома я опять заскучал и расстроился: я обнаружил очередную родинку, проступившую на этот раз на бедре. И тут же решил, что Пристипома тоже должна почувствовать, каково это – заскучать и расстроиться под крышей её дома.
– Как-то это всё получилось неинтересно, – протянул я, претворяя своё решение в жизнь. – Ты должна была бегать за мной, если не по городам, то по весям, ты должна была буйно преследовать меня своим непомерным желаньем. Я люблю, когда женщины домогаются меня, а я обливаю их ушатом своей непоколебимой праведности. Я ценю таких женщин; рано или поздно я выхожу за них замуж.
– Вы – негодяй, Глюков, это написано в вашем ходатайстве о награждении званием внучки-героя – я читала это ходатайство! – сокрушила меня Пристипома своей информированностью, и я опять скис. – Так что будьте добры – раздевайтесь без лишних слов. Будем знакомиться.
Я подчинился. А что мне оставалось делать? Назвался куром – полезай во щи.
В любой из пар кто сверху – тот мужчина. Тот, кто снизу, становится его женщиной. На этот раз мужчиной был я.
– Возьми меня! Возьми меня силой! – кричала Пристипома, нервно ощупывая ватные клубки моих так называемых бицепсов.
– Я возьму тебя слабостью. Моей половой слабостью, – попытался я её успокоить.
– Это – изнасилование! – закричала она. – Люди! На помощь!
– Не надейся, дура. Ну кому ты нужна?
– Это – изнасилование, – прошептала она, – меня наконец-то насилуют! Помогите ему! Помогите же ему кто-нибудь совладать со мной!
– Да, это – изнасилование, – подтвердил я, – в гнусной форме. В форме равнобедренного эллипсиса.
– Это – изнасилование, – повторила она. – О, Боже! За что? За мою доброту?
– Вы ошибаетесь, – возразил я. – Вам померещилось. Перекреститесь.
– Ну давай же, давай, – потребовала она, – насилуй меня, как зверь – жестоко и страстно!
– Не дам, – сказал я, с внутренним содроганием глядя сверху на её тощее скукоженное личико. – Не могу, я – не робот. Я не хочу тебя, ты мне противна.
– Увези меня из этой злобной страны! – вскричала Пристипома, выскользнув из-под меня в состоянии крайнего возбуждения. – Туда, где тепло и чисто, где женщины изнеженны и томны, как я!
– Давно пора, собирайся, – с энтузиазмом откликнулся я. – Мы возьмём с собой лишь нашу честную способность к труду да чувство гордости великороссов.
– А муляжи отеческих гробов? Нет, не смей, не смей предлагать мне этого! Я хочу умереть на Родине, я хочу завещать Родине своё тело, я хочу, чтоб всё новые поколения наших юношей наслаждались его совершенными заформалиненными формами! О, как ты бессовестен, как безнадёжно ты бессовестен! – выплюнула в меня Пристипома и забилась в рыданиях.
Вы потерпели бы неудачу, попытавшись описать Аркашину внешность, Аркашин голос. С зулусами он мог быть зулусом, с пигмеями – пигмеем, с масаями – масаем. Заснув таким вот утонченным красавцем-брюнетом, он мог проснуться уже рыжим и конопатым, но всё равно обаяшкой. Каждый раз он был иным, и каждый раз – тем же, великим.
– Хотел бы я встретить человека, который не узнал бы меня, – ворчал порою Аркаша.
Ворчал не зря, так как его можно было опознать уже по одной фигуре, которая была в два-три раза крупнее фигуры среднего писателя и в пять-шесть раз – среднего читателя. «Чем крупнее писатель, – объяснял Аркаша, – тем он крупнее». «И наоборот», – дополнял затем Аркаша своё объяснение.
В манерах его застенчивость и великодушие всегда гармонично сочетались с мужественностью и напором, и при любом свете, да и вообще без света, на ощупь, лицо его казалось возмутительно, по-девичьи красивым.
– О, Аркаша! Как он прекрасен! Он дьявольски, дьявольски красив! – восхищённо шептал народ. – Он просто вызывающе хорош!
А Аркаша только посверкивал звездноватыми своими очами, и на кого бросал он быстрый взгляд свой – сердце того несчастного, вмиг в нематериальной своей субстанции испепелённое безответною страстью к Аркаше, оказывалось до последнего своего биения Аркашиным безраздельно и безоговорочно. Такие люди назывались аркашистами и от прочих Аркашиных фанатов, составляющих бо́льшую, грамотную, так называемую прогрессивную часть населения планеты, отличались особой беззаветностью в деле приближения торжества всемирного глюковизма.
Да, Аркаша воистину был прекрасен, но столь же воистину он был и могуч! Он был настолько могуч, что вполне мог в одиночку завоевать небольшое государство типа Германии или Франции. В принципе, он мог бы завоевать и Китай, но это грозило растянуться слишком надолго: вызывать по одному каждого китайца на бой, побеждать его, вызывать следующего…
Так в чём же заключался секрет его совершенства? И можно ли было разгадать этот секрет жалким человеческим умишкой за семьдесят-восемьдесят человеческих лет? Увы, вопросы эти самим провидением были обречены на внеэпохальную риторичность.
Я лежал на спине – вялый, грустный, бледный, тусклый. Мерзкий конец, авангард моей души, но арьергард моего тела, не желал подниматься на защиту моей поруганной чести.
– Размозжи его – мерзкого, недостойного твоего чувства, – разрешил я моей Пристипоме в ответ на её вопросительный взгляд. – А после нахами мне как-нибудь поизящней. Ведь из ваших уст хула – как похвала.
Так говорил я, но не любил я, но не любил я её!
– Вы не любите меня, Глюков, – проинтуичила Пристипома, – и мне суждено пожизненно оставаться девицею.
– Я полюбил бы лишь такую, что изнутри целиком походила бы на меня, была бы такой же умной, великодушной, смелой, слегка авантюрной, где-то даже (местами) гениальной, впрочем, что я перечисляю – всё это перед тобой. Готов биться в истерике, что более живописной картинки тебе ещё не показывали, – выпалил я и приготовился забиться в истерике.
– Зачем мне жить теперь – пожизненно в девицах, лишь одному ведь тебе, такому мудрому, красивому, тонкому, благородному, крупночленному могла я поверить тайны своего девичьего организьмуса, – хихикнула Пристипома.
Я хихикнул в ответ, чтоб хоть как-то поддержать свою даму, изнемогавшую от страданий.
– Никто, никто не желал посягнуть на мою невинность, – продолжила Пристипома после минутного замешательства, кося лиловым глазом. – Вы – судя по вашим морщинам – многое в жизни повидали и, наверное, встречали таких, как я когда-то – джинсовая юбка до колен, свисающая с бесформенной задницы, белые толстые рыхлые ноги, измождённое собственной несуразностью лицо, коротко стриженые торчком стоящие волосы – типичный неказистый побег малосолнечного Нечерноземья.
– Ты и сейчас такая, если не хуже, – снова выпалил я и осёкся.
Пристипома залилась, однако, слезами счастья:
– Милый, – шептала она, – о, милый, ещё никто не был со мною так ласков!
– Я ещё и не такое могу, – честно предупредил я.
В местах появления Аркаши нередко возникали стихийные волнения.
– Он мой! – вопила очередная соискательница Аркашиного внимания.
– Нет, мой! – неистово возражала ей соперница и вцеплялась в шевелюру конкурентки.
Аркаша решительно, порою даже жёстко, пресекал подобные проявления обожания, хотя не видел в них ничего противоестественного.
И в каждом доме мог найти Аркаша стол и кров, и в каждом почти имел и жену, и брата.
– Я – вундеркинд земли русской, а вундеркиндом какой земли являетесь вы? – спрашивал обычно Аркаша знакомых и незнакомых.
Не получив вразумительного ответа, Аркаша сокрушённо вздыхал, качал головою, но вниманием собеседника не оставлял и разговора не прерывал.
Другой раз Аркаша спрашивал уже осторожнее:
– Не являетесь ли и вы вундеркиндом? И если да, то какой-такой земли обетованной?
Иногда, впрочем, желая подчеркнуть свой всепланетный масштаб, он называл себя просто вундеркиндом без указания земли, изначально его приютившей (однако, надпись на его визитке была коротка и незыблема: «ГЛЮКОВ АРКАДИЙ ГОСПОДОВИЧ, ВУНДЕРКИНД ЗЕМЛИ РУССКОЙ»).
«Вундеркинд не рождению, но по призванию», – говорили про Аркашу одни. «Вундеркинд и по рождению, и по призванию», – возражали другие. А для Аркаши вундеркиндство было просто состоянием великой души.
– Итак, – продолжила Пристипома, – я решила покончить с собой – вернее, со своей невинностью – что, впрочем, было для меня тогда практически равнозначно – путём самоизнасилования. Не буду описывать тебе процесса…
– И не надо, – встрепенулся я; мне показалось, что теперь я понял её долгий – не менее полувека – но закономерный путь от самоизнасилования до самогрызства. – Ещё не хватало – утомлять меня подобными гнусностями! Надеюсь, вы изнасиловали себя жестоко и страстно?
– Как бы не так. Ничего у меня не вышло: я была настолько отвратительна себе, что даже надругаться над собой, да просто прикоснуться к себе мне было невмоготу.
– О, если б ты знала, сколь часто бросался я на своё отражение в желании овладеть им, – признался я как можно более спокойно, но в душе моей всё клокотало от желания, как и всегда, когда я говорил о себе. – Увы, всё, что я мог – поливать бездушное зеркало слюнями вперемешку со спермой.
– Я вижу, ты тоже страдал в своей жизни, – хихикнула, покраснев, Пристипома. – Давай же пострадаем вместе, и в страдании я стану чуть более похожей на тебя – и вы полюбите меня хоть чуть-чуть, хоть понарошку!
– Поздно страдать-то: я знаю о тебе всё! – не без удовольствия обломал я её хитрый планчик. – Папа твой – старый маркиз, мать – молодая гетера, страсти минутный каприз – вечный укор адюльтера.
– Итак, ты знаешь всё, – подытожила Пристипома. – А случайно не ты ли был тем самым отцом-маркизом? – добавила она, глядя на меня с нарастающим подозрением, переходящим местами в грозовую уверенность.
– Маловероятно, – поспешил я её разочаровать, почесав колено, на котором выскочила очередная родинка. – Впрочем, и исключать этого тоже нельзя.
Тут весьма к месту прозвучал ещё один куплет в моём и авторском исполнениях.
– Ты знаешь и это. Что ж, тем лучше, – пронзительно прошептала Пристипома. – Мне нечего более скрывать пред тобою. Гляди же, я раскрываюсь полностью, окончательно и бесповоротно. До кишок! До их содержимого!
Я чуть было не пропел очередной куплет, но всё-таки решил повременить, затаиться в эдакой попсовой засаде.
– Слушай же и смотри, – продолжила Пристипома, приосанившись, как перед казнью. – Я полюбила Самогрызбаши ещё в раннем детстве. Его фотографии, купленные из-под полы за родительское серебро, лежали у меня под подушкой, под языком и на донышке моих трусиков. Сестра, данная мне, очевидно, в наказание за мою любовь, садистски издевалась над нами, она отрезала Самогрызбаши конечности, пририсовывала ему усы и бороду, копытца и рожки, хвост сзади и хвост спереди. Однако, эти нечеловеческие испытания лишь разжигали нашу любовь и распаляли нашу невинную до поры страсть. Теперь ты понимаешь, почему я решила посвятить себя самой важной, самой нужной людям профессии: Самогрызбашиведа или Самогрызбашилюба; главное, чтоб не Самогрызбашигуба – как шутил, бывало, в трудные минуты сам Самогрызбаши.
– И где же он, наш суженый? – спросил я, обводя трепещущим взором стены нашей палаты.
– Не торопись! – взвизгнула Пристипома. – Пошли, я познакомлю вас. Но берегись: каждый твой шаг к нему будут сопровождать роковые соблазны. Не смей же им поддаваться!
Ударом ноги она разнесла одно из своих зеркал. За зеркалом прятался альков площадью не более двадцати квадратных локтей. Стены, пол и потолок его были девственно белыми (этот цвет ужасно шёл Пристипоме), но на них уже явственно угадывались изображения Самогрызбаши. В качестве последнего пристанища это место мне вполне подходило, о чём я не замедлил сообщить Пристипоме.
– Хихик-с, – цинично охладила мой пыл Пристипома, – ты опоздал: за-ня-то. Здесь упокоюсь я, после мучительной казни.
– Самгрызбаши, Самгрызбаши не курит анаши! – пропел я, стараясь задобрить Пристипому. – Самгрызбаши говорит по-самгрызски!
Тут только я заметил стоявший посреди алькова рояль: он был замаскирован лапником, пухом и перьями. Я бросился Пристипоме в ноги:
– Сыграй мне гамму, – взмолился я, – и пусть в ней будет рассказ о детстве и юности Самогрызбаши, о вашей трудной любви.
– Я сыграю тебе гамму си-бемоль-мажор-диез-бекар, – с какой-то неистовой радостью согласилась Пристипома.
– Аркаша, Аркаша, вот вы бывали в Мерике. Расскажите нам, каково там? – спрашивали люди с тревогой и надеждой. – Каковы они, мериканцы? Похожи ли они на нас, имеют ли по паре ног, рук, ушей?
– Не все, – отвечал сурово Аркаша, – не все имеют по паре рук, ног, тем более ушей. И говорят они не по-нашему, не по-русски.
– Аркаша, мы, люди, хотим знать, а почему они такие не такие, Аркаша? – жадно спрашивали люди.
– Потому они не такие, что не среди них, а среди вас вырос ваш Аркаша, поэтому вы на меня и похожи больше, чем кто-либо, – отвечал Аркаша и ответом своим попадал в самую, что ни на есть, точку.
– Аркаша, ваши дело и тело переживут века! – кричали после этого люди.
– Зачем я не птица? – вопрошал в свою очередь Аркаша. – Летал бы под солнцем. Зачем я не рыба? Резвился бы в море. Зачем я не тигра? Рычал бы ночами.
При всей своей любви земляне эксплуатировали Аркашу по-чёрному: чего стоила одна только его работа в качестве мирового (в другом переводе – всемирного) судьи. Впрочем, судейство было поставлено у Аркаши на поток: ему хватало одного взгляда, брошенного на введённых спорщиков, чтобы определить, кто прав. На виноватого Аркаша указывал пальцем и принимался за следующую пару.
Говорят, некто, желая прославиться своим вопросом, спросил Аркашу:
– Аркаша, есть ли такое, чего вы не знаете?
– Очевидно, нет, – отвечал Аркаша скромно, но с достоинством.
– Аркаша, если бы вы знали, как вы угнетаете своей непоколебимой, непогрешимой, безупречной правотой! Вы всегда и во всём правы. Ну ошибитесь хоть раз, Аркаша! – просили иногда Аркашу земляне из числа наиболее угнетённых его правотой.
– А хрен вам, – отвечал Аркаша скромно, но с достоинством.
Мощные жизнеутверждающие звуки гаммы вынудили меня зарыдать, как вынудили бы зарыдать всякого, не лишённого хотя бы толики вкуса, слуха, такта, способности воспринимать прекрасное, переваривать его и делиться результатами с окружающими.
Пристипоме особенно хорошо удавались бемоли, хотя и диезы были на высоте. Так, благодаря волшебной силе искусства, вся моя никчёмная жизнь пронеслась передо мной в наиболее катарсисуальных её проявлениях:
на счёт раз – рождение в муках с травмами головного мозга, сердца и ягодиц, несовместимыми с возможностью занятий умственной, сердечной или сидячей деятельностью.
на счёт два – голодное детство жизнерадостного рахитика.
на счёт три – отроческое истечение слюной и спермой по поводу, без повода и даже без намёка на повод.
на счёт четыре – юность раздолбая: поиски любви, мечты о свободе.
на счёт пять – молодость безобразника: с разбегу я выбиваю ногой кепку с мелочью из рук нищего:
– Всех вас, вонючки, в открытый космос – вслед за кепкой! – разъясняю я нищему один из постулатов своей передовой философии.
Ах, эта моя молодость, с её романтическими прекраснодушными порывами!
на счёт шесть – молодость безобразника: со всего размаху я всаживаю шило в зад негодяю, уличённому мною в процессе дегуманизации дорогущей моей столицы, золотушечного моего Квамоса.
– Ну что, какашка, получил? – с весёлой укоризной спрашиваю я его. – Нельзя плевать на улицах Квамоса – образцов ведь он не менее, чем показателен.
Ах, эта моя любовь к златоглавой столице – такая грубая, терпкая, плотская, но вряд ли в то время взаимная!
на счёт семь – молодость безобразника: вот потасканный мужичонка, имеющий наглость носить дипломат и, возможно, потому полагающий, что имеет дипломатическую неприкосновенность, зацепляется сандалией за чугунную решётку – этакий пояс верности вокруг чахлого деревца, изумлённо изогнувшего от такого знака внимания навстречу таинственному незнакомцу свои морщинистые старушечьи прелести. А зацепившись сандалией, мужичонка роняет своё крокодиловокожее чудо.
– Ну что ж ты, лапоть? – пристыжаю его я, забегая вперёд и преданно заглядывая в его очумелые глазки. – Что же ты вешчь-то роняешь? Она же наша, расейская!
Ах, этот мой юный патриотизм, эта гордость за свою самую лучшую в мире страну!
на счёт восемь – молодость безобразника: вокруг были звери, но я был зверь зверей. Ух, я был зверюга! С холодными серыми глазами, с мягкой тигриной походкой, с радушным оскалом острых клыков, всегда готовый и к обороне, и к нападению.
Ах, какой же я был зверюга!
Глюков – для людей это значило «чудо, которое не может, не имеет права с тобой не случиться».
Глюковистичное – для людей это значило «сделанное на века, сделанное на пределе возможного, так, как это мог бы сделать великий Глюков, если бы у него было на это время».
Глюковистична, говорили люди, музыка Моцарта, политика Августа, живопись Брейгеля, архитектура Гауди, относительность Эйнштейна. Люди могли привести и ещё несколько примеров глюковистичного.
– Аркаша, Аркаша, проси чего хочешь! – требовали они.
– Зачем? – отвечал Аркаша, пожимая могучими плечами-крыльями. – У меня всё есть.
И действительно, у Аркаша было всё и даже больше, чем всё: у него была Ганга.
на счёт семь – молодость безобразника: я мчусь сквозь картинки с выставки народной жизни. Я мчусь на свиданье с оторвой, посмевшей откликнуться на моё газетное объявление: «Нищий уродливый эгоистичный кретин (довольно точная моя тогдашняя характеристика – А.Г.) ищет умную красивую заботливую и богатую для совместных занятий онанизмом, остракизмом и эмпириокритицизмом».
Ах, эта моя молодая самонадеянность, ах, эта моя вера в идеальную Ж.!
на счёт шесть – молодость безобразника: попка маячит впереди маленькая, но с трещиной посерёдке. «Ненавижу, – понимаю я, – ненавижу маленькие попки, да ещё с выщерблиной, ведь они должны быть большими, округлыми и сплошными, как глобус, как наша любимая планета в миниатюре!» – и, обгоняя хозяйку незадачливой попки, два раза гавкаю на них обеих.
– Дура, – говорю я хозяйке, не глядя на неё и зная, что в глазах её изумление сменяется гневом, а затем страхом, – пусть хоть гавк у тебя останется, коли бог задницей обделил.
«Да на хрена ты вообще мне сдалась – переживать за твою несексапильность, – переключаюсь я тут же на свои размышления, – нет, не тебя так пылко я ищу».
Я ищу Свободу, я хочу её, я страстно желаю отыметь её в попку, в её глобусоподобную желеобразную необъятную сплошную задницу. Вот и всё, что мне нужно от жизни – трах-тах-тах, а потом – тишина.
А потом, после тишины, она спросит, приоткрыв глаза: «И зачем я тебе сдалась – такая зыбкая, эфемерная?» Чтоб быть свободным! Чтобы жить со свободой в душе, в голове и в теле. Чтобы жить со всеми свободами в одном свободном свальном грехе, ведь свободы всякие нужны, свободы всякие важны: свобода любить, кого захочу, и трындеть о своей любви на весь мир, свобода бить в те рыла, в которые захочу, свобода выплеснуть на вас всех накипевшее, свобода быть тем, кем я хочу быть, и свобода быть тем, кем быть не хочу, но являюсь.
Мне хорошо, когда мне хорошо, а другим плохо, вот такая во мне личность образовалась: и хорошая, и плохая одновременно.
Ах, какой я всё же мерзавец, но обаятельный же мерзавец! Меня нельзя не любить.
на счёт пять – молодость безобразника: феминизм, гринписизм, тоталитаризм, антитоталитаризм, все эти массово внедрённые «измы» – прогрессивные и не очень – были одинаково мне отвратны. Единственным «измом», с которым я ещё мог бы тогда смириться, был глюковизм.
Энтузиазм толпы мне смешон. Я – млекопитаемое нестадное. Когда толпа в едином порыве вскидывает вверх кулаки и кричит: «Нет диктатуре!», я кричу: «Да – тирану!» и опускаю свой кукиш вниз.
Мой рахитичный членик тоже никнет к полу: с большой головкою на тонкой ножке, он совершенно нежизнеспособен в условиях депрессивной внешней среды.
Ах, этот мой героический пожизненный спутник на тонкой изящной ножке! Сколь часто ты был мне неверен и сколько рогов ты мне понаставил, однако же терплю я тебя всё ещё по доброте душевной!
на счёт четыре – молодость безобразника: на площадях и в скверах людишонки с искажёнными благородным гневом ликами пинают каменные статуи бывших тиранов, мочатся на их громадные туши и вопрошают поверженных идолов: «Понял, гад?»
«Плохо тиранил, – делаю вывод я. – Извёл бы под корень всё поганое людишонкино племя – и стоял бы себе сейчас спокойно, в почёте и уважении, как в каменном лесу – в компании подобных себе упырей. А самая абсолютная свобода может увенчать деятельность именно что самого беспощадного из тиранов – когда некому станет уже, собственно, ни посягать на эту свободу, ни присягать ей».
– Так его, по яйцам, по яйцам! – советую я, и слова мои встречают в тираноборцах благодарное понимание.
Я снимаю своё кепи – фирменное кепи с лейблом бренда «Рабочая одежда» – и обхожу с ним окружающих, гнусавя:
– Пожертвуйте на снос ещё одного каменного ублюдка, тирана Вороватейшего, мать его так, растак и перета-ак!
Народ в целом охотно помогает святому делу, однако некоторые особенно скаредные свободолюбцы скупердяйничают: «А, чево там, мы сами его снесём».
– Вы что, господин не очень хороший, – спрашивал я такого умника, приблизившись к нему вплотную, – против сбора средств на снос памятника кровопийце трудового народа?
– Да нет, я не против, – начинает запинаться тот, – я просто думал…
– Вы ещё и думаете? – я смотрю на него с уважением, почти бесшовно перетекающим в восхищение. – Так вы – мыслитель?! Тогда не надо, – пячусь я от него, – с мыслителей мы на снос не берём. Они, мыслители, пусть мыслят за нас, недоумков, пусть выдают нам инструкции для светлого будущего: как правильно жить в этом светлом будущем, что надо будет строить – на месте сломанного и сброшенного, как надо будет строить, из чего, с какой скоростью…
– Возьмите деньги, – шепчет мне незадачливый хомо когитанс3434
Хомо когитанс – homo cogitans (лат.) – человек мыслящий.
[Закрыть], скок-поскокивая за мной.
– Нет! – вопию я, опуская в карман его мятые купюры. – Не возьму! Не просите!
Ах, это моё бессребреничество, ах, эта моя всегдашняя готовность послужить правому делу – пусть и себе в убыток!
на счёт три – молодость безобразника: я зарабатываю на поддержание свободного духа в свободном теле и другими элегантными способами. В не слишком людном переходе метро я бросаюсь с воплем: «О, Изольда, зачем ты погубила меня?!» в ноги к самой симпатичной из скво3535
Скво – женщина (амер.).
[Закрыть] (у симпатичных обычно есть чем поделиться с миром) и покрываю поцелуями её сквозьчулочные колени, поднимаясь затем всё выше и выше, но в итоге всё же кидаю ей спасательный круг:
– Милая, дай пару кусей твоему обожателю, всего две тысячи за мою разбитую жизнь!
О, русские женщины, сколь вы тогда были стыдливы в боязни публичной демонстрации своих чудных ножек! Тогдашняя милая, не колеблясь, расставалась с искомой суммой.
Ах, эта моя тяга к русским женщинам, в ущерб женщинам всего остального мира, лишённым, таким образом, сколь-нибудь реальных шансов когда-либо меня заполучить!
на счёт два – детство даётся нам только дважды, и прожить его нужно так, чтобы оно было засчитано, когда придёт пора отчитываться о содеянном:
– Моя фамилия Гуглюков, – сообщаю я миру.
Не все встречают моё откровение с пониманием, но есть и такие, что раскрывают свои плодоножки навстречу плодожорке моих объятий.
– Ну а моя, блин, дядя Хрюков, – отвечают мне наиболее близкие по духу, и моя червячок-душонка залезает в их душонки – плоды разной степени свежести, – и начинается соитие, и кончается проза.
И однажды я встречаю в метро своего духовного близнеца, свою недоснятую копию, так долго ускользавшую от меня тень. Опоздав на поезд, он не смиряется с поражением, не никнет гордой головою – нет, он бросает последние проклятия этому миру чистогана и чистоплюйства:
– Ах вы, сволочи, смотрите же, гады, как умирают те, которые умирают, когда на них смотрят! – и, прыгнув на рельсы, взмывает в вечность призывом гордым к свободе, к свету.
И долго после этого разгоняют свои мурашки озадаченные обывателишки и приглаживают сальными пятернями свои вздыбившиеся волосёнки, на которые, победно кружась, опускается прах героя.
Ах, это второе и последнее детство и это втородетское презрение к той части собственной жизни, что походила скорее на ишака в осенней пустыне, чем на мустанга в весенней степи!
на счёт раз – смерть придурка, бесконечно прекрасная, как весть о расправе над поэтом-насмешником, и вновь смерть придурка, бесконечно ужасная, как весть о рождении вражьего сына, и вновь смерть придурка, ах, уже не прекрасная, ох, уже не ужасная – вообще никакая. Никакая не смерть, а так, издыхание.
У Аркаши была Ганга, у Ганги был Аркаша, и было им хорошо.
Аркаша, обладавший безупречным универсальным вкусом, выбрал себе Гангу, как наисовершеннейший образец наисовременнейшей российской женщины.
– Ну, Арканя, заарканил! – присвистывали люди, которым подфартило увидеть Гангу вблизи.
А Гангу с детства окружал культ Аркашиного слова. Отец, старавшийся походить на Глюкова суровостью и парадоксальностью суждений, и мать, пытавшаяся не отставать от Аркаши (насколько это было, конечно, возможно) в человеколюбии и душевной щедрости, – когда-то сблизившиеся на почве глюковедения, а ныне титулованные глюковеды – естественно, и дочь свою видели продолжательницей семейного дела. И Ганга всерьёз готовилась к профессии глюковеда – самой нужной, полезной и уважаемой профессии на свете, но хотелось ей всё-таки большего: роль учёного, пусть даже академика, изучающего деяния и творения Глюкова, но не его душу и не его тело, никогда не смогла бы исчерпать всей красоты её натуры.