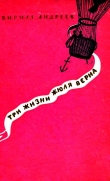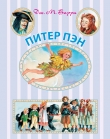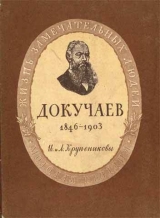
Текст книги "Докучаев"
Автор книги: Игорь Крупеников
Соавторы: Лев Крупеников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Талантливый наблюдатель и исследователь, Измаильский вынужден был служить управляющим у помещика-самодура князя Кочубея. Несмотря на то, что Измаильский образцово вел хозяйство, Кочубей мало ценил его и явно недоброжелательно относился к его научным исследованиям. Постоянно больной, недомогавший, Измаильский перенапрягал свои силы; по его собственному выражению, «отдыхать» ему приходилось лишь ночью за наукой. Докучаев старался в каждом письме поддерживать бодрый дух в своем друге и, объединяя в одно общее и своих врагов-чиновников и владетельных вельмож, вроде Кочубея, писал Измаильскому: «Не за ними, а за нами будущее!»

А. А. Измаильский.
Начиная с первого года полтавской экспедиции, Докучаев почти каждое лето встречался с Измаильским. Эти встречи обычно происходили в Дьячкове – хуторе Полтавской губернии, недалеко от прославленной Гоголем Диканьки. При скрипе длинной степной телеги, подвозившей Докучаева к небольшому домику Измаильского, на крыльце появлялся коренастый, полуседой хозяин. Он смотрел выразительными карими глазами поверх дымчатых очков, и его несколько суровое лицо расплывалось в добрую улыбку, когда в человеке, спрыгивавшем c телеги, он узнавал своего петербургского друга. На их оживленные голоса из дому выбегала Таисия Васильевна, жена Измаильского. Она сразу же вела Докучаева осматривать хозяйство, показывала паровые кормушки для скота, элеватор, молотилки – все те нововведения, которые успел завести ее муж со времени предыдущего посещения Докучаева.
Увлекая Докучаева в свой маленький кабинет-лабораторию, Измаильский говорил: «Я отдыхаю душой только здесь». В этой маленькой лаборатории был письменный стол, заваленный книгами и дневниками, два стула, рабочий стол для анализов, весы для взвешивания образцов почв и семян, буры для взятия почвенных образцов, сконструированные самим Измаильским. Здесь друзья вели бесконечные разговоры, являвшиеся продолжением их переписки.
Оба, сильные, смелые в научных начинаниях, страстно любившие родину и мечтавшие о ее расцвете, они все теснее и теснее сходились в своих научных воззрениях и идеалах.
Начиная, параллельно с полтавской экспедицией, важное новое дело по организации «особой экспедиции», Докучаев прежде всего должен был посоветоваться с Измаильским. Друзья решили встретиться в Харькове и детально обсудить план экспедиции. Встреча эта состоялась в первых числах июня 1892 года, через две недели после создания «особой экспедиции». Они быстро договорились об основных задачах экспедиции, поспорили о многих деталях, наметили районы для проведения опытов. План работы, составленный Докучаевым и Сибирцевым, обогатился замечаниями и советами Измаильского.
Подготовка закончилась. Надо было приступать к работе. Простившись со своим другом, Докучаев выехал в степь, сначала в Харьковскую, а затем в Воронежскую губернию. Докучаев уже бывал здесь, но ему хотелось осмотреть еще и еще раз все и выбрать для опытов самые характерные места.

Лесные полосы в Каменной степи, посаженные В. В. Докучаевым (снимок 1946 года).
По плану Докучаева основные участки для опытных раб. от должны были выделяться на водоразделах, в открытых ровных степях и там, где еще сохранились леса. Так и было сделано. Прежде всего Докучаев остановился на Хреновском участке, расположенном в Бобровском уезде Воронежской губернии. Участок этот был выбран очень удачно; в его состав входил большой степной массив, называвшийся «Каменная степь», и два леса: Хреновский – хвойный и Шипов – лиственный; последний еще со времени Петра I и по его воле был заповедной корабельной рощей. Из дубов этого леса Петр строил струги и другие корабли, когда готовил в Воронеже русский флот для взятия Азова. Уж очень хорошо здесь можно было изучать те природные условия, а особенно почвы и подпочвы, которые благоприятствуют такому мощному развитию широколиственных древесных пород.
Но одного участка было мало, надо было ехать дальше. Второй опытный участок – Старобельский – был выбран на водоразделе Дона и Донца. Этот участок был своего рода противоположностью Хреновскому, но также очень типичен для степей, хотя и более южных. О Старобельском участке очень хорошо сказал Докучаев: «…совершенно голый кряж его может быть назван типичнейшим образчиком открытой, полубурьянной степи, как бы намеренно выставленной на волю бурям, ветрам, зною и засухам». Здесь тоже намечались опытные посадки леса и их всестороннее изучение, исследование почв и метеорологические наблюдения. Третий опытный участок был совсем на юге, в Великом Анадоле, близко от берегов Азовского моря, по соседству с родиной Чехова, с теми местами, где разворачивалось действие чеховской «Степи». Великоанадольский участок лежал между Донцом и Днепром, в Мариупольском уезде бывшей Екатеринославской губернии. Участок этот имел для Докучаева совершенно особый интерес, так как здесь удобнее всего можно было решать вопросы, связанные со степным лесоразведением. Дело в том, что в Великом Анадоле был единственный на крайнем юге черноземного пояса массив (площадью свыше 1 500 гектаров) искусственно разведенного лиственного леса среди безграничных сухих, выжженных солнцем степей.
Во время своих скитаний по степям при сборе материалов для «Русского чернозема», в годы проведения нижегородской и полтавской экспедиций, Докучаев научился очень быстро ориентироваться в степи. Считая выбор опытных участков и пунктов для метеорологических наблюдений очень важным делом, от которого зависит успех последующих практических выводов, Докучаев не доверял его никому. Он ходил по степи и сам ставил опознавательные знаки, намечая места для будущих станций. На самой высокой, точке водораздела рек Камышинки и Деркула Докучаев указал участок для станции № 1, а в долине реки Деркул – для станции № 2. Только когда все опознавательные знаки были расставлены, ученый успокоился.
Первый кирпич фундамента лесного опытного дела в России был заложен.
Для работы на опытных участках были привлечены энергичные и знающие люди, которые стали подлинными энтузиастами задуманного дела Докучаева. Почти все участки были выбраны в совершенно необжитых местах, лишенных подчас даже хорошей питьевой воды. Особенно тяжело здесь было зимой, когда бураны и метели отрезали самоотверженных работников станций от всего мира.
С начала лета 1892 года во всех этих глухих уголках уже кипела работа, и к августу все намеченные метеорологические станции были полностью оборудованы, снабжены приборами и приступили к работе. Такие незаурядные темпы свидетельствуют о блестящих организаторских способностях Докучаева.
Местное население вскоре очень полюбило работников опытных станций. Так, за Старобельской лесной станцией № 1 твердо укоренилось название «Трушевки», по имени первого ее наблюдателя Трушева.
Кроме работ по организации метеорологических станций и опытных участков, экспедиция летом 1892 года вела еще ряд исследований степной природы, и в январе 1893 года уже появился составленный Сибирцевым под руководством Докучаева печатный предварительный отчет о работе экспедиции за первое полугодие ее существования – с июня по ноябрь 1892 года. В отчете был помещен и общий проект опытных работ экспедиций. В это же время велись наблюдения по оформлению материалов полтавской экспедиции. К 1894 году было закончено печатание всех шестнадцати томов полтавских исследований.
В последующие годы, пока был жив Докучаев, дела «особой экспедиции» шли хорошо. Опытные участки окрепли и превратились в подлинно научные учреждения. Успешно шла работа на Великоанадольском участке, которым заведывал Георгий Николаевич Высоцкий, ставший впоследствии крупным ученым. Каменностепная станция (преобразованная в 1946 году в Институт земледелия центральной черноземной полосы имени В. В. Докучаева) существует и поныне и, храня заветы своего создателя, работает над внедрением в широкую колхозную практику различных мероприятий, улучшающих сельское хозяйство степной полосы.
Докучаев стремился привлечь на работу в «особую экспедицию» Измаильского, надеясь, что тот со временем станет начальником экспедиции. Измаильский и сам желал этого. Докучаев считал дело решенным, но неожиданно получил телеграмму: «Слег. Кровь горлом, разъезды не вынесу. Отказываюсь. Измаильский». Начальником пришлось остаться самому.
Он руководил «особой экспедицией» с 1892 по 1897 год. За этот небольшой для такого огромного дела срок под его редакцией было издано восемнадцать томов трудов экспедиции со множеством карт, чертежей, таблиц анализов. Это была колоссальная по объему и значению работа.
Труды Докучаева по всестороннему исследованию различных типов степных лесов, глубокая разработка им истории наших степей и их взаимортношений с лесом позволили нашему крупному ученому, ботанику и географу Г. И. Танфильеву считать Докучаева не только создателем почвоведения, но и родоначальником ботанической географии.
Нелегко было в царской России проводить такие крупные работы научно-исследовательского характера. Академик В. Р. Вильямс говорил, что работа Докучаева представляет собой «тот огромный первый толчок, который когда-то привел в движение научно-агрономические и общественные силы и направил их по правильному научному пути».
– Как бы предвидя те грандиозные работы по преобразованию природы, которые советский народ начинает осуществлять в наши дни, академик В. Р. Вильямс писал в 1936 году о роли и значении русских ученых и прежде всего Докучаева в деле борьбы с засухой и недородом в степных и лесостепных районах нашей родины: «Перед социалистическим сельским хозяйством степной полосы стоит крупнейшая задача – урегулировать водный режим почв этой области для того, чтобы навсегда покончить с засухами, неурожаями и создать условия для непрерывного повышения урожайности. Сделано весьма много, но еще больше предстоит сделать. Травосеянию, лесонасаждению, агротехнике и агрохимии принадлежит самая важная, самая крупная роль в этом деле. Поэтому вопросы условий произрастания леса в степной полосе, взаимодействие леса и травянистой растительности, зависимость от них и влияние на них климата и т. д. имеют весьма важное народнохозяйственное значение.
Докучаев, Костычев, Измаильский, Коржинский, Пачоский, Танфильев, Келлер, Высоцкий – вот те богатыри, которые исколесили степную полосу, труженики, которые в течение более полустолетия плели канву далекого и близкого прошлого этой полосы в целях построения лучшего ее будущего. Пришел новый человек. Он возьмет труды этих ученых, разберется в них критически и все заслуживающее внимания, все ценное положит в основу своего дела. Труды Докучаева и других не пропадут даром».
Эти вдохновенные слова академика-большевика В. Р. Вильямса следует прежде всего отнести к нему самому – продолжателю трудов Докучаева, создателю травопольной системы земледелия, повсеместное внедрение которой в социалистическое сельское хозяйство приведет к возрождению плодородия почвы, к высоким, все возрастающим урожаям, к полной победе над засухой. Высоко оценив заслуги ученого, советский народ дал Вильямсу почетное звание «Старшего агронома Советского Союза».
ПРОПАГАНДИСТ РУССКОЙ НАУКИ
– Трудно в России сделать что-нибудь, – часто с горечью говорил Докучаев.
Его смелые научные теории и практические планы постоянно сталкивались с препятствиями, порождавшимися капиталистической системой и недальновидной политикой царского правительства. Таково было общее положение русской науки в восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия. Друг и сподвижник Докучаева, великий русский ученый Д. И. Менделеев, стремившийся к промышленному и хозяйственному расцвету России, разработал ряд гениальных проектов: освоения Северного морского пути, индустриализации Урала, новых методов переработки нефти. В 1888 году Менделеев выдвинул идею подземной газификации каменного угля. Все эти смелые проекты, включая и подземную газификацию угля, стали претворяться в жизнь только после Великой Октябрьской социалистической революции.
Сейчас, когда советское государство выделяет огромные средства на развитие науки, строит сотни новых институтов, открывает новые академии наук, трудно даже себе представить те ничтожные суммы, которое отпускались царским правительством на научные общества. Эти научные общества, сыгравшие большую роль в развитии русской науки, почти не имели никакой финансовой поддержки со стороны царского правительства и существовали главным образом на добровольные взносы самих же ученых.
Передовые ученые – Менделеев, Тимирязев, Ковалевский – в то время подвергались систематическим преследованиям, изгонялись из университетов. Такие корифеи мировой науки, как Менделеев, Сеченов, Тимирязев, Докучаев, Столетов, не были академиками. Когда Менделеев, Сеченов, Столетов были выдвинуты в академики, их кандидатуры были провалены реакционным руководством императорской Академии наук. Но все это не остановило поступательного движения русской науки, которая развивалась, начиная с шестидесятых годов, под воздействием революционно-демократических идей великих русских просветителей. Неуклонное стремление сочетать научные искания с нуждами и чаяниями народных масс, непримиримая борьба с реакционными воззрениями во всех областях науки и общественной жизни – таковы были характерные черты поколения русских ученых, начавших свою деятельность в шестидесятые годы и, несмотря на все препятствия, продолжавших ее в последние десятилетия прошлого века. Вера в народ поддерживала передовых русских ученых в их тяжелой борьбе. Все крупнейшие научные открытия и достижения русские ученые стремились сразу же сделать достоянием народа: культурное развитие народа, по их мнению, должно было послужить его духовному и общественному раскрепощению.
Одним из наиболее ярких и убежденных пропагандистов науки был Докучаев. Все свое влияние, всю силу своего убеждения он направлял на пропаганду и популяризацию передовых научных идей среди широких слоев интеллигенции, среди народа. Не веря в способность и желание царского правительства осуществлять предложенные им меры для борьбы с неурожаем, с голодом, он находил необходимым обращаться прямо к народу, считая, что «естественно-историческое образование народа лежит в корне улучшения экономического быта страны». Это убеждение Докучаева разделялось его единомышленниками и учениками. Думая, что экономический быт России можно улучшить без:.коренной революционной перестройки, Докучаев ошибался, как и многие его современники – русские ученые, искренне желавшие счастья народу, но не знавшие единственно правильного пути для его достижения.
Еще во время нижегородской поездки Докучаев понимал, что если не принять специальных мер, естественно-историческое изучение Нижегородской губернии прекратится, как только экспедиция окончит свою работу. Этого нельзя было допустить. «Надо создать такой центр, на который могли бы опираться дальнейшие, более детальные исследования, который явился бы ядром краеведческого естественно-исторического изучения прилегающего к нему района и содействовал бы популяризации естественно-исторических знаний вообще». Докучаев убеждал и доказывал, что губерния должна иметь свой краеведческий естественно-исторический музей. Он не представлял себе музей кунсткамерой, демонстрирующей посетителям любопытные и редкостные экспонаты. Нет, музей должен быть практическим центром научной работы; здесь наряду с прочими должны разрабатываться вопросы «об истощенности почв, о быстроте при различных условиях (как естественных, так и искусственных) восстановления ими утраченных сил».

В. В. Докучаев и А. В. Советов с группой молодых почвоведов.
Докучаеву удалось убедить Нижегородское земство в необходимой организации такого музея, и на скудные средства, выделенные земством, Докучаев со своим учеником Н. Сибирцевым создал первый научный краеведческий музей. В качестве руководителя музея Докучаев оставил Н. Сибирцева. Двадцатипятилетний молодой человек, один из талантливейших учеников Докучаева, вдохновленный теми же идеями, что и его учитель, горячо взялся за работу. Музей привлек внимание жителей губернского города. Популярные лекции и беседы на естественно-исторические темы, регулярно проводимые Н. Сибирцевым, постоянно собирали обширную аудиторию/.
Такой же музей возник и в Полтаве. Докучаев со свойственной ему широтой взгляда мечтал о создании музеев – носителей «света и жизни» – во всех губернских центрах России. Для осуществления этой цели он разработал типовой устав музея с подробным изложением его целей и задач. Докучаев стремился привлечь к сбору и составлению коллекций для музеев широкие круги общества – сельских учителей, агрономов, гимназистов, студентов. При Петербургском обществе естествоиспытателей он создал специальную комиссию «по составлению программ и наставлений, для наблюдения и собирания коллекций по геологии, почвоведению, зоологии, ботанике и т. д.». Докучаев руководил составлением программ и написал «краткую программу для исследования почв», где дал яркое и доступное изложение основ новой науки и методов изучения почвенных образцов. Сборник приобрел широкую популярность; за короткий срок он выдержал несколько изданий.
В то время не было сложившихся кадров почвоведов, работников приходилось искать на смежных кафедрах университета, а для этого надо было заинтересовать молодежь новой наукой, дать начинающим исследователям возможность опубликовывать результаты своих первых наблюдений и анализов. Докучаев совместно с профессором Петербургского университета агрономом А. В. Советовым с 1885 года издавали «Материалы по изучению русских почв» – периодические сборники работ, написанных преимущественно молодежью, выпускниками университета, приобщавшимися таким путем к почвоведению. Так была создана первая официальная трибуна новой науки. До этого в России не издавалось ни одного журнала по почвоведению.
Докучаев не ограничивался популяризацией и пропагандой новой науки в родной стране. Следя за специальной иностранной литературой, он прекрасно знал, что русские почвоведы оставили далеко позади европейских коллег. Он говорил: «При пользовании иностранными источниками вообще нужно помнить, что понятие о почве как самостоятельном естественно-историческом теле и вытекающих отсюда задачах почвоведения – заслуга русских почвенников и что такая постановка дела еще не проникла в западноевропейскую литературу». Он испытывал чувство законной гордости за русскую науку, которая во многих областях шла впереди мировой науки.
В 1889 году совместно с учениками Докучаев подготовлял коллекцию почв для всемирной выставки в Париже. Своему ученику В. И. Вернадскому, находившемуся в то время во Франции, он поручил подготовить к открытию почвенный отдел в Русском павильоне. В письмах Докучаев подробно инструктировал Вернадского, как лучше разместить почвенные коллекции, какие заказать стеллажи, какими пояснительными текстами снабдить экспонаты. Вернадский точно выполнял все указания учителя, добиваясь, чтобы умелый показ успехов русского почвоведения отразил мировое значение русской школы почвоведов. Вернадский писал Докучаеву из Франции: «Как-то здесь, за границей, еще больше чувствуется важность того, чтобы лучше и больше оценивать русскую науку; развивается какое-то чувство и сознание национальной научной гордости». Знакомясь в павильоне с экспонатами обширной почвенной коллекции, снабженной исчерпывающим научным обзором, специально написанным Докучаевым, европейские ученые могли наглядно убедиться в успехах русской школы.
Докучаев писал Измаильскому: «Можете себе представить, дорогой Александр Алексеевич, сколько я успехов имел в нынешнюю зиму, правда, чрезвычайно трудную для меня, но и зато необыкновенно счастливую и, вероятно, весьма чреватую хорошими последствиями в почвенном отношении.
…Веду переговоры с Тулой, Рязанью и Виленским банком о почвенных исследованиях, заключил уже условие о полном естественно-историческом исследовании имений Нарышкина; наконец, почти вся чиновничья братья в Питере совершенно изменилась по отношению ко мне, не знаю, надолго ли… Во всяком случае всего этого слишком много для одной зимы, и я начинаю побаиваться, как бы не разбросаться; но, с другой стороны, не в интересах дела отказываться…
Куй железо, пока горячо!»
В 1893 году в Чикаго на Колумбийской всемирной выставке с коллекциями докучаевской школы познакомилась и Америка. Кроме изданного на английском языке научного обзора коллекций, посетители могли приобрести книгу Докучаева «The Russian Steppes» («Наши степи прежде и теперь»).

В. В. Докучаев – профессор Петербургского университета.
Силы науки росли, надо было их сплотить, объединить для совместной борьбы с косными традициями и реакционными взглядами, с многочисленными бюрократическими препонами, стоявшими на путях развития прогрессивной науки в царской России.
Средством для такого сплочения, для идейного и творческого общения ученых служили в числе других и периодические съезды русских естествоиспытателей и врачей. В истории русской науки особое место, занимает состоявшийся в конце 1889 – начале 1890 года VIII съезд естествоиспытателей и врачей. Немалую роль в организации этого съезда сыграл Докучаев.
К этому времени Докучаев пользовался широкой известностью в русском ученом мире. Он был одним из руководителей Петербургского общества естествоиспытателей, избравшего его в 1885 году на пост секретаря. Ученый возглавлял созданную по его настояниям Почвенную комиссию Вольного экономического общества. Неутомимый новатор постоянно выступал в этих обществах с докладами и сообщениями, а также нередко использовал трибуну съездов русских естествоиспытателей и врачей. Широкая популярность Докучаева привела к тому, что на него была возложена подготовка очередного, VIII съезда.
Докучаев отличался от многих ученых того времени тем, что он не только намечал и разрабатывал новые научные проблемы, но всегда продумывал и обеспечивал организационную сторону дела.
Для подготовки съезда был образован распорядительный комитет. Будучи секретарем этого комитета, Докучаев создал при нем рабочее бюро из молодых ассистентов, преподавателей университета и Военно-медицинской академии, а также «бюро для разработки постановлений» в составе Докучаева, Левинсон-Лессинга, Ферхмина, Земятченского. Таким образом, почвоведы, которым с новой наукой предстояло выступить на съезде впервые, проявили наибольшую активность в подготовке съезда.
Молодежь, направленная Докучаевым, блестяще справилась с подготовкой съезда. Василий Васильевич разрабатывал и отстаивал перед комитетом кардинальные вопросы объема и направления работ съезда и одновременно занимался хозяйственной стороной подготовки, вплоть до мелочей. Средств было мало, а надо было разместить делегатов в гостиницах и на частных квартирах, обеспечить их обедами, позаботиться об освещении и топливе, составить списки участников, разослать приглашения, подготовить помещения для общих собраний и работы секций, организовать печатание дневников и трудов съезда. Этот съезд должен был открыться в конце декабря. Докучаев непременно хотел опубликовать ко дню его открытия «Справочную книгу для делегатов», включавшую сведения о всех участниках съезда, программу работ, перечень докладов, а также краткий исторический очерк всех предыдущих съездов, наживная с первого, состоявшегося в 1867 году. Материалы для этого справочника поступали вплоть до самого дня открытия съезда, и Докучаев, чтобы обеспечить его своевременное появление в свет, день и ночь работал в типографии вместе со своими помощниками; там они провели и сочельник. Ночные заседания продолжались в течение всей работы съезда. Ночи напролет просиживал Докучаев над редактированием и правкой дневников съезда. Его верный помощник, служитель университетского минералогического кабинета Мокей Находкин безостановочно совершал рейсы в типографию и обратно, а наутро участники съезда получали пахнувшие свежей типографской краской дневники с изложением докладов.
Докучаев, ставший из секретаря распорядительного комитета секретарем съезда, руководил всеми его работами. Он добился большой принципиальной победы: обычно съезды русских естествоиспытателей и врачей носили несколько академический характер, – так называемые «прикладные» науки, за исключением медицины, на съезд не допускались. Преодолев сопротивление «академистов», ученый добился создания на съезде агрономической секции; успешные работы этой секции, привлекшие всеобщее внимание, прошли под знаком сплошного триумфа учителя и его учеников. Они сделали около половины всех докладов, заслушанных на секции. Докучаев выступил с блестящим сообщением «О главнейших результатах почвенных исследований России за последнее время». Сибирцев прочитал лекцию, в которой подвел итоги почвенным и естественно-историческим исследованиям, проведенным докучаевцами в Нижегородской губернии. П. Земятченский сообщил об основных почвенных типах. На агрономической секции были заслушаны агрохимические и агрономические доклады, но «основной тон» задавали почвоведы. А. Н. Энгельгардт, следивший за ходом съезда по дневникам, сердечно благодарил Докучаева за то, что он и его почвоведы «выручили» молодую агрономическую секцию, завоевавшую на съезде все права гражданства.
С большим интересом съезд прослушал доклад известного петербургского агронома В. И. Ковалевского – «Запросы современного сельского хозяйства к естествознанию». О почвоведении Ковалевский сказал: «Говоря об этой основе всего сельского хозяйства, я должен прежде всего назвать имя профессора Василия Васильевича Докучаева, с которым связаны главнейшие за десять лет успехи в области географического, естественно-исторического и отчасти экономического изучения русских почв. Новизна методов, обилие добытых фактов, оригинальность и важность выводов характеризуют его работы. Ему же принадлежит громадная заслуга – создание целой школы почвоведов». Это была первая широкая оценка русского почвоведения и роли в нем Докучаева с точки зрения сельского хозяйства, оценка, произнесенная с трибуны съезда.
Значение VIII съезда естествоиспытателей и врачей, разумеется, не исчерпывалось популяризацией работ агрономической секции. Как на общих собраниях съезда, так и на заседаниях всех десяти секций был сделан ряд прекрасных докладов по всем отраслям естествознания.
Крупнейший русский физик А. Столетов сделал доклад «Эфир и электричество», геолог А. Иностранцев – «Изменение земли как следствие ее происхождения», в котором изложил дальнейшее развитие теории происхождения земли Канта – Лапласа. Известный географ Д. Анучин в своем сообщении обосновал необходимость совместной работы географов, этнографов и представителей смежных наук. На съезде со всей очевидностью обнаружились преимущества комплексных работ докучаевцев по исследованию целых губерний. На секции физики с докладом «К теории летания» выступил создатель аэродинамики H. E. Жуковский.
На съезде принимали участие выдающиеся представители русской науки: Д. Менделеев, А. Бекетов, А. Карпинский, Н. Склифасовский, П. Костычев, Н. Зелинский и другие.
Особое внимание привлекла лекция Тимирязева – «Факторы органической эволюции», представлявшая яркую и страстную пропаганду идей Дарвина. В эти годы во всей мировой науке, в том числе и русской, шла ожесточенная борьба за утверждение идеи эволюции. Тимирязев использовал каждую трибуну для борьбы с метафизикой, которая занимала столь прочные позиции в русской Академии наук того времени, что академики даже получали премии за свои работы против дарвинизма. Публицист Н. Страхов и зоолог Н. Данилевский травили в печати Дарвина и всех его русских последователей и в первую очередь Тимирязева. Но ни один антидарвинист не решился выступить на съезде против Дарвина и Тимирязева. Докучаев, сторонник Дарвина и Тимирязева, намечая программу съезда, обратился к Тимирязеву с просьбой выступить на общем собрании съезда. Это была действенная помощь Докучаева эволюционному учению, которое он сам так мастерски пропагандировал в своих работах.

К. А. Тимирязев.
Русская наука до того времени не знала съездов подобного масштаба и значения. В работах съезда принимали участие 2 224 делегата. Оживление, подъем, рабочее настроение участников съезда были лучшей наградой Докучаеву за все труды, хлопоты и бессонные ночи, за то титаническое напряжение, которое потребовалось для организации и проведения смотра русской науки.
Делясь своими впечатлениями с Измаильским, Докучаев рассказывал ему о последствиях страшного напряжения, с которым приходилось работать во время съезда. «12 января, – писал Докучаев, – по совету врача я уехал в деревню, где не мог ни читать газет, ни писать писем, даже не мог телеграфировать, – до такой степени настала у меня апатия к печати и письму. Можете себе представить, я потерял всякий вкус к газетам! Успех съезда создал мне массу врагов, но зато, правда, и множество успехов».
Отличие VIII съезда русских естествоиспытателей и врачей от всех предыдущих заключалось прежде всего в победоносном утверждении эволюционных взглядов в области биологии, геологии, почвоведения. Пропаганда идеи комплексности в научных исследованиях, обоснование необходимости комплексного естественно-исторического исследования природы были логическим следствием утверждения естественно-исторического метода.
И, наконец, итогом съезда было торжество почвоведения – новой науки, впервые официально выступившей перед многолюдной аудиторией ученых.
На общем собрании съезда Докучаев выдвинул предложение о проведении всестороннего исследования столицы страны – Петербурга. Предложение Докучаева, как всегда, было тщательно разработано и характеризовало отношение Докучаева к объединению ученых сил, организации коллективных, комплексных научных работ. Докучаев добился поддержки своего предложения, и тут же на съезде видные представители всех отраслей знания вошли в созданную и возглавленную Докучаевым комиссию. Свыше восьмидесяти ученых приступили к чподготовке исследования Петербурга и его окрестностей «в естественно-историческом, физико-географическом и сельскохозяйственном отношениях». Проект, разработанный Докучаевым, предусматривал широкую программу санитарных исследований. Докучаев хотел произвести подробное изучение столицы, для того чтобы на его основе можно было осуществить планомерную перестройку всех условий жизни населения города в соответствии с передовыми научными воззрениями. Одной из первых, по мнению Докучаева, практических задач, которую следовало осуществить, была борьба с наводнениями, причинявшими много бед столице. Но комплексное исследование Петербурга было явно не по силам царскому правительству. Несмотря на успешную подготовительную работу комиссии, собравшей большие научные материалы и выпустившей первый том «Трудов» объемом в тридцать печатных листов, правительство «не сочло возможным» отпустить средства на эту работу.