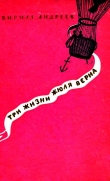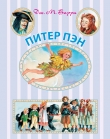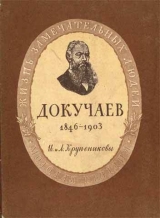
Текст книги "Докучаев"
Автор книги: Игорь Крупеников
Соавторы: Лев Крупеников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Среди ученых, интересовавшихся проблемами почв, были не только последователи теории Докучаева, но и многочисленные ее противники. В Вольном экономическом обществе сложилась даже целая «антидокучаевская» группировка, в которую входили ученые и агрономы. Одни, стоя на позиции узкого утилитаризма, вообще считали излишним тратить время и средства на решение таких вопросов, как происхождение чернозема. Другие были против докучаевского направления на том основании, что за границей ничего подобного не делается. Эти бездарные царские чиновники, гонители передовой русской науки, раболепствовали перед иностранщиной, преклонялись перед немецкой агрономией и не допускали возможности создания своей, русской науки о почве. Третьи были против прогресса науки, считая, как, например, агроном Заломанов, что ничего принципиально нового в изучении чернозема и почв вообще Докучаев не только не дал, но и не мог дать, так как его предшественники сказали уже в этой области последнее слово. Но Докучаева поддерживали его молодые ученики, а также многие крупнейшие русские ученые, представители разных отраслей науки: Д. И. Менделеев, А. П. Карпинский, А. Н. Бекетов, А: В. Советов, А. И. Воейков.
Несмотря на поддержку таких авторитетов, научная борьба, которую приходилось вести Докучаеву со своими противниками, была очень жестокой. Вот что вспоминает по этому поводу один из учеников Докучаева – профессор П. А. Земятченский:
«Работы Василия Васильевича и его доклады, главным образом в Вольном экономическом обществе, всегда вызывали целую бурю возражений, страстных дебатов. Он был новатор и должен был встретить многочисленные препятствия, воздвигаемые рутиной, непониманием, завистью и личными отношениями. Собрания Вольного экономического общества, в которые назначался какой-нибудь доклад Василия Васильевича, всегда были многолюдны. Собирались не только интересовавшиеся предметом, но и те, которые любили смотреть на состязания. А зрелище было действительно необычайное: десять против одного. Борьба была отчаянная. Но для ищущих истину уже тогда было очевидно, чья сторона возьмет». Из этих баталий Докучаев извлекал пользу, прислушиваясь к мнению всех своих противников. После того как оппоненты упрекнули Докучаева в недостаточном знакомстве с сельским хозяйством, он основательно занялся изучением агрономии и практических нужд русского сельского хозяйства.
Особенно большое значение имела жесткая, но в конечном итоге полезная критика со стороны Костычева, который толкал Докучаева на постоянное углубленное изучение сельского хозяйства России вообще и ее черноземной полосы в особенности. В известной мере благодаря этому Докучаев сумел стать не только почвоведом и геологом, но и крупнейшим знатоком сельского хозяйства. Недаром в наши дни Докучаев наравне с Костычевым и Вильямсом всенародно признан «виднейшим русским агрономом».
Почвоведение в эти годы только рождалось, и Докучаеву еще очень многое в этой новой науке было неясно. Борьба, разгоравшаяся при обсуждении его работ, заставляла Докучаева искать и находить все новые доказательства правильности своей теории; эта борьба способствовала кристаллизации основных положений новой науки.
Утверждение почвоведения проходило в непрерывном преодолении бесчисленных препятствий. Помехи возникали на каждом шагу. Докучаеву было отпущено мало средств на проведение полевых работ, не было лабораторий для анализов, почти всю работу приходилось выполнять самому; при пересечении необъятных пространств русской земли нужно было преодолевать бездорожье, распутицу.
Не так тяжела была борьба Докучаева с научными авторитетами, хотя ему пришлось опровергнуть свыше десяти неверных теорий. Больше сил отнимали могущественные ненаучные противники – бюрократы, противодействовавшие развитию русской науки. Но недаром великий русский ученый физиолог Иван Петрович Павлов, умевший и любивший преодолевать препятствия, говорил, что для достижения цели самое важное – наличие препятствий. И тот, кто хочет достичь цели, должен научиться преодолевать препятствия.
Осенью 1883 года работа Докучаева «Русский чернозем» вышла в свет. Это была фундаментальная книга, содержащая более тридцати печатных листов текста, много иллюстраций и огромное количество аналитических данных. В истории почвоведения это была первая законченная, насыщенная фактическим материалом и в то же время глубоко теоретическая работа. В ней было доказано, что почва – своеобразное тело природы, которое должно стать объектом самостоятельной науки. В ней был дан метод полевого описания почв – тот классический метод, которым мы пользуемся поныне. Значение книги Докучаева можно вполне сравнить со значением «Основных начал геологии» Ч. Ляйеля или с «Происхождением видов» Ч. Дарвина.
Высокую оценку «Русскому чернозему» дал выдающийся продолжатель Докучаева академик Василий Робертович Вильямс:
«В. В. Докучаев впервые в истории почвоведения произвел обстоятельное систематическое, по определенному плану, обследование целой обширной области; он имел, дело не со случайными образцами почв, не с отдельными факторами развития почв, а со всей совокупностью факторов, и не только не растерялся в обилии фактов, которые он имел перед собой, а чем больше он добывал их, тем полнее, шире и увереннее становились его мысли, тем обоснованнее становились те закономерности, которые он устанавливал. Могло случиться так потому, что он умел видеть закономерную связь явлений, что почву он стал рассматривать как природное развивающееся тело…»
В книге Докучаева был разрешен вековой вопрос о происхождении чернозема и дано систематическое описание почв всей черноземной полосы России. В первой части своего труда Докучаев дал описание всех своих маршрутов по степям и лесам, почвенных разрезов и геологических профилей: от своего родного села Милюкова до южного берега Крыма и предгорий Кавказа и от Бессарабии до заволжских степей. Это был полный почвенный справочник и путеводитель по черноземной полосе Европейской России. Чисто географические достоинства этой части работы настолько велики, что если бы Докучаев остановился на ней, то и тогда его заслуга была бы бессмертной. Но он пошел дальше.
Основное содержание его работы заключено в последних трех главах: «Происхождение растительно-наземных почв», «Строение чернозема, его мощность и отношение к рельефу местности», «Возраст чернозема и причины его отсутствия в северной и юго-восточной России». В этих главах Докучаев решал многие опорные вопросы черноземной проблемы.
Прежде всего он неопровержимо установил, что чернозем не может образовываться под лесной растительностью, как полагали сторонники теории лесного чернозема; что по природе своей это почва степная, в лесах же образуются почвы иного строения, со значительно меньшим содержанием гумуса. Далее Докучаев показал, что чернозем может образовываться на всякой породе, а не только на лессовых отложениях. И, наконец, доказал, вопреки воззрениям Рупрехта, что климат оказывает огромное влияние на характер почвы. В связи с этим Докучаев писал:
«Представим себе три местности с одинаковыми (приблизительно, конечно) условиями грунта, рельефа и возраста, пусть они одновременно сделаются жилищем одних и тех же растений. Но предположим затем, что одна из них находится в той полосе России, где чувствуется сильный недостаток метеорных [14]14
Атмосферных.
[Закрыть]осадков и сравнительный избыток теплоты и света, где лето длинное, а зима короткая, где растительный период хотя и носит на себе характер энергичный, но он весьма непродолжителен, где суховей в течение двух-трех суток высушивает колодцы и спаляет растительность, где нет льду, мало рек и сильное испарение; другая местность пусть залегает в том районе России, где существует (относительно) избыток влаги, много лесов и болот, где чувствуется недостаток теплоты, где зима продолжается 6–7 месяцев, а теплое время 3–4, где испарение очень слабое, где почва всегда более или менее сыра; наконец, третий участок помещается в такой полосе России, где климатические условия занимают как раз середину между двумя упомянутыми крайними случаями. Как известно, такие примерные предположенные нами климатические особенности довольно близко соответствуют: а) северной, б) крайней южной и крайней юго-восточной России и в) лучшим (средним) частям нашей черноземной полосы, причем, конечно, между ними существует целый ряд переходов. Спрашивается, мыслимо ли, чтобы при таких существенно различных условиях образовались бы одинаковые растительные почвы? Конечно, нет».
Осенью 1883 года Докучаев защищал свою работу о русском черноземе в качестве докторской диссертации. Этот, как тогда говорили, докторский диспут привлек исключительное внимание ученых кругов Петербурга. Торжественный большой актовый зал университета едва вмещал всех желающих присутствовать на диспуте. По словам ученика Докучаева А. Р. Ферхмина, «противники готовились «зарезать» автора «Русского чернозема»… Мы, ближайшие сотрудники учителя, ждали грядущих событий и с любопытством, и с некоторым невольным замиранием сердца, и все-таки с уверенностью, что Василий Васильевич себя в обиду не даст». Официальными оппонентами Докучаева были: его учитель, геолог, профессор А. А. Иностранцев и великий русский ученый Д. И. Менделеев. Последний среди петербургских ученых того времени считался особенно серьезным оппонентом, на диспутах он был грозой магистрантов и докторантов, которых часто ставил втупик неожиданностью и оригинальностью своих возражений. Но на этом диспуте Иностранцев и Менделеев были полностью на стороне соискателя и чрезвычайно высоко оценивали его работу. После Менделеева взял слово профессор-агроном П. А. Костычев, обладавший блестящей эрудицией в вопросах плодородия почвы. Он подверг разбору и критике высказанную в труде Докучаева идею о влиянии климата на образование почвы. Один из участников докторского диспута вспоминал впоследствии: «Докучаеву было нелегко отражать эти нападения, но его выручали уверенность в своей правоте и подробное знакомство со свойствами и распределением почв, приобретенное во время многочисленных экскурсий во всех концах России».
Споря по отдельным пунктам с Докучаевым, Костычев вместе с тем соглашался с целым рядом выводов докторанта и прежде всего с тем, что чернозем – почва степная, она не может образоваться под лесом. Костычев отметил, что в своих исследованиях чернозема Докучаев «сделал все, что можно было сделать при данных условиях». После Костычева выступил Заломанов, защищавший старую болотную гипотезу происхождения чернозема. Его возражение Докучаев опроверг блестяще и без особого труда. Диспут продолжался около четырех часов. По окончании диспута декан факультета, известный химик, профессор Н. Меншуткин, покивав, по обыкновению, вопросительно в сторону каждого члена факультета, получил молчаливый положительный ответ и торжественно объявил Докучаева доктором геогнозии и минералогии. Долго не смолкавшими аплодисментами, присутствовавшие поздравляли Докучаева.
Это был заслуженный триумф не только молодого «доктора геогнозии», но и молодой науки почвоведения. Триумф этим не исчерпался: Академия наук присудила Докучаеву за работу «Русский чернозем» Макарьевскую премию – высшую академическую награду того времени, а Вольное экономическое общество поднесло Докучаеву особый благодарственный адрес, заканчивающийся словами: «Вольное экономическое общество положило принести Вам от своего лица торжественную и глубокую благодарность, выражая надежду, что Вы и впредь не откажетесь приложить Ваши столь еще свежие силы, Ваши знания и опытность на славу Общества и на пользу России».
Казалось бы, победа была полной… Но парадная сторона не полностью отражала положение дел. Благодарственный адрес на собрании общества был принят далеко не единогласно, против поднесения Докучаеву адреса голосовало 19 человек, а за месяц до докторского диспута Докучаева ревизионная комиссия Вольного экономического общества в своем решении записала: «Ввиду сделанных уже Обществом значительных затрат по исследованию чернозема и сомнительной пользы их, комиссия полагает излишним всякие дальнейшие затраты на этот предмет и оставшиеся от ассигнованных на исследование образцов чернозема 362 руб. 90 коп. перечислить к запасному капиталу». Борьба Докучаева за утверждение новой науки только начиналась…
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«Только после того, как наука овладеет почвой, как естественно-историческим телом, будет расчищено и подготовлено поле для эксплоатации ее».
В. В. Докучаев.
Еще в 1880 году, вскоре после защиты магистерской диссертации» Докучаев получил кафедру минералогии и кристаллографии Петербургского университета, которой он руководил сначала в качестве доцента, а затем профессора. По складу своего характера Докучаев мало походил на кабинетного ученого. «Василий Васильевич, очевидно, был прирожденным натуралистом, – говорил впоследствии академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, – но и как натуралиста Докучаева манила к себе не лаборатория, а полевая работа, сама природа». Занять эту кафедру Докучаев согласился потому, что необходимо было создать базу для проведения опытов и анализов, иметь свою лабораторию и кабинет для обработки все возраставшего количества материалов, собираемых во время ежегодных экспедиций. Об организации кафедры почвоведения рано было думать: почвоведение еще не признавалось самостоятельной наукой. Научные общества были бедны, и на исследования чернозема Докучаеву выделяли такие ничтожные средства, что выполнять всю работу ему приходилось почти одному.
Ученый предвидел масштабы исследований, необходимых для обоснования основных положений новой науки. Нужны были помощники, ученики. Докучаев надеялся найти их среди своих студентов. Будучи превосходным лектором, он не без основания рассчитывал привлечь и заинтересовать их своей работой. Курс лекций Докучаева был посвящен минералогии и кристаллографии. Эти лекции не могли, конечно, привести к появлению среди студентов энтузиастов почвоведения, но талант и обаяние лектора привлекли внимание молодежи к самому создателю новой науки. Лекции Докучаева начинались в девять часов утра, и аудитория обыкновенно была переполнена. Один из учеников Докучаева вспоминает, как, живя, подобно большинству студентов, на окраине города, он поднимался в семь часов утра и торопливо пускался в путь, чтобы во-время поспеть на лекцию по кристаллографии. Нередко у здания университета он обгонял высокого человека в большой меховой шапке, с поднятым бобровым воротником и с пледом на руке, шагающего спокойно и несколько тяжеловато. Когда на кафедре появлялся крупный, чуть не в сажень ростом, человек, одетый в неизменный черный сюртук, всегда застегнутый на левый борт, в аудитории наступала абсолютная тишина. Ученик Докучаева П. В. Отоцкий говорил об этих первых лекциях: «Мысли и факты, всегда ясные и точные, сами собою, помимо воли, укладываются в голове в стройном порядке и действуют с неотразимой убедительностью. Обаятельны были не столько факты и мысли, сколько самый процесс легкого усвоения их и особенно та таинственная сила, присущая лишь крупным и сильным людям, которая невольно заставляет их слушать и каждому пустяку придает какое-то особенное значение и важность. Из моих учителей я знаю еще только одного, обладающего таким же даром убеждения, – Дмитрия Ивановича Менделеева».
Вскоре параллельно с кристаллографией Докучаев начал читать специальный необязательный курс «О выветривании горных пород». Его можно на* звать первым курсом почвоведения, в котором излагались основы создаваемой дисциплины. Новый предмет собирал не менее обширную аудиторию, чем кристаллография. Аудитория, слушавшая первый курс почвоведения, дала Докучаеву первых учеников и сотрудников.
Их помощь понадобилась Докучаеву очень скоро. Осенью 1881 года, когда он еще заканчивал работу по оформлению «Русского чернозема», к нему обратилось Нижегородское губернское земство с предложением: «взять на себя определение во всей губернии качества грунтов (термин «почва» не был тогда еще общепризнанным. – Авторы)с точным обозначением их границ». Цель этого определения была чисто фискальная [15]15
Фискальный– относящийся к интересам фиска – государственной казны.
[Закрыть]. Губернское земство намеревалось установить поземельный налог в соответствии с навой оценкой почвы. Но тем не менее это предложение свидетельствовало о большой победе, одержанной новой наукой. Нижегородское земство сочло недостаточным устарелый статистический метод оценки земель и решило положить в основу такой оценки естественно-научное исследование почв целой губернии.
Работа, предложенная Нижегородским земством, была чрезвычайно заманчивой, но вместе с тем заключала в себе огромные трудности. Подобные исследования никогда и нигде раньше не проводились, готового метода исследования почв не существовало, его надо было вырабатывать в ходе самих исследований; не было, кроме самого Докучаева, ни одного настоящего почвоведа, их тоже нужно было создавать. Трудностей всякого рода было очень много. Но работа большого масштаба давала возможность проверить ряд теоретических положений, нуждавшихся в практическом подтверждении, выработать методы и приемы подобных исследований, которые, как предвидел Докучаев, надо будет в дальнейшем осуществлять на всей территории России. Средства, выделенные земством, были невелики, но они намного превосходили ге ничтожные пособия, которые могли выделить ученые общества. Задача, поставленная земством, была очень узка, но попутно можно было решить многие интересовавшие ученого проблемы. На этой работе могли сформироваться и закалиться ученики, будущие ученые.
После долгих колебаний Докучаев принял предложение земства и с весны 1882 года начал готовиться к экспедиции. В первую поездку он решил взять с собой трех студентов последнего курса университета: Н. М. Сибирцева, П. А. Земятченского и А. Р. Ферхмина. Докучаев долго присматривался к этим студентам, замечал на лекциях их внимательные лица и неподдельное увлечение новой наукой. Он проверял их способности не только на экзаменах, но и в повседневной работе. Однажды Докучаев зашел в студенческую лабораторию, сел на стул «верхом», глубоко затянулся папироской и на минуту задумался. Студенты, не привыкшие к подобному поведению Докучаева, который обычно никогда в лаборатории не задерживался, насторожились.
– Есть работа, – сказал Докучаев, – надо ехать в поле, на исследование. Поедете?
– Куда?
– В Нижегородскую губернию.
Это предложение было так неожиданно и вместе с тем настолько соблазнительно, что все трое, ни минуты не размышляя, ответили согласием.
Докучаев тут же очень коротко, но с исчерпывающей полнотой рассказал студентам о предстоящих исследованиях, сообщил список литературы, которую нужно было прочитать перед отъездом, и продиктовал подробный перечень предметов, необходимых для снаряжения. Видно было, что Докучаев уже все продумал и наметил заранее. Первый решающий разговор занял всего лишь несколько минут.
В весенний воскресный день Докучаев выехал со своими учениками за город, в Парголово, сделал несколько почвенных разрезов, заставил студентов сделать такие же разрезы самостоятельно и, как всегда кратко, объяснил приемы записи наблюдений. Так закончилась подготовка к экспедиции.
Наступили каникулы. Докучаев собрал своих помощников, придирчиво проверил снаряжение, заставил беспечных студентов пополнить его тулупами, роздал им специально написанный «катехизис» – инструкцию по сбору образцов, и четверка отправилась в путь.
Природа Нижегородской губернии представляет собой сложный, но исключительно благодарный объект для исследования натуралиста. Волга делит весь край на правобережные «горы» и левобережные «леса» – по определению знаменитого бытописателя этих мест Мельникова-Печерского. На юге губернии, откуда Докучаев начал свои работы, участники экспедиции любовались картиной цветущих холмов, долин и зеленых волнующихся полей. Здесь северная граница черноземно-степной полосы. Дальше на север облик природы резко изменяется. На смену степям и дубравам появляются березняки, осинники, а в северном Заволжье, на подступах к предуральской тайге, стоят плотной стеной стволы столетних елей, возвышаясь над непроходимым «ветровалом», как здесь называли бурелом.
Такие же частые и пока необъяснимые перемены являл собой почвенный покров края. «Изучая Нижегородскую губернию с юга на север, – говорил Докучаев, – мы встречали все новые и новые почвенные типы».
Это было нечто новое по сравнению с относительно однотипной черноземной полосой, и именно здесь Докучаев окончательно осознал, что для выяснения закономерностей в изменении характера почвы нужно тщательно изучать не только почву, но и все остальные элементы природы.
Прежде всего Докучаев познакомил своих спутников с геологией края. Он повез их по берегу живописной реки Пьяны к знаменитой Барнуковской пещере. Эта пещера издавна привлекала внимание естествоиспытателей своей величественной красотой и возможностью изучения в ней геологических особенностей края.
Оставив лошадей, путешественники двинулись тесным извилистым оврагом к входу в пещеру. Узкая тропа привела их к сверкающей на солнце громадной беловато-розовой отвесной скале; у основания скалы виднелось темное отверстие, имевшее четыре метра в высоту и больше шести в ширину. Через эти ворота путешественники вступили в недлинный, постепенно суживающийся коридор, потолок которого подпирали три естественные бело-розовые колонны из идеально чистого алебастра. Коридор приводил в огромный подземный зал, своды которого терялись в полумраке. Один из спутников Докучаева высек огонь, и тысячи звезд вспыхнули, переливаясь на стенах и сводах, освещая причудливые глыбы алебастра, колонны и перекладины, построенные природой из гипса. Дно пещеры было покрыто слоем вязкой глины и усеяно корнями и сучьями – следы ежегодных весенних разливов реки. Воды Пьяны с силой устремлялись в пещеру и терялись бесследно в ее недрах, уходя, по выражению местных жителей, в «сквозьземелья». Докучаев и его молодые спутники проследили в пределах возможного путь этих весенних вод. В глубине пещеры они обнаружили два небольших водоема с прозрачной, как хрусталь, водой. Над одним из водоемов в нависшей гипсовой стене виднелось небольшое, меньше метра диаметром, отверстие, ведущее в другую пещеру, где находился третий водоем, – туда-то и устремлялся весенний паводок, теряясь в новых пустотах и подземных озерах. Путешественники долго любовались этим удивительным творением природы. Докучаев тонко чувствовал природу, и хотя меньше всего был пассивным созерцателем, красота природы была для него постоянной и необходимой зарядкой для напряженной работы.

Автограф В. В. Докучаева.
Докучаев предложил своим ученикам собрать образцы гипса, глины и остатков растений в пещере. Он хотел дополнить и исправить те выводы, которые сделали его предшественники – Паллас, Мурчисон и другие, изучавшие Барнуковскую пещеру. Простое знакомство с трудами предшественников его никогда не удовлетворяло – он всегда считал необходимым проверять их выводы на месте исследований. Осматривая пещеру, он в короткой лекции воссоздал перед своими спутниками картину геологического прошлого края. Такие импровизированные лекции Докучаева оставляли у слушателей неизгладимое впечатление.
Ученик Докучаева, академик В. И. Вернадский, говорил о необыкновенной способности своего учителя творчески воссоздавать картины прошлого природы: «По складу своего ума Докучаев был одарен совершенно исключительной пластичностью воображения; по немногим деталям пейзажа он схватывал и рисовал целое в необычайно блестящей и ясной форме. Каждый, кто имел случай начинать свои наблюдения под его руководством, несомненно, испытывал то же самое чувство удивления, какое помню и я, когда под его объяснениями мертвый и молчаливый рельеф вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные указания на генезис и на характер геологических процессов, совершающихся и скрытых в его глубинах».
Осмотр и изучение Барнуковской пещеры дали молодым исследователям яркое представление о геологическом строении края и послужили хорошим введением к новой и трудной работе, которую поручал им их руководитель.
Покинув «штаб-квартиру» экспедиции, помешавшуюся в городе Княгинине, каждый исследователь должен был отправиться самостоятельным маршрутом, останавливаясь через определенное расстояние, чтобы сделать почвенный разрез, подробно описать его по слоям и взять образцы почв. Докучаев успевал вести почвенные исследования и постоянно наезжать к каждому из своих молодых сотрудников, чтобы проверить на месте их работу и поделиться с ними своими наблюдениями.
Работа нижегородской экспедиции осложнялась многочисленными помехами. Юго-восточная часть Нижегородской губернии представляла собой глухой, бедный район, где крестьяне после так называемого «освобождения» влачили жалкое существование. Здесь же сохранились поместья ярых крепостников, не желавших забывать крепостные порядки. Время было тревожное. В минувшем 1881 году народовольцы убили Александра II. В народе шло брожение. Настроение крестьян волновало помещиков.
Несмотря на то, что работа экспедиции выполнялась по поручению земства, многие помещики относились к ней враждебно и часто чинили экспедиции препятствия. Владелец обширного поместья на берегу Пьяны, недалеко от Барнуковской пещеры, встретил молодого исследователя А. Ферхмина словами, полными злобы и невежества: «Что, приехали мужиков мутить? Как же, слышали… Землю забираете в мешочки да с собой увозите, а потом там разберутся, где земля получше, да мужикам и отдадут. Вы знаете, что на вас мужики смотрят именно так? И что ваше появление теперь, после всяких толков о переделе, поднимает среди них новые разговоры и ожидания. Да, надумали, нечего сказать, доброе дело». Помещик даже не пригласил зайти к себе уставшего за долгий день работы исследователя, и Ферхмин нашел ночлег в деревне, у крестьян, которые поразили его своей забитостью и бедностью. Большинство из них просило об одном – брать образчики почв с участков похуже: «Детки и внуки за вас богу молиться будут. Ведь с лучшей земли и налогу придется платить больше, да сколько годов. Когда-то еще новая ревизия земли будет».
Докучаеву приходилось выручать своих молодых помощников, вести разговоры с уездным начальством, посещать помещиков, разъяснять им цели и задачи экспедиции, устраивать лекции-беседы о научном и, главное, практическом значении исследования и добываться благосклонного отношения к работе экспедиции.
Докучаев неизменно поднимался на рассвете и уезжал на целый день в поле, где успевал сделать больше, чем любой из его учеников. Необычайная работоспособность учителя и умение полностью отдаваться делу увлекали его учеников. За несколько летних месяцев они под влиянием Докучаева стали такими же одержимыми исследователями почв, как и он, – их жизненный путь был предрешен. Летом 1882 года появились первые ростки докучаевской школы. Первые месяцы летних полевых исследований обогатили молодых ученых опытом, выработали у них навыки самостоятельной работы, приучили бороться с трудностями и невзгодами неустроенной полевой жизни.
Из трех помощников Докучаева почти сразу же выделился Николай Михайлович Сибирцев. В первые недели работы Докучаев довольно часто наведывался на те участки, которые должен был исследовать Сибирцев. Сибирцев показывал своему руководителю почвенные разрезы по берегам Пьяны и тут же на месте читал ему записи из полевого журнала. Докучаев придирчиво осматривал разрез, очень внимательно слушал подробные описания, сделанные Сибирцевым, и, как правило, одобрительно кивал головой. С первых же шагов научной деятельности Сибирцев проявил такое влечение к работе, так быстро и легко осваивал все приемы и навыки почвенных исследований, так верно выбирал наиболее типичные участки для почвенных разрезов, что Докучаев все с большим уважением и симпатией относился к этому двадцатидвухлетнему выпускнику университета.

H. M. Сибирцев.
Учитель и ученик двигались от одного разреза к другому; иногда, обнаружив какой-нибудь своеобразный участок почвы, совместно производили новый разрез, и в полевом дневнике появлялась их коллективная запись – результат подробного и горячего обсуждения всех особенностей участка.
Случайные прохожие, вероятно, с немалым удивлением глядели на этих двух людей, споривших о чем-то у свежевырытой ямы. Трудно было бы представить себе более контрастные фигуры: высокий, плотный Докучаев с окладистой седеющей бородой, одетый в просторный сюртук, и маленький, худощавый Сибирцев, в белом картузе и белой холщевой рубахе навыпуск, с еле пробивающейся реденькой бородкой. Низкий бас Докучаева, уверенно и несколько медлительно высказывавшего свои мысли, и торопливый, на высоких нотах, голос Сибирцева, говорившего запальчиво и горячо во всех случаях, когда дело касалось отстаивания научных взглядов.
После нескольких совместных походов Докучаев почти совсем перестал контролировать работу своего талантливого ученика и даже поручил Сибирцеву самостоятельное изучение природы целого уезда. Так началось научное содружество учителя и ученика, становившееся в дальнейшем все более тесным.
Сибирцев отличался необычайной скромностью, всегда преуменьшал свои научные заслуги, был на редкость отзывчивым человеком. Везде, где бы ни приходилось ему работать, товарищи относились к нему с исключительным уважением и любовью. Первыми оценили его по достоинству участники нижегородской экспедиции. Застенчивый, внешне несколько хмурый, прозванный товарищами «медвежонком», Сибирцев в тесном кругу друзей был душой общества. Вечерами на привалах он подбадривал уставших товарищей, острил, читал стихи, хотя сам уставал больше других – он не отличался крепким здоровьем, да и работал напряженнее остальных, следуя по стопам своего наставника.
Для Докучаева эти летние месяцы имели огромное значение. Впервые от индивидуальных исследований он перешел к коллективной научной работе, научился успешно направлять действия молодых, еще не опытных помощников. В ходе работ, обобщая приемы и навыки, вырабатывавшиеся каждым молодым участником экспедиции, он создавал стройный метод почвенных исследований.
Осень застала участников экспедиции в поле, недалеко от пушкинского Болдина. Здесь, на границе черноземно-степной полосы, среди широколиственных лесов и тихих, медленных рек – притоков Волги, они любовались осенней красотой края, который за несколько десятилетий до них, в знаменитую «Болдинскую осень», воспел Пушкин.