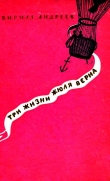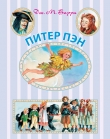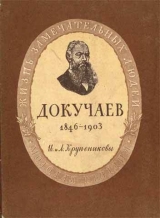
Текст книги "Докучаев"
Автор книги: Игорь Крупеников
Соавторы: Лев Крупеников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Приближалась зима, а с нею кандидатские экзамены, обработка собранных материалов. Компания студентов, возглавляемая Докучаевым, возвращалась в Петербург, увозя с собой толстые клеенчатые тетради полевых дневников и записей, образцы почв и горных пород.
Несмотря на обилие и ценность собранного материала, который сразу же был использован при завершении работы «Русский чернозем», Докучаев не был удовлетворен результатами первого экспедиционного года. В процессе работы стал ясен ее огромный масштаб и полная невозможность осуществить ее силами четырех человек, несмотря на всю их самоотверженность. Тщательное и всестороннее изучение почв губернии, превышавшей по своей территории площадь таких европейских государств, как Болгария или Дания, осложнялось чрезвычайным разнообразием природных условий. «Здесь, – говорил Докучаев, – что ни шаг, то перемена, что ни имение, то особенности, требующие для своего объяснения массы данных из самых разнообразных областей естествознания».
Но Докучаев не собирался отказываться от начатого им дела. Работа должна быть сделана, а для этого необходимо изменить весь характер деятельности экспедиции, резко увеличить число ее участников, привлечь к работе представителей различных областей естествознания.
Зимой, наряду с чтением лекций, подготовкой докторской диссертации и другими работами, Докучаев занялся заготовкой снаряжения для новой экспедиции, переговорами с земством по поводу увеличения денежных средств и поисками новых сотрудников. Тщательная подготовительная работа принесла свои плоды. Весной следующего года Докучаев выехал на место работ во главе значительного отряда исследователей; наряду с возросшим числом геологов и почвоведов в составе экспедиции были ботаники, химик, метеоролог, агроном. Таким образом, Докучаев организовал первую в истории русских научных экспедиций комплексную экспедицию для изучения природы большого края не с точки зрения какой-нибудь одной науки, а осуществлявшую всестороннее естественно-историческое изучение природы этого края.
Летние исследования 1883 года должны были производиться в районе Заволжья. Экспедиция двигалась к северу через непроходимые хвойные леса Приветлужья, болота-«зыбуны», покрытые мхами и осокой. Здесь, по берегам Керженца, места сказочных и исторических битв русских с татарами, скрывались раскольничьи скиты, здесь, по словам Мельникова-Печерского, «Русь исстари уселась по лесам и болотам».
Работать в этих местах было много труднее, чем на юге губернии, по берегам приветливой Пьяны и в окрестностях Болдина.
«Штаб-квартира» на этот раз была в захолустном лесном уездном городке Семенове. Участники экспедиции пробирались по заданным маршрутам в высоких болотных сапогах, закрыв лица сетками от комаров. Большую часть пути надо было мерить тяжелыми болотными сапогами, проваливаясь по пояс в «зыбуны», пережидая частые в этих местах летние ливни под крышей леса. Молодые исследователи забирались в самые гиблые места и иногда неожиданно для обитателей появлялись в каком-нибудь затерявшемся раскольничьем скиту. Старики-раскольники с опаской смотрели на непрошенного гостя, особенно если он появлялся после ливня в сухой, непромокшей одежде. Гостеприимно угощая молодого путешественника, они предусмотрительно ставили стол с едой к порогу, чтобы не пустить пришельца в «красный угол», под иконы. Помещики здесь были более недоброжелательны, чем на юге, и Докучаеву снова приходилось улаживать дела с уездным начальством. Работать было очень тяжело. Докучаев руководил большим отрядом людей. Но, как и в прошлом году, он работал больше всех и умел заставить работать других; не обращая внимания ни на проливные дожди, ни на болота, пи на комаров, появлялся он то на одном участке, то на другом. Все его сотрудники периодически должны были являться в «штаб-квартиру» и отчитываться о проделанной работе. Докучаев беспощадно браковал неаккуратно и небрежно выполненную работу.
Казалось, он не замечал недовольных лиц некоторых сотрудников и давал им все новые и новые задания, считая, что никто не должен отставать от руководителя, не отказывавшегося ни от какого дела. Молодые, неопытные исследователи не умели производить наблюдения с учетом всех составных элементов изучаемого участка природы. Сделав почвенный разрез, они при описании его часто не принимали в расчет особенности рельефа местности и растительности. С этим Докучаев неустанно боролся. Он не уставал повторять: «необходимо иметь в виду, по возможности, всю единую, цельную и нераздельную природу, а не отрывочные ее части, необходимо одинаково читать и штудировать все главнейшие элементы ее, иначе мы никогда не сумеем управлять ими». Постоянная пропаганда этого четко и ясно сформулированного положения материалистического естествознания составляет огромную заслугу Докучаева.
Когда беспощадная требовательность руководителя вызывала недовольство некоторых членов экспедиции, собиравшихся однажды даже оставить работу, Докучаев умел убедить малодушных в необходимости преодолеть все препятствия и напрячь до предела силы для того, чтобы завершить дело, нужное для родной страны. За несколько месяцев совместной работы ученики обнаружили замечательные качества у Докучаева. Он бывал беспощадно строг и даже деспотичен, но вместе с тем, более чем они сами, заботился об их ученой карьере, внимательно следил за ростом и успехами каждого и радовался любому смелому шагу и самостоятельному открытию ученика. Докучаеву была абсолютно чужда зависть к успехам своих помощников и склонность приписывать себе их открытия; наоборот, он при каждом удобном случае подчеркивал успехи и заслуги своих учеников: Сибирцева, Земятченского, Левинсон-Лессинга и других, часто умалчивая о своем участии в их работах. Ученики быстро оценили достоинства своего учителя и на всю жизнь связали с ним свою научную судьбу.
В те редкие вечера, когда все участники экспедиции съезжались в семеновскую «штаб-квартиру», Докучаев преображался: он собирал всю компанию за общим столом, был весел и остроумен, рассказывал о бурсацких похождениях, развлекал вернувшихся из тяжелого похода учеников рассказами о своих былых путешествиях во время зимних каникул, которые были куда тяжелее и опаснее. Такие вечера еще теснее сближали «нижегородцев», и к концу экспедиции они превратились в одну дружную семью, работавшую самоотверженно на пользу общему делу.
Это содружество особенно сплотилось зимой в Петербурге, в период обработки и анализа собранных материалов, составления и печатания отчетов. Центром этих работ был минералогический кабинет университета, ставший, как рассчитывал Докучаев, научной базой молодого почвоведения.
Обработка собранных материалов шла по детально разработанному Докучаевым плану. Каждый из участников экспедиции должен был сам обрабатывать свои дневники и записи в полевых журналах и с помощью химиков, метеорологов, ботаников, используя данные многочисленных анализов, составить полный отчет о всех особенностях почвы исследованного уезда. Докучаев давал сотруднику на такой отчет около полугода и сначала предоставлял ему полную свободу в распределении времени и в составлении плана исследований. Но через два-три месяца он осведомлялся о ходе дела, с помощью нескольких узловых вопросов уяснял себе состояние работы и умел так ее направить, что отчет появлялся во-время. Готовый отчет Докучаев детально разбирал вместе с автором, тут же внося поправки и дополнения. Лишь после второго чтения и одобрения отчет сдавался в печать. Так было с отчетом по каждому уезду и со всеми общими статьями. Значительное число статей и отчетов было написано самим Докучаевым. Он руководил и сдачей всего материала в печать, держал корректуру многих статей и с особенной тщательностью проверял составление карт.
Удивительный талант организатора и необычайная работоспособность Докучаева, а также самоотверженная работа всех сотрудников привели к тому, что «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии», составившие четырнадцать солидных томов, были закончены изданием в 1886 году – через четыре года после того, как трое студентов, руководимых молодым профессором, прибыли на берега живописной Пьяны.
Основные и непосредственные задачи, поставленные перед нижегородской экспедицией, были выполнены с исчерпывающей полнотой: четырнадцать томов «Материалов» включали в себя подробное поуездное естественно-историческое описание почв губернии и богатейшие обобщенные данные по ее геологии, климату, растительному и животному миру. Работ такого типа не знала до этого ни русская, ни иностранная наука. Только теперь, после завершения работы, Докучаев признался: «Говоря откровенно, не без сильных колебаний и сомнений я принял это лестное, но чрезвычайно сложное дело: трудности, предвидевшиеся впереди, казались почти непреодолимыми. У меня не имелось под руками готового, уже не раз испытанного метода. При начале исследования у нас не было ни одной более или менее пригодной почвенной классификации, не было даже мало-мальски сносной почвенной номенклатуры. Наконец, ввиду совершенной новизны дела представлялось немало затруднений и при отыскании вполне подготовленных помощников, тем более, что материальные средства, на которые можно было рассчитывать при исследовании губернии, были минимальные». Но молодые помощники не подвели. Докучаев подчеркивал: «Я ни на минуту не сомневался, что найду живейшее и всестороннее содействие со стороны наших молодых ученых. И здесь, к счастью, действительность превзошла мою веру». В предисловии к последнему тому «Материалов к оценке земель Нижегородской губернии» он «с особенной сердечной благодарностью» вспоминал об их «замечательно энергическом сотрудничестве».
Конечно, в нижегородских отчетах Докучаева и его учеников были недостатки, правда, вполне простительные для того времени, так как наука о почве лишь создавалась. Главным недостатком была слабая увязка полученных данных по природной характеристике губернии с требованиями сельского хозяйства. Это объяснялось как трудностями такой «увязки» вообще, так и на первых порах недостаточной осведомленностью участников экспедиции, да и самого Докучаева в вопросах сельского хозяйства. Однако можно смело сказать, что эти недостатки нижегородских отчетов восполнялись другими неоценимыми достоинствами.
В итоге работы над материалами нижегородской экспедиции окончательно сформулировалось основное положение учения о почве, как о самостоятельном природном теле, как о «четвертом царстве природы». Докучаев высказал это положение со свойственной ему сжатостью и ясностью:
«Почва – это такое естественно-историческое, вполне самостоятельное тело, которое, одевая земную поверхность сплошной темной (чернозем) или серой (северные дерновые почвы) пеленой, мощностью в 0,5–5 футов [16]16
15 – 150 сантиметров.
[Закрыть]является продуктом (иначе функцией) совокупной деятельности следующих почвообразователей (иначе почвенных переменных): а) грунта, б) климата, в) растительных и Живовых организмов, г) возраста страны, а отчасти и д) рельефа местности».
Как вывод из этого положения возник наказ ученикам и продолжателям: «…изучать почву нужно прежде всего и главным образом с естественно-исторической научной точки зрения, как изучают натуралисты любые минералы, растения и животных…»
Эту точку зрения надо отстаивать, за нее надо бороться соединенными силами молодых ученых со всеми устарелыми и косными представлениями, а также со сторонниками узкого утилитаризма. «Только после того, как наука овладеет почвой как естественно-историческим телом, будет расчищено и подготовлено поле для эксплоатации ее».
Эти выводы Докучаева, сделанные им на основе работ нижегородской экспедиции, нашли полную поддержку и дальнейшую разработку в наши дни в трудах академика В. Р. Вильямса, писавшего: «Самое важное в учении В. В. Докучаева о почве – это идея о том, что почва есть особое природное тело, отличное от горных пород, хотя и развивающееся из них. До тех пор, пока не был сформулирован этот принцип, не могло существовать и подлинной науки о почве. Только на основе этого принципа развилось современное генетическое почвоведение, играющее такую крупную роль в плановом социалистическом сельскохозяйственном производстве Союза ССР и вообще в разработке мер повышения и поддержания устойчивости плодородия почв».
Один из участников экспедиции, А. Р. Ферхмин, с достаточной полнотой впоследствии определил значение нижегородской экспедиции для Докучаева: «В эту именно эпоху окончательно сложились главнейшие взгляды его на почву и почвоведение; сформировался его характер как ученого и общественного деятеля; выработался учитель и руководитель молодежи; положено начало школы почвоведов, носящей его имя; найден и разработан метод естественно-научного изучения почв; выработана первая естественно-историческая классификация почв, обнимающая все главнейшие почвы Европейской России; широко поставлена и впервые выполнена задача всестороннего систематического изучения и описания более или менее обширной местности (целой губернии) в естественно-научном отношении».
Успех нижегородской экспедиции был полный. Докучаеву виделись впереди широкие горизонты научной и общественной деятельности, его силы удвоились от сознания победы, одержанной вопреки всевозможным затруднениям и препятствиям. Первым подтверждением всеобщего признания этой победы было предложение Полтавского земства провести подобное же исследование земель Полтавщины.
Работа над «Материалами к оценке земель Нижегородской губернии» окончательно сплотила во. круг Докучаева дружный научный коллектив. Докучаев меньше всего хотел видеть в учениках послушных технических исполнителей своих замыслов и предначертаний «Неотразимую прелесть в глазах его сотрудников-учеников, – вспоминал А. Р. Ферхмин, – имела возможность непосредственно участвовать в процессе творчества; каждый, кому поручалась та или другая работа, был уверен, что все, что ему удастся подметить, наблюсти или найти, тотчас же найдет себе применение, будет обсуждаться и, быть может, послужит материалом для новых обобщений, новых выводов».
Докучаев хотел видеть в учениках инициативных, творчески мыслящих ученых, способных на смелые обобщения и ломку косных взглядов. Он считал, что ежедневная кропотливая работа в лабораториях, анализ почвенных образцов, расшифровка дневников, если дело ограничивается только этим, не развивает способности охватывать широкие горизонты новой, едва нарождавшейся науки, а может превратить людей в исполнительных, но бескрылых «ремесленников от науки», как называл Докучаев такую породу ученых. Докучаев считал необходимым, особенно для молодых ученых, обмен мыслями, споры, свободное творческое общение в непринужденной обстановке. Он часто собирал у себя своих учеников и сотрудников всех специальностей, ученых и общественных деятелей – своих товарищей по университету и единомышленников, сплоченных общими взглядами на науку и ее значение для родной страны. Его квартира на первой линии Васильевского острова постепенно превратилась в нечто вроде ученого клуба. Кроме учеников – Н. Сибирцева, В. Вернадского, Ф. Левинсон-Лессинга, Г. Танфильева и многих других, здесь неизменно можно было встретить целую плеяду выдающихся ученых того времени: геолога А. Иностранцева, ботаника А. Бекетова, климатолога А. Воейкова, агронома А. Советова, экономиста и статистика А. Фортунатова, крупного общественного деятеля и разностороннего ученого А. Энгельгардта. Пестрое общество в несколько десятков человек располагалось группами в гостеприимных комнатах скромной квартиры. Часто было невозможно вместить всех гостей, и тогда они переходили в классные комнаты и зал пансиона, находившегося в этом же доме. Анна Егоровна была непременной участницей этих вечеров. Всегда приветливая и участливая, знавшая жизненные обстоятельства и невзгоды всех учеников и сотрудников своего мужа, она часто помогала им, доставала уроки, хлопотала вместе с мужем об устройстве их дел. Это была не только гостеприимная, внимательная хозяйка, но и друг учеников Докучаева. Она умела поддерживать в них то боевое настроение, которое было необходимо для борьбы за утверждение новых идей. Анна Егоровна свободно разбиралась в основных проблемах почвоведения и естествознания вообще, всегда была в курсе всех дел Докучаева и его друзей и поддерживала их во всех научных начинаниях.
Многочисленное общество, разбившись на отдельные группы, вело оживленные беседы по всем животрепещущим вопросам естествознания.
Нередко общим вниманием завладевал Александр Иванович Воейков – блестящий ученый-климатолог, географ и неутомимый путешественник. Ему было о чем рассказать! Автор классического труда, переведенного на многие языки, – «Климаты земного шаpa», – написанного в результате не только обобщения и изучения огромной литературы, но и на основе собственного знакомства с климатом и природой многих стран, – Александр Иванович Воейков своими рассказами необычайно расширял географический кругозор собеседников. Для молодых почвоведов это было очень полезно, так как почвоведение, особенно в тот период, было наукой в значительной мере географической.
Широтой своих научных интересов Воейков был близок Докучаеву. В числе других наук немало внимания уделял он и почвоведению, проблемы которого затрагивал во многих своих географических работах и специальных статьях. Первое время Воейков был научным противником Докучаева и возражал против его теории образования чернозема, называя ее «климатической». Но вскоре под влиянием доводов Докучаева Воейков понял, что теория Докучаева не является лишь климатической, а более широкой. Воейков согласился с этой теорией и стал убежденным сторонником докучаевского почвоведения.
Докучаев, в свою очередь, очень обогатил свои представления о фактах почвообразования из красочных рассказов Воейкова. Верная оценка роли и значения климата в образовании почв возникла у Докучаева под прямым влиянием его друга.
Научные интересы очень сближали Воейкова с Докучаевым, часто пользовавшимся материалами Воейкова для своих научных построений. Воейков также в своих трудах и учебниках по метеорологии ссылался на работы Докучаева, в том числе и на работы нижегородской экспедиции. Как раз в то время Воейков завершал работу над «Климатами земного шара», и первыми благодарными слушателями и ценителями избранных глав этой книги были докучаевцы. Известный советский географ академик Л. С. Берг, считающий своими учителями Докучаева и Воейкова, так охарактеризовал «Климаты земного шара»:
«Труд А. И. Воейкова есть плод ума, одаренного необычайной способностью схватывать причинные связи явлений, ума, чисто географического и необычайно разностороннего, изощренного как обширными путешествиями в разных частях света, так и изучением самой разнообразной литературы предмета. «Климаты земного шара» есть книга классическая, и какие бы успехи в будущем ни сделала климатология, чтение труда Воейкова всегда будет необходимо и вместе с тем приятно географу».
Хороший рассказчик и тонкий наблюдатель природы, Воейков нередко рассказывал о своих путешествиях и приключениях, и слушатели следовали за ним на берега великих озер Северной Америки, в знаменитую перуанскую пустыню Атакама, в тропические леса Явы. Эти путешествия были очень трудными и подчас опасными, хотя сам Александр Иванович повествовал об опасностях с немалой долей юмора.
Всеобщим уважением пользовался частый посетитель докучаевских вечеров Андрей Николаевич Бекетов – шестидесятилетний профессор университета, один из виднейших русских ботаников, много занимавшийся ботанико-географическим исследованием России. Почти все члены докучаевского кружка были учениками Бекетова – слушателями его курса. Бекетов был одним из первых в России пропагандистов и популяризаторов естествознания, являясь в этом деле предшественником Сеченова, Тимирязева, Докучаева. «Беседы о земле и тварях, на ней живущих», «Беседы о зверях» и другие популярные книги Бекетова, написанные образным простым языком, были в то время широко известны. Плодотворная учебно-воспитательная деятельность Бекетова оказала большое влияние на судьбу целого ряда русских ученых. Среди них на первом месте был Тимирязев, начавший свою научную работу в студенческом кружке, организованном Бекетовым в шестидесятые годы. «С глубокой благодарностью, – говорил впоследствии Тимирязев, – вспоминается дорогой для целого поколения петербургских студентов Андрей Николаевич Бекетов. В наши студенческие годы он собирал у себя студентов-натуралистов для чтения рефератов, научных споров и т. д.».

А. Н. Бекетов.
Со времени работы студенческого кружка, участником которого был Тимирязев, прошло около двадцати лет. Но Бекетов, несмотря на свой почтенный возраст, жил попрежнему интересами научной молодежи. Никого из членов докучаевского кружка не удивляло, что среди молодых задорных голосов звучит голос старого профессора. Длинные белые волосы, откинутые назад с высокого лба, окладистая белая борода, глубоко сидящие живые глаза, добродушная улыбка с хитрецой неаольно обращали на себя внимание каждого нового посетителя докучаевских вечеров.
Бекетов был горячим сторонником почвоведения; он поддерживал Докучаева в его начинаниях, выделял ему в помощь своих лучших учеников-ботаников для геоботанических исследований Нижегородской губернии.
Желанным гостем Докучаева был и Александр Николаевич Энгельгардт – известный ученый агроном и общественный деятель, постоянно проживавший в своем имении Батищево Смоленской губернии, куда он был выслан в 1870 году как «неблагонадежный». Энгельгардт, может быть, поневоле стал большим знатоком сельского хозяйства и жизни русской деревни. По просьбе M. E. Салтыкова-Щедрина Энгельгардт стал писать «Письма из деревни» для прогрессивного журнала «Отечественные записки». Эти «Письма из деревни», получившие положительную оценку В. И. Ленина, содержали яркие картины жизни пореформенной русской деревни.
Подробно проанализировав книгу Энгельгардта, В. И. Ленин в своей работе «От какого наследства мы отказываемся?» писал: «– В общем и целом, сопоставляя охарактеризованные выше положительные черты миросозерцания Энгельгардта (т. е. общие ему с представителями «наследства» без всякой народнической окраски) и отрицательные (т. е. кароднические), мы должны признать, что первые безусловно преобладают у автора «Из деревни», тогда как последние являются как бы сторонней, случайной вставкой, навеянной извне и не вяжущейся с основным тоном книги» [17]17
В. И. Ленин, Соч… т. 2, стр. 480, изд. 4.
[Закрыть].
В вышедшем в 1948 году XI томе «Архива Маркса и Энгельса» опубликован составленный Марксом приблизительно в конце 1873 года подробный конспект 3-й главы статьи Энгельгардта «Вопросы русского сельского хозяйства» (1872).
В этой главе ЭнгельгарДт разбирал вопрос: «Дороговизна ли рабочих рук составляет больное место нашего хозяйства?»
Энгельгардт настолько хорошо знал практические нужды сельского хозяйства, что Докучаев часто опирался на его опыт в своих попытках использовать данные почвоведения в помощь сельскому хозяйству.
Докучаев неоднократно посещал Батищево, расположенное недалеко от родных мест – Вязьмы и Милюкова, и посылал своих учеников для почвенного обследования батищевских земель.
На вечерах у Докучаева родилось наименование «почвенник», вытеснившее – «педолог» [18]18
Педология– одно из непривившихся наименований почвоведения (от греческих слов педос– камень, почва, и логос– наука).
[Закрыть]. Оно справедливо подчеркивало первенство русских ученых в науке о почве. Здесь же родились многие почвенные термины. «Я теперь все более и более убеждаюсь в том, что для нас немецкие и французские названия почв оказываются малопригодными», – говорил Докучаев. Он доказывал, что разнообразие русских почв не укладывается в тесные рамки иностранной «шаблонной номенклатуры», построенной не на всестороннем естественно-историческом изучении почв, а на внешнем, описательном, статистическом методе. Он предлагал обратиться к вековому народному опыту: «К изучению наших народных местных названий, из которых иные чрезвычайно типичны и метки… Народ (в чем я убедился на опыте) никогда не дает почвенных названий зря, а всегда на основании векового опыта, строго приурочивая номенклатуру к тем или иным существенным особенностям почв». Докучаев выработал на основе богатейших нижегородских материалов первую в мире естественно-историческую классификацию почв, ввел в нее и научно обосновал такие народные наименования, как чернозем, подзол, солонец и другие.