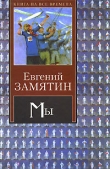Текст книги "Иваны"
Автор книги: И. Посохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Если бы ты только могла посмотреть на себя со стороны! – вырвалось у меня. – Пора бы отличать взгляд со стороны от самокритики, – решил я как-то сгладить свою грубость.
– Одно время я действительно думала, что во мне что-то не то. Но вот сейчас читаю Кузьминскую и вижу, что я почти как Лев Толстой, и что я все переживаю, – рассуждала Зина.
– Ты даже отвратительно толстая, – резко скаламбурил я. – Надо только правильно расставлять ударение.
– Одно я не пойму, как можно общаться с человеком при такой ненависти к нему, – вытаращила глаза оскорбленная Зина.
Я видел, как задрожали ее поджатые, как у подростка, собирающегося заплакать, губы.
– У меня и нет с тобой никакого общения, – сказал я и вышел из домика, опять больно ударившись лбом о дверной косяк.
* * *
В дверь калитки тихо вошла моя мать. Я стоял злой, ушибленный. Я не любил Зину.
– Ну, как вы тут? – спросила мать, закрывая за собой калитку, которую давно пора было чинить.
– Хорошо, – буркнул я.
– Ну, слава Богу. А где же Алеша? – спросила мать.
– Они уехали.
– Поругались, что ли?
Я умывался под рукомойником, прикладывая холодную воду к шишке на лбу.
"Нельзя больше встречаться. Сейчас вот, если хочешь остаться честным.
И не мучить ни ее, ни себя", – думал я лихорадочно и зло. – "Сейчас вот, если остаться честным. Видеться больше нельзя... А как же сын? Такое чувство, словно все тонет. И уйти-то некуда. Опять снимать комнату?.."
– Я хотела, чтоб все было хорошо, чтобы вы отдыхали...– причитала расстроенная мать, прикладывая намоченный платок к моему воспаленному лбу.
Как в детстве, когда я болел ангиной.
* * *
Гранатовая луна полыхала в горячем пепле. У горизонта она казалась неестественно огромной, жаркой, жуткой...
Я задыхался и шел и шел полем мимо копен скошенной пшеницы. А в ушах стояли слова:
– Ну вот, теперь мы будем жить в копнах.
– А что мы будем варить?
– Кузнечиков.
– А кто у нас будет папа?
3. ГОСТЬ
Старая гнусавая шарманка – Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов – хорошая приманка, Подлецам – порядочный улов.
С. Есенин. "Страна негодяев."
Женившись на Зине, я вроде жил в семье, а семьи словно и не было. Я не пил, вернее, старался не пить. В этот период я начал писать. По большей части оттого, что хотелось высказаться. Были, конечно, и жажда славы, и жажда утоления гордыни. Но одно – жажда высказаться, жажда сказать другим что-то, как я считал, очень важное, – пересиливало все. И именно тогда ко мне прицепилось это странное словосочетание: сексуальная неудовлетворенность.
Прицепилось, как репей за шиворот.
Мало кто знает, что это такое. Я и сам этого никогда бы не узнал, если бы...
Я вспомнил, как в детстве в деревне меня клала на себя, голого, двоюродная сестрица моя. Тогда мне и в голову не могло прийти, что это называлось "иметь женщину". И какое же это было нестерпимое наслаждение!..
Я понимал тогда, что об этом никто не должен знать. Я понимал, что этого, конечно, нельзя делать, но от природы я был послушным. Тем более что меня не просили делать ничего ни страшного, ни болезненного.
Я понимал и молчал, когда сестрица просила меня, чтобы никто не знал и то, что она "примеряла" на себя и своего родного брата, моего двоюродного...
Но взрослым было не до нас. У них, у взрослых, в ту страшную войну, была одна жажда – жажда выжить! Когда было думать о детях! А для нас, для детей, с нами мог быть только тот, кто мог бы быть с нами всегда.
Но его-то и не было ни в общественной, ни в коммунистической морали!
Бога-то и не было в коммунистической морали...
Может, с тех времен во мне и зародилось это представление о "сексуальной удовлетворенности". Может, с тех времен во мне и зародилось это представление о счастье, о должном счастье?
Кто знает...
И как это ни странно, но писательство свое я скоро бросил. То ли оттого, что прочел, как Достоевский писал от своей "сексуальной неудовлетворенности"?
То ли оттого, что на одном поэтическом вечере встретил однажды ту черноволосую красавицу, влюбился в ее серые, с искоркой глаза...
* * *
Я оставил Зине с сыном двухкомнатную квартиру. Сердце холодит при мысли, что совершил тогда очередную свою подлость, как это теперь было очевидно.
Но тогда я этого не понимал. Улучшение жилищных условий предлагалось тогда либо всей семье, либо только молодоженам.
Я выбрал второе. Отец, мать и сестренка мои остались в той комнатушке на Воронцовском кирпичном заводе. Я же опять снимал комнату...
После долгого отсутствия я приехал на Ульяновскую улицу, чтобы повидаться с сыном. Зина растерялась – в квартире был Гость...
– Мама, откуда ты писаешь? – спросил сын, делая вид, что не замечает меня.
– Оттуда же, откуда и ты, – потупившись, ответила Зина.
– Я писаю из писули, – хитро улыбнулся Алеша.
– Значит, и я... – сказала Зина с запинкой.
– Твоя писуля может только какать! – уверенно возразил ей сын.
– Алеша, ну что ты говоришь какую-то чепуху? Как возьмешься говорить, не остановишь, – сказала она, смущенно обращаясь сразу ко всем...
– Я хочу погулять с Алешей, – сказал я.
– Да! Да! Конечно! – ответила, засуетившись, Зина и стала одевать сына.
* * *
В крохотном парке, на крохотном пятачке, я с сыном взял на прокат педальную машину. Алеша катался уже больше часа.
Надоело ему крутиться в тесноте, подумал я. Неплохо бы покататься по асфальту за пределами парка, по улице. Там так тихо, даже прохожих мало.
Сын на педальной машине как раз подъехал к воротам. Я подтолкнул его через порожек на асфальт...
– Гражданин, а вы куда? – услышал я. Быстро, словно подлетела, передо мной оказалась женщина в очках. – Нельзя! Куда вы? – Я видел ее желтые, увеличенные линзами глаза. Колкие, неспокойные, враждебные.
– По асфальту пусть покатается, неровно же здесь, – как можно спокойнее ответил я. – Вот, Алеша, тетя говорит, что нельзя, – повернулся я к сыну, чтобы отвести от себя, словно приставленное копье, ее взгляд.
– Папа, я уже накатался, – вылез из машины Алеша, он почувствовал мою уступчивость очкам. Это чувствовал я и сам, но от этого еще больше терялся.
– Ну пойдем, сдадим машину, – сказал я, успокоенный поведением сына.
– Накаталися и хотели взять домой! – хлестанула меня по спине издевка смотрительницы.
Я чувствовал себя словно нанизанным на что-то холодное, чего не вижу я, но что видят очки. Я хотел, но никак не мог освободиться от этого ощущения.
Хотел тревожно, нетерпеливо, одним махом соскользнуть с этого шампура.
Я поставил машину в ряд с другими – голубыми, зелеными, красными.
– Гражданин, как фамилия ваша? – услышал я опять скрипучий голос.
Очки стояли у двери, не входя в сарайчик.
– Моя? – переспросил я, обернувшись и опять удивляясь, почему поддаюсь дурацкой своей манере прикидываться. Сколько живу, а все никак не могу осознать, как это со мной делается... – Белкин, – назвал я фамилию из любимой повести Пушкина.
Я чувствовал себя теперь нанизанным на нитке, за которую дергают, тянут от двери. Это от ее глаз, нездоровых, неспокойных.
– По документам ее брали? – спросили очки от двери.
– Нет, под деньги, – ответила солидарным тоном женщина, которая выдавала нам машину.
– Накаталися и хотели взять домой!.. – не унимались очки.
– Да замолче вы! – выкрикнул я, спиной ощущая взгляды других желающих покататься, – Разве можно таким животным работать на детской площадке?
"Что эти, другие, подумают?"
Рассудок уговаривал, что зря это я, не так надо делать, не надо. Но мне не удалось угасить раздражение, оно все разгоралось.
– Конечно, хорошо, что я заметила, – сказали очки мне вслед...
* * *
Я вернулся с сыном часа через полтора. Зина сразу схватила сына и исчезла в другой комнате.
"Не хочет показывать свое раскрасневшееся, возбужденное от пережитых минут радости лицо", – подумал я, рассматривая Гостя.
Мужик крепкий, небольшого роста, коренастый. Такие много и успешно занимаются штангой. Гость смотрел свысока, откинув голову назад, очень уверенно, но желто-мутные глаза не жгли, а плыли – Гость был крепко выпивший...
Распрощавшись, я вышел. Гость вышел вслед за мной.
– Не могу понять, почему это ты не живешь с Зикой? – в спину спросил он.
Его слова хлестнули по сердцу, напомнили о Романове – так ведь и Романек называл Зину.
– Прекратите! – опять задыхаясь, обернулся я. – Ты вообще-то какое имеешь право так говорить, козел! – резко выпалил я, не заметив перехода на "ты".
– А ну иди сюда! – прогнусавил Гость. И резкий удар в кадык опрокинул меня на землю.
Кто успешно занимается штангой, знает, куда бить.
Воровато оглядываясь, разминочным бегом, мужик направился к улице Солянке...
Позже я узнал, что Гость был слушателем Высших партийных курсов при ЦК КПСС. Зина также была их слушателем. Слушателем первого года. И на другой день, после нашего "знакомства", Гость покидал нашу столицу. Уезжал насовсем в свои края.
* * *
Я терял сознание, снова и снова приходил в себя. Лицо костенело, в голове мутилось. Мне мерещилась какая-то нереальная жизнь.
В электричке рассматривал я по привычке сидящих женщин. Почему-то именно сидящих. Наверно, потому, что в сидящих женщинах виднее все – и ноги, и бедра, и груди. Особенно ноги...
Это, конечно, было сдуру и от нечего делать. И как я ни пытался не показывать, что глаза мои смотрят на одну из женщин, она сняла очки, стала причесывать волосы. Достала потайное зеркальце, замаскированное под кошелек.
Пришлось отвернуться к окну...
И вдруг засмеялась. Она смеялась надо мной.
– Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха! – захохотала она мне в лицо...
4. РОМАНЕК
Легка ты, мудрость, на помине:
Лес рубят – щепки, мол, летят.
Но за удел такой доныне Не предусмотрено наград.
А.Твардовский. "За далью даль."
Илья сидел в кафе и ждал Зину. "Вот она, вся моя жизнь, – думал Илья.
– От семи до двадцати восьми."
Вспоминалось былое, далекое...
Дом отдыха "Буревестник" на юге. Он – выпускник химического факультета МГУ. Прекрасный игрок в волейбол, на площадке творит чудеса. Галя сидела среди болельщиков. Он ее заметил сразу. Ему понравились ее ноги, длинные, полные...
Вспомнился отец Гали, Валерий Павлович. Небольшого роста, всегда в очках. Очки шли ему, даже когда он был в мундире генерал-майора ГРУ СССР.
Очень он хотел им счастья и удачи...
Так Илья стал слушателем академии Генштаба. Галя стала его женой. Первой женой. Родился сын...
И вот однажды, вернувшись из командировки в Норвегию, Илья застал в доме Гостя. Был тот небольшого роста, коренастый и крепкий. Он тоже много и успешно занимался штангой и смотрел свысока, откинув голову назад. Очень уверенно смотрел. Был Гость крепко выпивший...
Ничего в тот вечер не сказал Илья Галине. Было только очень обидно.
Именно обидно, и ничего другого...
* * *
– Здравствуйте, Илья! – сказала Зина и подошла к столику.
– Здравствуйте, Зина. Присаживайтесь, пожалуйста, – сказал Илья, вставая, Зина села, оглядываясь по сторонам. Он отметил ее скованность.
Его профессиональное чутье подсказало неладное.
– Иван мне много рассказывал о вас, – начал Илья.
– Вы говорите об Иване Романове? – уточнила Зина.
"Странно. О ком же еще?" – подумал Илья.
– Вы хотите выпить? Я попрошу принести, – сказал Илья. На столе уже стояла бутылка коньяка.
Зина глядела в его робкие глаза. Он словно хотел и не мог их спрятать...
– Спасибо, я ненадолго.
– Да это как пойдет... – Илья заказал еще бутылку коньяка, закуски.
– Извините, что перебиваю, но у меня мало времени, – пыталась остановить его заказ Зина. Ее суетливость казалась наигранной и покоробила Илью.
– Дело в том... – сказал Илья. – Дело в том, что он погиб. Тогда, в Норвегии... – перешел он к главному.
– Романек был в Норвегии?! – воскликнула потрясенная Зина.
Теперь скованность, нервозность передалась и ему. Он и сам теперь остро понимал необходимость паузы. Нельзя, наверно, было так сразу, в лоб, подумал он, остро почувствовав вину за свою скоропалительность.
– Извините меня, прошу вас...
– Извините и вы!.. Слишком много событий... – сказала Зина. Она попробовала сосредоточиться, взять себя в руки, собраться...
– Да, да! Иван мне рассказал, – сочувственно сказал Илья. – А как теперь другой Иван, Петрович? – спросил Илья, чтобы сменить тему разговора.
– Здоров?
– Иван Николаевич? – переспросила Зина, понимая, о ком он спрашивает.
– Здоров! Он нас бросил, но про это долго рассказывать... – смутилась Зина.
– Я вас очень хорошо понимаю! – сказал Илья. – Извините! Я не знал!..
* * *
– А как погиб Романек? – спросила Зина.
– Он должен был выйти на связь со мной. Но он не появился, – сказал Илья.
– Что за связь? Какая связь? – не поняла Зина.
– Это тоже долго рассказывать, – ушел от ответа Илья. – Как-нибудь потом. Должно пройти некоторое время. Сейчас могу сказать только, что Иван Романов погиб, как герой.
– Я не знал, где тогда должен быть Романек, – продолжал Илья рассказывать дальше. – Прождав его час, я понял непоправимость случившегося... Я любил этого толкового, умного, тонкого, беззаветно преданного парня. Чувствовал личную ответственность за его судьбу. Часто ловил себя на мысли, что хотелось быть таким же, как Романек, поступки которого, правда, иногда не укладывались ни в какие инструкции, были на грани интуиции и догадок. Рассудок же Романек словно приберегал для окончательных выводов, но это-то больше всего и привлекало меня в нем. Интуитивно я чувствовал, где Романек. До гостиницы был час езды. Я вел машину, почти не чувствуя руля.
Дежурный гостиницы удивленно посмотрел на меня, когда я попросил ключи от номера. Я влетел, не дожидаясь лифта, на четвертый этаж. Номер был открыт.
На диване сидела голая пьяная проститутка.
– О! Просю, пожалуйста! – сказала она на русском языке. Подвинулась, освобождая мне место.
– Где Романов? – почему-то спросил я, потеряв бдительность. Она указала на дверь ванной комнаты.
Я толкнул закрытую дверь. В ванне в крови плавал Иван Романов...
Мгновенно все оценив, я понял и свою опасность. Приезжать в гостиницу было нарушением конспирации, и я не имел на это права... Я вышиб рукой оконную перегородку и выпрыгнул в окно. Стекла посыпались, как от взрыва...
Уже садясь в машину, я увидел вбегающих в гостиницу людей в штатском...
* * *
– Так все же кто вы? – спросила Зина, придя в ужас от рассказанного.
– Я же сказал, что всему свое время.
– Ну, если вы все знаете, тогда вы поймете мой поступок тогда, сказала Зина, решив сменить тему разговора. И тоже, не найдя ничего другого, вернулась к истории с замужеством.
– Что вы! Что вы! – воскликнул Илья. – Какое же я имею право вас обвинять?..
– Я любила их обоих! – перебила его увлеченная воспоминаниями Зина.
– Мне казалось тогда, что это возможно. Теперь я понимаю, что это все слова! Любить можно только однажды и только одного...
– А вы помните, какая кличка была в школе у Ивана Николаевича? переспросил Илья.
– Кличка? Мне до сих пор это непонятно, получается так, что есть люди, к которым клички не пристают. Романек, правда, когда-то называл его Постный.
– Да, именно Постный. Я знаю этих "постных"! – вдруг гневно воскликнул Илья. – Но вы и Романек его любили! Наверно, было за что?
"Любят не за что-то, а почему-то", – подумала Зина, искоса взглянув на Илью. Вслух же сказала:
– Он просто добрый...
– Постный, как это ни пошло звучит, – продукт своего времени, – перебил Илья. – Как, скажите, он объяснял причину своей отчужденности?
Выпитый коньяк развязывал язык.
– Он говорил что-то о "сексуальной неудовлетворенности", – призналась Зина.
– Вот, вот! Они, эти Постные, как компасы. По статистике, послушных, бесхарактерных людей рождается столько же, как и упрямых и агрессивных...
– Он – бесхарактерный, но не равнодушный! Нет! – перебила Зина.
– Я искренне признательна ему за его любовь! Жаль только, что она быстро прошла. А вначале он помог мне по крайней мере освободиться от всех тех недостатков, комплексов, которыми страдало наше поколение... Как ни странно, но это была игра в жизнь, в любовь, но и она приносила огромную пользу людям! Видимо, потому, что в ее основе все же лежала забота о человеке.
– "Забота о человеке"? "Недостатки"? "Комплексы"?.. – передразнил ее Илья, криво усмехаясь. – Им, этим Постным, приятно, если люди их отмечают, смотрят на них восторженно, влюбленно. Стараясь всегда нравиться другим, им, этим Постным – прежде всего им, – приятно, что любуются ими. Когда же они делают то, что не одобряется другими, они молниеносно отказываются от самонаслаждения, оправдываются. Они делают так, как нравится другим.
И только тогда это нравится и им тоже.
Зину удивило такое тонкое проникновение в суть предмета. Она стала слушать более заинтересовано. Самолюбие ее было все же задето...
– Болезненная чуткость этих Постных вырабатывает у них способность жить тем, что приятно другим. Жить тем, что приемлемо другими. Предугадывать то впечатление, которое производят на других сказанные ими слова, совершенные ими поступки. В каждую минуту, в каждом лице, в каждом взгляде они привыкли замечать оценку своей внешности, своего существования. И совершенно несчастны, разбиты, если замечают в себе что-то неисправимо дурное для других. Постоянная мучительная слабость их натуры – везде и во всем быть первыми, заметными, красивыми, приятными... – все более распаляясь, продолжал Илья. – Постный, видимо, в делах любовных всегда пользовался неизменным успехом... Но, наверно, не было случая, чтобы он за кого-то боролся и не уступил сопернику. Тщеславные, они же всегда в проигрыше. Они всегда пасуют перед активностью, часто выдавая ее за агрессивность. Ему просто везло: неагрессивный фон общественной морали, ее неестественная справедливость часто заставляют пасовать обидчика, – почти кричал Илья.
Зине вдруг показалось, что Илья забыл, зачем пришел в кафе, зачем пригласил ее. Она, потрясенная смертью Романька, слушала, отмечая тем не менее наблюдательность Ильи, преувеличенную говорливость. Впрочем, последнее она не без основания приписывала коньяку...
– Ведь "сексуальная неудовлетворенность" – это тоже комплекс. Это давит на нас потому, что наши общественные силы вырабатывают в нас привычку делать все только хорошо, во что бы то ни стало, – продолжал Илья. – Чтобы все как у людей! Подумать только, отчего же? Ведь у нас самый передовой строй, и ничего плохого в нем быть не может. Агрессивность... Она не поощряется, она всегда осуждается! Не важно где! Повсюду, так как в классовом смысле человек человеку друг. Отдаст последнюю рубашку. А это приводит к угнетению человека, к насилию над личностью!
– Как же так? – не выдержала Зина.
– А вот так! Устраняя одно насилие, общество порождает другое насилие, насилие над собой. Это парадокс: человек может прожить половину своей жизни и ни в чем, никогда, нигде не раскрывать себя, свою личность. Вести себя так, как будто ему ничего не надо. Они, эти Постные, никогда не знают, что им надо! Они, эти Постные, конечно, испытывают позывы ко сну, к еде, к сексу. Жизнь-то идет!.. Значит, надо жить, значит, надо делать что-то, – Илья даже задохнулся от запальчивости. Уставился в Зину своими карими глазами. Волнистый чуб его прилип к покатому низкому лбу, а на широких скулах блестели бисеринки пота. – Но, когда все делается "так же, как у людей", личность не проявляется. И здесь опять в выигрыше активные. В выигрыше опять активные, не говоря уж об агрессивных! Исполнительные, послушные, робкие опять в проигрыше... Им выигрыша и не надо.
Зина пыталась возразить против субъективности этих рассуждений. Где там!.. "Еще один трепач попался, – разочарованно думала она. – От всех этих Иванов недалеко ушел".
– Я наконец-то нашел причину этого "не надо". Жуткую, нелепую причину...
Это покой! Это понять трудно, может, даже и невозможно. Но именно покой всему причина, – размахивал руками Илья.
– Откуда же этот покой? – зацепилась за суть Зина.
– Жить, видеть и не отбирать... А не отбирать, потому что важнее покой...
А покой, потому что ничего не нужно... – ответил Илья.
– Как же так, ничего не нужно? – опять запуталась Зина.
– Ведь человек рождается эгоистом. Отчего он кричит, плачет? Да потому, что первое, что появляется в его мозгу, – это требование, "дай"! – твердил Илья. – Есть, пить, дышать, любить! Но при обобществленной собственности это "дай" искривляется до самолюбования, самонадеянности, пошлости. Человек стал самокритичным, он все валит на себя, понимает "через себя" другого, рассуждает за другого, заботится о другом. Стал терпеливым и сострадательным, послушным и выдержанным. С другой стороны – вороватость, самолюбивость, доведенная до абсурда. А тут подбросили идею, что "каждая кухарка может управлять". Вот русский человек и забыл о первом и стал вторым. Русский человек раздвоился, потерялся, разрушился.
Илья все говорил, все более распалялся, а Зина смотрела на его красивые пухлые губы и терялась в этих дебрях. Поцеловал бы хоть, чем баснями кормить.
Но она взяла себя в руки и для приличия спросила:
– Значит, обобществление собственности – это аморально?
– Именно так! Вы, журналисты, великолепно все определяете! – воскликнул Илья.
– А как же Ульянов? – спросила с ухмылкой Зина. – Он что? Этого не знал?
– Какой Ульянов? – Илья ошалело посмотрел на Зину.
– Он что, тоже страдал от "сексуальной неудовлетворенности"?
– Да! Как раз о неудовлетворенности можно было бы и подумать! – понял, о ком речь, Илья. – Надо было думать о других, прежде чем все ломать!..
Зина была ошарашена всеми событиями в стране и в своей жизни. И эту непостижимую связь "обобществленной собственности" и неудовлетворенности теперь тоже могла допустить.
Илью же понесло окончательно.
– И лишение русского человека Бога, его Бога, и уничтожение собственности русского человека, и строительство социализма в России, "в отдельно взятой стране", и все остальное! Не было еще в мире более удачного эксперимента над человеком!
Кафе закрылось. К ним подошел официант. Они расплатились и вышли...
И больно вспомнилась Зине ее первая встреча с Иваном Романовым. В конференц-зале Романек играл с ней в пинг-понг. Словно белая мышь, шарик пинг-понга чаще забивался под стулья, чем бывал в игре. Романек лазил за ним без устали.
Была атмосфера зарождающейся любви...
Романек знал и понимал людей. Он умел находить людей...
ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ
Жене, сыну и дочке
1. ВОЛЧКИ
Так и мы! Вросли ногами крови в избы, Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы, Только нам бы, Только б нашей Не скосили, как ромашке, головы.
С. Есенин. "Пугачев."
Была весна. Я ехал на дачу в Подмосковье один. Дорога на дачу шла через поселок, в котором стояло от силы два десятка домов. Были дома с печным отоплением, с удобствами во дворе.
Весна была поздней. Прошлогодняя трава укутывала землю войлоком, и только вдоль кривых тропинок пробивалась она, нежно-зеленая. Березки послушно и робко склоняли свои тонкие и длинные ветки, как нечесаные волосы, ослепительно белели своими полными ногами.
Словно овдовели за зиму, подумал я.
Лес был почти голый. Лишь цветы ольхи резко желтели на сером фоне, словно вылупившиеся цыплята.
Я, как всегда, торопился, почти бежал. Надо было до темна поставить забор на задах дачи. Сразу с платформы нырнул в дубовую рощицу. Земля была холодная. Почки еще только набухали, еще только кое-где наклевывались, лопались под напором жизненных сил.
Вдалеке, у пенька спиленного дуба что-то зашевелилось. Я слышал шум еще и раньше, но не придавал этому значения. У пенька спиленного дуба в глаза ударила неприкрытая нагота женщины. Ее разбросанные, согнутые в коленях ноги. Слева от женщины, подальше от дороги, лежал парень. Дремал, подперев левой рукой щеку. Правую руку парень держал на груди развалившейся женщины.
Она была в забытьи, пьяная... Совершенно опешив, я невольно наклонился.
Попытался задернуть задравшуюся юбку или то, что с трудом можно было назвать юбкой. Но спохватился – опять лезу не в свое дело. Парень даже не пошевелился.
Я узнал в парне тезку своего, Ивана, сына хозяйки, у которой мы брали молоко. Потеряв над собой контроль, я начал хлестать Ивана по щекам, по ушам. Вспыхнула обида за поругание в человеке человеческого облика, за уничтожение в человеке святого, Богом данного.
Наконец я опомнился, но что-то надломилось во мне. Теперь я уже спешил.
Теперь я должен был зайти в тот дом, где жили Волчки, так их звали в поселке.
Так звали и мою мать, ее девичья фамилия тоже была Волкова, Наталия Петровна Волкова...
Мария Матвеевна Волкова была одна-единственная в поселке, кто держал корову.
"Вот, настрогал, а кормить мне", – ругалась она, когда зять бывал, как она говорила, пьян в "сиську". – "А их восемь. Их прокормить – не на забор влезть. А ты бы тоже, поубавила б свой пыл-то!", – говорила она дочери.
Я зашел к ним. Дома никого не оказалось...
"Господи! Что это? Как это? Кто мы? – думал я. – Все вокруг какая-то неправда! Все какая-то ложь... Неужели правда – это то, что человек, лишенный Бога, лишенный веры в Бога, превращается в скота? Неужели правда – это то, что Бог, прощая человеку грехи, возвышает человека, наполняет его жизненной силой? Неужели это правда, что, убивая в нас Бога, убивают и нас? Лишают человека его тормозов...
Неужели это правда, что обобществленная собственность делает человека всего лишь участником, зрителем? Участником игры, и только! Все для всех, и никакое здесь "само" не работает – ни самообразование, ни самовоспитание, ни самоконтроль. "Само" превращается в "антисамо"... Самоцельность, целомудренность теряются. Работают вульгарная самообогащенность, самолюбие, вороватость, доведенные до абсурда. Вот русский человек и забыл свою самоцельность, целомудренность.
При обобществленной собственности да еще без Бога все потерялось, все растаяло, как дым", – мрачно думал я.
* * *
Вспомнилось, как однажды вот так же шел на дачу...
Шел зимой. Дачу взломали, и надо было закрыть разбитые стекла, забить вывороченные из петель двери.
Шел вдоль шоссе. Следующую электричку до своей станции надо было ждать больше часа. И хотя по времени получалось то ж на то ж, я пошел пешком.
Спешил, нервничал...
Шоссе безлюдное. Движение стихло, почти прекратилось.
Метель разыгралась неожиданно, вдруг. Ветер сшибал с ног. Я поднял воротник пальто из плащевой ткани.
"Со смехом внутри", – вспомнилась шутка продавщицы пальто.
Вдруг услышал стон. Померещилось, наверно, подумал я. Стон повторился опять и опять.
Я осмотрелся вокруг. Снег колючками бил в лицо. Летел за шиворот. Таял на шее.
В стороне от шоссе из-под снега торчал ботинок. Стон раздался со стороны ботинка.
Я машинально шагнул туда. Провалился по пояс в сугроб, лег на живот, пополз. Все-то мне неймется. За ботинком поднимался бугорок снега.
Я пополз вдоль бугорка. Где-то здесь должно быть лицо, подумал я. Стал торопливо разгребать снег. Выкопал шапку.
Я очень волновался. Руки коченели...
Стал копать в сторону ботинка. Вот оно, натолкнулся на лицо. Человек был небольшого роста. Шапка слетела с головы. Я разгребал снег, освобождая плечи, грудь. Человек застонал. Я стал разгребать снег еще быстрее, лихорадочнее.
Тащить за плечи. Понял, что тяну не в ту сторону. Развернулся. Сам почти увяз в сугробе...
Человек, распластавшийся на дороге, пришел в себя.
– Помогите! – едва расслышал я его слова. В замерзающем я узнал сына Марии Матвеевны, тезку своего, Ивана. Видел его не раз. Всегда пьяного.
– Я помочь-то помогу. Встать бы только на ногу, – вдруг развеселился я. Знал за собой эту странность. Смеяться было не над чем.
Понял, однако, что дело почти сделано: вытащить удалось, Иван был жив.
Однако дотащил я его с большим трудом. Метель, казалось, только входила во вкус, разыгралась не на шутку. Только у самого дома Иван поднялся на ноги.
Сына Мария Матвеевна не видела неделю, совсем не ждала.
– Ах ты, Господи! – запричитала она.
– Мария Матвеевна, я нашел его в сугробе. Ему нужна помощь, – сказал я.
Визиту дачника в такую пургу Мария Матвеевна не удивилась. А вот сынку...
– Вспомнил мамочку, подлец! Как тащить все из дома, так мамочку не спрашиваешь! – закутывала она его на кровати в полушубок.
Я вышел из дома. Закрыл за собою тяжелую, обитую войлоком от стужи зимой дверь.
На свою дачу, что в двадцати минутах ходьбы от платформы, я так и не попал...
* * *
Прошло, наверное, года три. В дачный сезон вспомнил как-то по дороге про пьяницу Ивана.
"Надо зайти к Волчкам, – решил я. – Хотя это очень не с руки".
Постучал в дверной косяк.
– Можно к вам, люди добрые? – Толкнул дверь. Она открылась. – Ну, как прошла зимовка? – спросил я. Это звучало игриво, однако настроение Марии Матвеевне не передалось. Я умолк.
– У нас несчастье! – сказала она, очищая горячую картошку от кожуры.
Я смотрела на ее поджатые, как у подростка, собирающегося заплакать, губы.
– Что случилось?
– Ваня запил. Три года не пил! Да разве с этой сукой не запьешь? ответила Мария Матвеевна.
– А кто эта сука, как вы говорите? – спросил я. Матерные ее слова угнетали меня.
– Да, сожительница его, – ответила Мария Матвеевна, – Тоже двоих настрогали...
Я вошел в ту часть дома, где спал Волчок. В нос ударило запахом помоев.
В прокуренной комнате за печкой на разложенном диване валялся Волчок. Рядом, у изголовья, стояло ведро с домашними тапочками на ушках. "Параша", – подумал я. – "Голь на выдумки хитра". Не мог не подивиться я находчивости – ставить тапочки на ушки ведра. Сам никогда бы не догадался...
На полную громкость был включен телевизор. По первой программе прямо с экрана надвигалась, раздвоенная зеркалом, гусыня. Вдруг, оступившись, беспомощным кулем падала вниз. Куда-то на пол. Электрическая, звенящая музыка, сопровождавшая падение, пела и хихикала, неся насмешливую нагрузку.
И тоска и бесконечная скорбь охватили меня, как тогда у пенька, где Волчок развалился пьяным со своей сожительницей.
– Ты что же делаешь-то, козел! – закричал я, потеряв над собой контроль.
– Кто козел? Я – козел? Да я тебя, сука!.. – замахнувшись рукой, Иван скатился с дивана на парашу. Опрокинул ведро...
Я опять опомнился. Понял, что опять лезу не в свое дело.
А кто я? Какое имею право нравоучения читать? Но так обидно было и горько...
Я поднял Волчка. Тот затих так же быстро, как и возбудился. Обида как легко в него влетела, так просто и вылетела. Страшная сила запоя приковала Волчка к дивану. Он смотрел в потолок, молчал. Пришла мать...
– Ты вот что! Я везу себе бутылку, – вдруг опять, озлясь, сказал я. – Я оставлю тебе эту бутылку. Мало ли что. А ты смотри – только попробуй ее выпить! Убью! – сказал я. – Пусть вот она лежит с тобой рядышком.