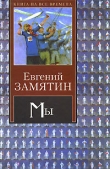Текст книги "Иваны"
Автор книги: И. Посохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Посохов И Н
Иваны
И. Н. Посохов
"Иваны"
В этой повести рассказывается о событиях, происходящих в нашей стране на рубеже тысячелетий, о людях, живущих в современной России.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Взявшись хлопотать об издании повестей И.П.Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желаем к оным присовокупить...
А.П.
И события, которые принудили меня "хлопотать об издании повестей И.
Постного, "предлагаемых ныне публике", я тоже "желал бы к оным присовокупить"...
Вот уже полгода, как вернулся я из-за рубежа, а все еще не могу постичь происходящего в родной России. Никак не могу понять ни повальной нищеты, ни богатства кучки избранных, ни бандитизма и террора, захвативших всю Россию, ни, наконец, отчужденности, склочности, мелочности, раздражительности.
Оказавшись как-то на рынке, я бесцельно бродил вдоль лотков и киосков.
Вдруг мое внимание привлек громкий скандал около высокого ларька под огромным, ярким зонтом. "Лотерея Global"... Когда до этого я проходил этой дорожкой между бесконечно длинных рядов, ко мне подлетела девица и протянула закнопленные сбоку пакетики.
– Оторвите кнопочку, – предложила она. Я машинально взял узкий пакетик, оторвал. Выигрыш был на сумму в пять рублей.
– Возьмите себе, – вернул я выигравший билет. – Я в эти игры не играю.
– Да вы за кого меня принимаете? – деланно возмутилась девица, пытаясь всучить мне выигравший билет и загораживая дорогу. Но я решительно надавил на нее плечом, и она, отступив с кошачьей ловкостью, обошла меня и переключилась на других...
Около ларька стояли двое мужчин, женщина и высокий худой человек неопределенной национальности.
Ведущая торг под огромным зонтом вещала троим, что возможен приз: телевизор фирмы "Sоny" стоимостью 3000 рублей, но приз целесообразно получить деньгами, прямо у нее, а не на фирме. Она даже начинала отсчитывать женщине тысячу рублей, однако потом, как бы сбившись, забрала деньги...
– Давайте побыстрей получим каждый по "лимону", – повторила женщина.
Высокий худой мужчина, стоящий справа, никак ничего не мог понять, противился, просил объяснить условия лотереи еще раз. Ведущая торг, недовольная поведением "непонятливого", тут же предложила женщине объединиться с мужчиной, стоящим слева. "Непонятливый" сделал вид, что ему все равно, и сделал новую ставку...
Вскоре у мужчины слева денег в кошельке не оказалось. Мужчина рядом предложил ему взаймы, но так, чтобы в случае выигрыша тот вернул бы долг с процентами.
Ставки дошли уже до 1000 рублей. И, конечно, время, отведенное на ставки играющих мужчины и женщины скоро вышло, и "непонятливый" человек "неопределенной национальности" грубо отрезал спиной отступление от ларька. Но "игравшая"
женщина успела ускользнуть.
– Плати долг! – потребовал тот, который давал взаймы.
– Так уговор был, если я в-в-выиграю, – пролопотал пострадавший, сильно заикаясь. – В-в-вы же с-с-сами мне п-п-предложили.
– Когда я прэдлагал? Ты просыл – я давал. Ну-ка, падла, платы, или отойдем.
К спорящей компании быстро подошли еще двое дюжих парней. И я видел, как человека, у которого в кошельке не оказалось денег, сшибли на бетон и стали бить ногами. Подняли, прижав к двери павильона и держали так, словно, распятого на кресте. Было страшно смотреть на его разбитое лицо! Как мел белое, забрызганное кровью. Все произошло так быстро, что я даже не успел подумать, чтобы что-то предпринять...
– Так ему и надо, – услышал я от стоящего рядом молодого человека, который, как и я, был свидетелем этой истории.
Меня же увиденное так потрясло, что я вбежал внутрь павильона, ища поддержки очевидцев. Но никто ничего не видел и не хотел знать...
– Ты же все видел! – вернулся я к очевидцу.
– Ну и что? – сказал тот. – Берут дураков на доверчивость. Выигрыша не дают, а предлагают разыграть побольше. Лохи клюют. И этот начал со стольника.
– Что, сам отдал? – спросил я.
– Да нет, сумели выманить... – сказал парень. – Еще одним Иваном будет меньше.
– Откуда ты знаешь, как его звали? – спохватился я.
– Слышал, – ответил свидетель и ушел.
Да что это я! Я не могу постичь, что творится в моей семье. Все не могу спасти нормальные отношения со своей женой Мариной...
* * *
Тогда Марина пришла ко мне на работу с десятилетней дочкой Машей. Младшая, Дашутка, осталась с бабушкой, 75-летней тещей, сохранившей, невзирая на преклонный возраст, почти здравый рассудок. По крайней мере, когда при нашей игре в шахматы Маша ходила конем, теща вдруг протестовала.
– Меня так учил папа, – защищалась Маша.
– Отец тебя ничему путному не научит, – парировала теща.
Маша села играть на компьютере. Я все никак не мог закончить переговоры по телефону. Марина от скуки стала рассматривать картины на стенах. Прямо над компьютером висела акварель, выполненная в модернистской манере. На противоположной стене темнела икона...
– Вот блин, опять сгорела, – выпалила вдруг Маша, увлекшись игрой.
– Что такое, Маша! Разве так можно говорить? – заметил я, вставая из-за стола. Марина тоже встала.
– Пойдем домой, Маша! Понавешал тут всякого, – злобно сказала Марина и повела дочь за руку к двери.
Я бросился с телефонной трубкой им наперерез, но получил грубый толчок локтем.
– Марина, объясни, пожалуйста, в чем дело? В чем я не прав? – спросил я, но Марина молча отвернулась и хлопнула дверью...
Как бешеный метался я из угла в угол. В безысходном отчаянии с огромной силой ударил рукой в перегородку, отделяющую кабинет от приемной, и перегородка вдруг треснула, открылась корявая дыра над столом секретарши. На руку пришлось наложить гипс – перелом.
Я совершенно не мог понять, какое отношение висящие картины имеют к игре Маши на компьютере. Как не мог сейчас понять, почему на моих глазах уничтожили человека лишь за то, что он поверил в выигравший билетик...
Ведь и он во что-то Верил, на что-то Надеялся, кого-то Любил. И никто не встал на его защиту. Довели страну до ручки, до заикания, думал я. Рынок, дикий и неуправляемый, задушил все то живое, что было в христианских заповедях.
Бульварные, рублевые газетенки заполнили все переходы, проходы и выходы.
"Первый кобель Америки..." – вспомнил я заголовок в одной из этих бульварных газет. "Вы перепутали"... – смеялся коллаж на соседней полосе той же газеты.
Оппозиционные газеты не находят ничего лучшего, кроме как классифицировать недостатки. Никак не могут оставить без внимания, например, художественный кинофильм нашумевшего журналиста-репортера о чеченской войне. Вот уж поистине, кто умеет, тот делает. А кто ничего не делает, тот придумывает классификации.
А кто и этого не может, тот лезет с предложениями, как лучше классифицировать, думал я.
Остро чувствовал я свою беспомощность в нынешнем мире и душевную опустошенность.
* * *
Мне надо было обрести равновесие. Даже не покой, нет! Хотя бы равновесие.
Марину я любил. Любил спокойной любовью много видевшего в жизни человека, и разбалансированные отношения с ней никак не принимались моей душой. Душой долго бывшего в отъезде и истосковавшегося по семье человека...
О девочках я скучал безмерно. В их отсутствие вдруг раскрылась огромная пустота, в которой было пугающе тесно.
Эти их коробочки от жуков, эти не доклеенные переводные картинки, эти физические следы их детской неугомонности, живости.
– Компьютер, ты не грусти. Я скоро приду и поиграю с тобой, прощебетала в день разрыва Дашутка. Перед глазами стояла ее неподдельная растерянность до слез. И все слышалось ее звонкое: "Папа! Папа!.." Я любил детей. Они часто играли у меня по вечерам, когда я работал...
* * *
Рука в гипсе сильно болела. Физическая боль странным образом усиливала боль душевную. И я согласился на предложение коллеги – бросить все дела и махнуть в дом отдыха. Надо было сменить обстановку.
Дом отдыха "Буревестник" разместился на территории бывшей княжеской усадьбы в Подмосковье. Это место очаровывало душу...
Длинные липовые аллеи в парке в пору цветения успокаивали медовым ароматом.
В жару под липы тянуло укрыться. Круглая, с овальным куполом беседка еще манит уединиться за мраморными колоннами.
Сказывают, что в княжеские времена флигелей было больше и они разбросаны были по всему парку. "Не чуй горе!", "Приют для приятелей!" носили когда-то такие названия эти флигели.
Речку, опоясывавшую усадьбу с трех сторон, когда-то трудно было переплыть.
Теперь, правда, ее легко перешагнуть. Усадьба была действительно местом, где легко жилось, дышалось, работалось.
Все номера в доме отдыха размещались на втором этаже одного из главных домов усадьбы. Это были бывшие княжеские спальни. К ним вела лестница, поднимающаяся изнутри круглой башни. Лестница, сделав полный виток, приводила на второй этаж, прямо к княжеским покоям, палатам для отдыхающих.
На первом этаже размещались огромная библиотека, бильярдная, комнаты отдыха и столовая.
– Ты вот что, уе...-ка отсюдова подобру-поздорову, – сказал лысый здоровяк, который делал в палате погоду. – Нам академики мешают жить, добавил он для убедительности.
Я мог бы сорваться, возмутиться, однако благоразумие пересилило и я сдержался. Нашел другую палату, в которой были двое, так как другие двое почти никогда не ночевали.
Климат в палате задавал такой же крутой. Но я учел предыдущий опыт, купил бутылку в магазине, который обслуживал соседнюю с домом отдыха текстильную фабрику.
Крутой достал из холодильника еще бутылку водки. – Знаешь, почему я разливаю сразу из двух бутылок? – спросил он. – Твоя очень теплая, – и подмигнул соседу, намекая на мое усилие получить их расположение.
Был час ужина, и мы спустились в столовую на первый этаж, под купол башни...
* * *
Мое внимание привлекла только что появившаяся в столовой компания. Они громко разговаривали, шутили, смеялись. Видно, компания журналистов, заехавших поужинать в дом отдыха. Они весело рассаживались за столом.
– Еда – это наслаждение, – сказала черноволосая женщина.
– Вот-вот! Тоня, ты абсолютно права, – передразнила надоевшую рекламу крашеная блондинка. – Наслаждение вкусом. – И лукаво спросила: – А любовь?
Это тоже наслаждение?
– Это точно! Только вот чем? – спросил смазливый шутник.
– "Кто не знает – тот отдыхает", – вставила крашеная блондинка безграмотный текст другой рекламы...
"Видно, в этой стране реклама заменила все, даже начальное образование...
– с горечью подумал я. – И те же журналисты могут демонстрировать свою чувствительность к языку".
Конечно, если перевести на русский, то надо было бы просто сказать:
"Вкусная еда – это наслаждение". И то высокопарно. "Не ходи по косогору – сапоги стопчешь", – усмехнулся я, вспомнив К. Пруткова.
Я внимательно присмотрелся к той, которая откликнулась на имя Тоня, и, может, даже стал прислушиваться.
Это была небольшого роста брюнетка с серыми красивыми глазами. У нее была такая теплая фигура, что перехватывало дыхание. Она была так привлекательно проста в общении и так гармонична...
– Что имеем – не жалеем! Потеряем – плачем, – расслышал я ответ Тони своему невзрачному собеседнику. Интонации в ее голосе точно передавали подавленное душевное состояние.
– Не печаль бровей, Тоня, – подбодрил ее смазливый. – Что грустить, если мы потеряли даже то, чего не имели, хотя иметь могли бы. И в это твердо верили!
– Держи хвост морковкой! – сказала ей крашеная блондинка...
* * *
Мы с соседями заканчивали трапезу, когда представители второй древнейшей профессии куда-то заторопились, встали и исчезли. Щебетание журналистов, уход Тони взволновали меня. А на душе на удивление стало спокойно.
В памяти всплыло воспоминание. Как давно это было...
Я возвратился с работы, как обычно, поздно. Позвонил в дверь – никто не отвечал. Позвонил еще и еще раз – молчание... Пришлось искать ключи в набитом всякой всячиной дипломате.
Марина лежала около дивана без сознания. Я бросился к ней, положил ее на диван. Дышит, но в себя не приходит. Вызвал бригаду "скорой помощи".
Губы Марины показались мне синими. Я испугался, не зная, что предпринять.
Метнулся к столу. На столе на видном месте лежало письмо. Я лихорадочно стал читать:
"Мой любимый! – писала Марина.– У меня никогда не было никого родней и ближе тебя. Я даже не знала, что я смогу так полюбить.
Ты так много для меня значишь. Меня никто никогда не любил, не жалел, не ласкал, как ты. Мне так повезло в жизни, что я тебя встретила. Теперь я знаю, что такое любовь..."
Я попытался нащупать ее пульс. Или мне показалось, что сердце билось?
Я стал читать дальше.
"Ты такой чистый, честный человек. Ты очень страдал в жизни за других.
Так трудно тебе. Я очень хотела, чтобы ты был счастлив. Мне казалось, что я смогу, что я все-таки способна сделать человека, самого мне дорогого, счастливым, спокойным. Чтобы ты забыл обо всем, что было, обо всем том горе, какое ты пережил..."
"Какая я сволочь! – покраснел я. – А все – этот дикий бизнес. Сделки, сделки... Сделки с совестью..."
"Я занимаюсь всем и не имею ничего. Я теряю с каждым днем тебя и твою любовь. Я ничего тебе не даю. Такая моя любовь тебе не нужна, ведь тебе плохо, и я не знаю и не могу сделать хорошо, – читал я дальше. Почерк потерял устойчивость.– Но я тебя очень люблю. Я так ждала в жизни тебя.
Нет, я не ждала, я думала, что ничего такого у меня в жизни не будет. Может быть, выйду замуж, чтобы не быть одной или убить себя на общественной работе.
Только ты обо мне не думай плохо. Я жила только одним тобой, у меня никого никогда не было и уже не будет. Ты очень хороший. Прости меня за эту последнюю ьолью Я в бога не верю, значит, и никому не нужна. Я не могу без тебя и не могу все бросить ради тебя. Я недостойна твоей любви, – раз я даже не понимаю тебя. Но без тебя я не могу жить, поэтому я решила умереть..."
Я прекратил чтение, сел рядом с Мариной. Стал внимательно рассматривать черты до боли знакомого лица...
Бригада "скорой помощи" потребовала ее госпитализации. Я упросил, чтобы Марина осталась дома, чтобы случившееся осталось тайной. Сделал все возможное, и, убедившись, что жизнь Марины вне опасности, бригада уехала.
– Ты здесь, Илюша? – спросила Марина, очнувшись ночью. – А что со мной?..
* * *
Поужинав и проходя мимо стула, на котором сидела Тоня, я обнаружил забытый сверток. Взял его, отделался от сотрапезников шуткой и пошел в парк...
Дежурный сказал, что журналисты здесь не отдыхают, просто заскочили поужинать.
Я и сейчас не понимаю, почему я взял этот сверток.
"Что ж! Случай, точно, не надежен, но щедр!" – думал я, читая повести И. Постного, которые оказались в этом свертке.
"Главное – отделить человека от семьи и заставить его потерять семейные привычки", – резанули меня в рукописи слова основателя тайной ложи карбонариев.
"Человек рожден непокорным. Разжигайте в нем это чувство непокорности до пожара. Сейте в семьях отчуждение, раздражительность, склочность, мелочность...."
– вещал мордастый Пикколо-Тигр.
Вот они, эти повести.
И.П.
ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ
Памяти Юрия Романькова
1. ДРУЗЬЯ
Однако, – нужды нет лукавить,– Душа, минуя давность лет, Той горькой памяти оставить Еще не может, и – нет-нет – В тот самый заступает след.
А.Твардовский, "За далью даль."
Словно легкая лента, брошено Калужское шоссе по холмам и лесным массивам.
В окружении тополей и ракит стада коров безмятежно лежали вдоль него. Журавлиным клином уплывало шоссе в туманную даль. Места эти славились своими березовыми и ореховыми лесами, прозрачными и звонкими. Грибов, орехов в этих местах было так много, что их возили возами, машинами. Места эти славились и вишневыми садами. Весной едва не вся Москва стекалась смотреть бушующее белое море цветущих вишневых деревьев. Славились эти места и боевыми событиями, бывшими и во времена нашествия Наполеона, и в более поздние времена. В честь победы над Наполеоном была поставлена стела у села Коньково. А доты были сооружены защитниками Москвы в период Великой Отечественной войны...
* * *
Совхоз "Воронцово", разместившийся по преданию на территории бывшей усадьбы графа Воронцова, когда-то процветал, уходил своими огромными пространствами далеко за горизонт.
Совхоз снабжал ОГПУ свининой, свежими ягодами и фруктами...
Отец и мать мои, крестьянские дети, оказались в совхозе "Воронцово"
по вербовке. Отец работал в совхозе на лошади, мать – в поле.
– Вместе с председателем раскулачивать дедушку твоего пришли трое, вспоминал отец.
Обычно малоразговорчивый и кроткий, отец, видно, не мог забыть эту кровоточащую рану.
– Дедушка твой был хорошим хозяином, как и все в округе. Продавать не продавали, но себя кормили, и гостей было чем накормить, напоить. А нас было семеро: три сына и четыре дочери. Отнимать-то было нечего – корова да хромая лошадь... Ан нет же! Чтоб знали впредь! Не задавались чтоб лишний раз. Знали, чья возьмет и всегда брать будет! – вздыхал отец. – Это относилось больше к дяде твоему, Ивану. Иван председателю был как бельмо на глазу.
Очень уж они соперничали, любили одну и ту же...
Отец мой любил своего старшего брата. Деревенские дети всегда тянутся к старшим – словно им не хватает родительского тепла и ласки.
– Я и тебя-то назвал Иваном в честь брата, – вспомнил отец. – Иван в молодости был красивый. Это теперь сморщился, только и остались орлиные острые глаза над острым носом с горбинкой. А был высокий, стройный, отчаянно смелый!..
"Ты што пришел-то?" – спросил твой дедушка председателя.
"Давай-ка составим опись имущества. Того требуют революсьонные правила", – ответил председатель.
Отец задумчиво помолчал, потом решительно продолжил:
– По лицу видно было, что врет, оттого становится еще наглее...
"Ну, что надулась-то? Не обижали пока, а ты уж надулась!" – сказал председатель, глядя на бабушкин живот.
Председатель всегда все начинал со склоки, с обидного. Установка была такая, что ли? Охоч был до склоки!
"Ты пока што бабу не трогай!", – сказал дедушка.
"Не дам я вам никакого имущества", – запричитала в голос бабушка.
Обида вышибла слезы. Иван загородил мать, увел в сени...
"Как это не дашь? Будем мы тут с вами вожжаться!" – закричал раздраженно председатель.
– Не счел даже нужным больше разговаривать с твоим дедом. Конечно же, пришел взять все, и никакая тут не опись!..
Отец сплюнул с досады.
– Когда выводили корову, Иван вдруг выскочил из сеней. Вырвал из плетня кол. Со страшной, дикой силой опустил кол на голову председателя. И началась драка... А потом... судили всех. Приписали коллективное убийство. Ивану дали пятнадцать лет, дедушке и двум подбежавшим помочь соседям – по десять лет. Нас с Илюхой не тронули, мы были малы еще, – на этом отец обычно и заканчивал свои воспоминания.
Хамское отношение ко всему прошлому уничтожило совхоз "Воронцово".
Красивейшие, круглые башни у въезда в усадьбу превратились словно в беззубых старух. Горько и обидно сейчас смотреть на валяющиеся повсюду груды белых камней, когда-то бисером украшавших эти башни.
Уничтожен и знаменитый дубовый парк. От парка остались лишь убогий клочок да еще название остановки "Воронцовский парк". Сохранившейся чудом церкви отведен лишь скромный уголок в углу парка...
Варварское отношение уничтожило даже ту дивную стелу с могучим орлом, распластавшим крылья над вечностью. Разорены доты Великой Отечественной войны.
* * *
В той местности, которая примыкала к городской черте Москвы со стороны Калужского шоссе, кроме Cеменовской средней школы ? 55, другой не было.
Два раза в день к школе тянулись школьники. Цепочка высоковольтных вышек, торопясь мимо парка совхоза "Воронцово", мимо церкви, легко взбегала на школьный холм. Потом, словно получив новый заряд энергии, высотки, также ажурной строчкой, выстроившись в затылок друг к другу, катились к Москве дальше.
Школа гордо стояла на вершине холма. В ней учились ребята из всех окрестных сел: и из села Семеновское, и из совхоза "Воронцово", и из сел Коньково, Деревлево, Беляево, из Теплого Стана, и санатория "Узкое", и из Мамырей...
Мы с Иваном Романовым тоже учились в этой школе. Ивана звали дразливые мальчишки Романьком. Был Романек воспитанником детского дома времен войны.
Как это бывает только в детстве, нас никто, никогда, кроме как по кличкам, не называл. И у меня была кличка Постный. И это было как нельзя кстати – ведь мы были тезки...
Как и все в те годы, мы были и пионерами, и комсомольцами. А я даже секретарем комитета комсомола школы. Три года подряд...
Да и то правда – я легко учился и все успевал. И оставалось еще время, которое я с охотой отдавал другим.
Романек окончил школу на год раньше меня с золотой медалью. Я слышал, что он поступил на химический факультет МГУ, из-за этого теперь мы встречались редко.
Я тоже, как и Романек, тянул в школе на золото, но меня не утвердили в РОНО, поставили тройку по геометрии.
Словно громом был я поражен случившимся. Сидел на скамеечке напротив входа в школу и никак не мог отойти от этого потрясения. Я же болтался по райкомам, хорошо знал высокий авторитет школы и не допускал даже мысли, что наша Нина Дмитриевна, обожаемая всеми директриса, могла быть так унижена.
Нина Дмитриевна, выйдя из школы, подошла, положила мне руку на плечо и сказала:
– Не горюй, Ваня! Ты все можешь.
"Ты, Постный, как Иманнуил Кант, – вспомнил я, как сказал Романек, когда пришел как-то в школу навестить Нину Дмитриевну. – По тебе можно часы сверять".
– А все-таки, что же случилось? – спросил я директрису. – – Да просто твоя работа попала к ним на стол до перерыва на обед, – отшутилась она...
Экзамены я сдавал теперь на общих основаниях. Я не добрал одного балла в МИФИ и пошел работать монтером на косметическую фабрику неподалеку от дома. Но теперь я пошел на фабрику рабочим, наотрез отказавшись от работы в райкоме комсомола.
* * *
– Поступай к нам, – позвал Романек, который был уже на втором курсе химического факультета МГУ.
И на следующий год я тоже стал студентом МГУ, студентом физического факультета.
Годы студенчества – лучшие годы в жизни. Нам, студентам, было хорошо, но хотелось, чтобы было еще лучше. Мы верили в свое будущее! Мы надеялись на будущее! Мы любили и были любимы. Наши родные и близкие не чаяли видеть в нас ученых, инженеров, профессоров, академиков...
Вместе мы встречали пробежками утро. Ходили по выставкам. Вместе проводили все вечера: дискуссии, вечные разговоры о литературе, искусстве, поэзии.
Вместе мы занимались спортом в сборной МГУ, соперничали в борьбе за факультетские первенства МГУ. И Ломоносов всегда встречал нас, из стоящих друг против друга факультетов, будущих ученых.
Чарующие похождения на танцы оставили неизгладимые следы в наших молодых душах. Танцы бывали во всех зонах, где жили студенты. И мы ходили во все зоны друг к другу на танцы...
На одном из вечеров Романек познакомился с русоволосой девушкой Зиной Хлоповой. Зикой, как ее звал Романек. Танцы были в зоне "Е", в которой жили журналисты.
Сколько восторгов выложил Романек передо мной в те долгие вечера наших бесед о жизни, о счастье! Но никогда еще не говорил столько нежных слов о девушках вообще и об этой девушке с факультета журналистики.
Романек любил и умел находить людей. И я невольно, как его друг, купался в теплых лучах славы и успеха Ивана Романова...
Вскоре Зина, окончив факультет, уехала в кемеровскую газету. Романек через год также окончил свой факультет и остался в аспирантуре. Они писали друг другу замечательные письма. "Мне хочется тебя обнять! Ведь не чужие мы друг другу. Иль не в тебе нашел подругу, любимую, сестру и мать!" писал Романек...
Однажды осенним солнечным днем Зина прилетела в Москву, чтобы быть свидетелем выходящей замуж подруги Гали. Зина позвонила и попросила Романька быть свидетелем от жениха на свадьбе.
Радости Романька не было предела! Тем более что он знал Илью, который учился курсом старше.
Едва ли не первый раз в жизни Романек надевал галстук, тщательно причесывался перед зеркалом, словно женился сам.
– Ты умеешь вязать эти проклятые галстуки? – спросил Романек.
– Конечно, – ответил я. – А ты распарился-то с чего? – спросил я.
– У меня предчувствие. Должно что-то произойти, – ответил Романек.
– Как же может быть иначе-то? Свадьба же, – ответил я. Романек рассеянно смолчал...
На свадьбе в кафе "Под интегралом" гостям, как обычно, было весело и "горько". Но, когда гости пришли к выводу, что им "горько" и от свидетелей, Зина поцеловала Романька так страстно и так долго, что в тот же вечер Романек предложил Зике руку и сердце...
* * *
Галя с Ильей укатили в отпуск, оставив маленькую свою комнатушку пустой.
На следующий день в той же комнатушке собрались идти в загс уже Романек и Зина.
Я не мог не быть свидетелем на свадьбе со стороны Романька. Свидетельницей со стороны Зины должна была быть сокурсница, которая собиралась подъехать прямо в загс.
Я пришел в комнатушку на пять минут раньше, и очень огорчился, что Романек опаздывает. Зина успокоила меня...
Мы стали ждать, сварили кофе. В окно, словно в зеркало, смотрелся солнечный день бабьего лета. Зина налила в кофе коньяку. Вскоре мы перешли на коньяк без кофе, выпили. Потом выпили еще. И еще...
Зина села ко мне на колени и зашептала:
– Ах, мой милый Ванечка! Ванечка! Ванечка!
Все во мне мутилось, крутилось, дыбилось. И не только от выпитого коньяка...
Романек пришел слишком поздно.
Предательство мое мы обсудили с ним на другой день.
– Мне будет очень жаль, если Зике с тобой будет плохо, – только и сказал Романек...
А я и в мыслях не мог допустить, что Зине со мной может быть плохо!
Мы верили в свою порядочность. Мы считали себя энциклопедистами, все и вся знающими наперед.
Мы думали, что мы правим бал!..
2. НА ДАЧЕ
Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав!
Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.
Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав И сшибать черных галок с крестов голубых колоколен.
С. Есенин. "Пугачев."
Я ходил по дорожке вдоль озорных и веселых цветов "Невеста", когда мой сын, тоненький и загорелый, выскочив на крыльцо, неожиданно остановился.
– Папа, я себе недоволен, – сказал мальчик. Он и я ухмыльнулись.
– А собой ты доволен? – спросил я, принимая первую у малыша встречу с самим собой.
– Я доволен... собой, – неуверенно сказал сын.
– А чем же ты недоволен?
– Мама мне книжку не читает.
Я вошел в домик, который мы снимали на лето в Подмосковье. Домик был зеленый, с низкой крышей, как дорожный вагончик. И мне все время приходилось при моем высоком росте наклоняться при входе, чтобы не удариться головой о дверной косяк.
Зина лежала на диване, розовая и жаркая. Льняные шторы в огромных черно-зеленых цветах и листьях тяжело обвисали в душном, горячем полумраке комнаты. Она читала...
– Может, ты хочешь прочитать стишок? – повернулся я к сыну.
Он молчал, его белесо-серые, как у меня, глаза выражали недовольство.
– Мы займемся стишком завтра, – сказал сын.
– Хорошо, мы займемся этим вечером, – сказал я. – Теперь мы пойдем на пшеничное поле.
* * *
Сын скакал, держась за мою руку.
– Папа, если завтра – это завтрак, то обед – это сегодник?.. – звенел он, не останавливаясь. – Мама, мама, мы идем ловить кузнечиков!
– вдруг закричал он, вырвавшись вперед. Зина шла с бидоном керосина в руках, взопревшая от жары и тяжести. Слипшиеся волосы делали ее голову маленькой, несоизмеримой с телом.
– А я думала, вы идете встречать меня, – сказала она просто. – Ну, ничего, это не тяжело...
Я прошел мимо твердой, собранной походкой, видя ее уголками глаз.
Любви к Зине в моем сердце давно не было. Я не любил ни ее фигуру, ни ее губы, ни ее стан, образ жизни...
Воспоминание нового впечатления всплыло из памяти, словно опалило..
На поэтическом вечере я встретил черноволосую красавицу. Небольшого роста, с серыми глазами. У нее была такая фигура, от которой перехватывало дыхание...
Все началось просто – я нечаянно наступил ей на ногу, когда крутился вокруг модного поэта, чтобы показать ему свое "творчество". Известный поэт срывал аплодисменты. Она тоже крутилась вокруг модного поэта, чтоб сделать репортаж в газету. Она была фотожурналисткой.
И я нечаянно оттоптал ей ногу. Просто пятился назад, а было тесно.
– Простите, Бога ради! – воскликнул я, готовый сгореть от своей вины.
Но она была занята так, что только поежилась. Глазами, однако, стрельнула в мою сторону. Меня же просто поразила ее красота...
В тот же вечер я увидел ее по дороге на автобус. Она слегка прихрамывала.
Я догнал ее.
– Давайте понесу вашу камеру, – предложил я.
Она легко и просто согласилась.
– Может, пойдемте до следующей остановки? – спросил я. Совсем забыл, что она хромает и, спохватившись, что сказал, чуть покраснел.
– Пойдемте, – легко согласилась она, опять кольнув меня взглядом.
– Как вас зовут?
– Тоня.
Я чувствовал себя с нею легко. Она была так проста в общении и гармонична.
Я позвонил по телефону. Оказалось, что номер верен...
Была весна. Я пригласил Тоню в общежитие к другу. Никого не было. Бутылку вина мы выпили быстро. Шутили, смеялись...
– Я люблю тебя, слышишь! – шептал я.
Мы оказались на диване. Я задыхался, срывал с нее платье. Целовал ее губы, руки, шею. Она так была мне нужна...
Не помня себя, я вонзил в ее тело, дурманящее, нежное, теплое, свое огненное, жаркое. Она обмякла, застонала. Страшная, дикая сила захватила меня. Острый ее пот бил в ноздри, возбуждал, наполнял новой силой. Все больше и больше. И вдруг все вокруг раскололось, взорвалось. Меня словно опрокинуло, выбросило...
– Это же надо, чтобы жизнь зарождалась в таком безумстве, – пробормотал я.
– Такого счастья я не испытывала никогда, – прошептала Тоня. -Ты сумасшедший! Как я теперь на люди покажусь?
– Ничего, мы завтра купим новое, – сказал я.
– Как завтра? Я не могу, – заплакала Тоня.
Я тоже не мог. Я был женат...
* * *
– Папа! Папа! Поймай мне бабочку, вон ту, красноцветную! – кричал в стрекочущей, звенящей траве сын.
Мы сели у копны.
– Ну, вот, теперь мы будем жить в копнах, – сказал я.
– А что мы будем варить? – спросил сын.
– Кузнечиков, – сказал я.
– А кто у нас будет мама?
* * *
Влажное солнце огромной каплей медленно падало на землю. Подсвеченные сзади облака гвоздиками стояли в небе. Первыми ощущают вечернюю прохладу ноги – земля остывает быстрее воздуха.
– Папа, затопчи муравьев, – сказал сын, сидя на горшке. – Они лезут не в свои дела.
– Мы уезжаем завтра? – спросила Зина.
Я молчал. Я надевал ботинки, вымыв ноги на траве из лейки.
– Господи! Если бы не мое чувство юмора, я не знаю, как тебя можно было бы вынести, – сказала Зина, отваривая только что собранные розовые волнушки. Она была простодушно настроена.
– Хоть бы здесь взглянула на себя со стороны, – буркнул я.
– А я самокритична, – сказала жена.