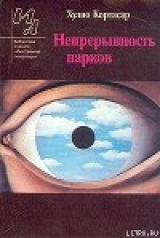
Текст книги "Непрерывность парков"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Что тут говорить, так уж случилось, и говорить тут не о чем. Нагнуться, чтобы зажечь ей сигарету, которая дрожит в ее пальцах, просто ждать молча, возможно, зная, что слов и не может быть, что Лилиана постарается проглотить дым и, всхлипнув, выпустит его, что из других времен возникнут приглушенные рыдания, она не отстранит лица от лица Альфредо, подчиняясь и безмолвно плача, теперь уже только для него, о всем том, другом, что он знает. Излишне нашептывать то, что и так ясно, Лилиана плачет, и это конец, тот край, с которого должна начаться новая жизнь. Если бы успокоить, если бы вернуть ее к спокойствию было так же просто, как написать это словами, что выстраиваются в тетради застывшими мгновениями, маленькими зарисовками времени, помогающими нескончаемому ходу дня, о, если бы так было, но приходит ночь, а с нею и Рамос, немыслимое лицо Рамоса вглядывается в только что сделанные анализы, нащупывает мой пульс на одной, на другой руке, он не способен притворяться, срывает простыни, чтобы осмотреть меня, голого, ощупывает мой бок, непонятный приказ сиделке, медленный, придирчивый осмотр, при котором я присутствую как бы со стороны, почти усмехаюсь, зная, что не может быть, что Рамос ошибается, что это неправда, что правда – другое, срок, который он от меня не скрыл, и все же – смешок Рамоса, его манера ощупывать меня, как будто никак не может убедиться в этом, его абсурдная надежда, да мне никто не поверит, дружище, и я принуждаю себя признать, что, может, и так, кто его знает, смотрю на Рамоса, который выпрямляется, смеется, отдает распоряжения таким голосом, какого я никогда не слышал у него здесь, в полумраке и полусне, приходится убеждать себя понемногу, что да, что только придется попросить его, когда уйдет сиделка, попрошу его подождать немного, подождать хотя бы до рассвета, прежде чем сказать Лилиане, прежде чем вырвать ее из этого сна, в котором она впервые не одинока больше, из этих рук, обнимающих ее во сне.
Место под названием Киндберг
Название Киндберг можно перевести без затей как детская гора или представить себе доброй горою, приветливой горою, так или иначе Киндберг – городок, куда приезжаешь вечером, под дождем, который бешено бьется о ветровое стекло, старый отель с широкими низкими галереями, где все устроено так, чтобы ты не вспоминал о том, что продолжает колотиться и шуршать снаружи, в конце концов, место как место, тут можно переодеться, почувствовать, как хорошо быть под крышей; и суп в большой серебряной супнице, белое вино, ломаешь хлеб и первый кусок даешь Лине, которая принимает его в раскрытую ладонь, точно драгоценный дар, а оно и в самом деле так, и почему-то дует на него, бог весть почему, но приятно смотреть, как челочка Лины подрагивает и чуть-чуть отлетает вверх, словно дуновение, отраженное рукой и хлебом, поднимает занавес крохотного театра, словно теперь перед глазами Марсело на сцену выбегут мысли Лины, картины и воспоминания, теснящиеся в голове Лины, которая, совершенно счастливая, солнечно сияя, смакует соблазнительный суп.
Но нет, гладкий и светлый лоб не меняется, поначалу только голос роняет частицы ее существа, позволяет в первом приближении набросать образ Лины: к примеру, она чилийка, и эта тема Арчи Шеппа, которую она то и дело напевает, слегка обкусанные, но очень чистые ногти по контрасту с одеждой, грязной от автостопа, от ночевок на фермах и в общежитиях молодежи. Молодежь, смеется Лина, смакуя суп, как довольный медвежонок, ручаюсь, что ты и не представляешь, какая она
эта молодежь: окаменелости, ходячие трупы, знаешь, как в том фильме ужасов у Ромеро.
Марсело чуть было не спросил, кто такой Ромеро, первый! раз слышу об этом Ромеро, но лучше пусть говорит, забавно наблюдать ее счастье от горячей еды, как перед тем ее радость в комнате, где, треща, пылая, ждет камин, они заключены в прозрачный пузырь буржуазного довольства, обеспеченный! бумажником приезжего с деньгами, и дождь бьет о стенки этого пузыря, как сегодня под вечер он бился о белое-белое лицо Лины, стоящей на краю дороги при выходе из леса в сумерках, ну и место для автостопа, и однако же, еще немножко супа, медвежонок, давай ешь, тебе надо уберечься от ангины, волосы еще влажные, но камин уже ждет, пылая, треща, в комнате с огромной кроватью эпохи Габсбургов, с зеркалами до полу, со столиками, бахромой, тяжелыми шторами, ну-ка скажи, отчего ты торчала там под дождем, твоя мама хорошенько бы тебя отшлепала.
Трупы, повторяет Лина, лучше ехать одной, ну конечно, если идет дождь, но ты не думай, этот плащ и вправду непромокаемый, только вот капельку волосы и ноги, и все, на всякий случай можно принять аспирин. И пока уносят пустую хлебницу и ставят другую, полнехонькую, куда медвежонок сразу же запускает лапу, и ой какое вкусное масло, а ты что делаешь, почему раскатываешь в такой потрясной машине, а почему ты, надо же, ты аргентинец? Оба соглашаются, что случай работает исправно, конечно же, уместно вспомнить, что если за восемь километров до того Марсело не остановился бы у придорожного кафе, девочка-медвежонок сидела бы теперь в другой машине или еще мокла бы в лесу, я агент по продаже сборных конструкций, это такое дело, что приходится много ездить, но сейчас у меня целых две обязанности. Медвежонок слушает внимательно, почти сурово, что такое сборные конструкции но конечно, это скучная тема, что тут поделаешь, ведь не скажешь, что ты укротитель хищников, или кинорежиссер, или Пол Маккартни. У нее резкие повадки насекомого или птицы хотя она девочка-медвежонок, подрагивающая челка, то и дело эта музыкальная фраза Арчи Шеппа, у тебя есть пластинки, то есть как, а-а, ну ладно. Вдруг сообразила, иронически думает Марсело, что для него было бы нормально не иметь пластинок Арчи Шеппа, и это глупо, потому что они у него и вправду есть и иногда он слушает их вместе с Марлене в Брюсселе, только не умеет вжиться в них так, как Лина, которая, проглотив кусок и неся ко рту другой, вдруг промурлычет обрывок мелодии, и ее улыбка полна блаженством от free-jazz[5]5
свободного джаза (англ.)
[Закрыть] и гуляша, промокшая девочка-медвежонок посреди дороги, мне еще никогда так не везло, ты добрый. Добрый и разумный, в отместку напевает Марсело, всхлип аккордеона, но мяч улетает в аут, это другое поколение, это девочка-медвежонок Шепп, танго уже не в моде, такие-то дела.
Понятно, остается еще зуд, почти болезненно-сладкая спазма тех минут, когда они въехали в Киндберг, гостиничная автостоянка в огромном древнем ангаре, старуха освещает им путь старинным, под стать всему, фонарем, Марсело – чемоданчик и портфель, Лина – рюкзак и хлюпающие кеды, приглашение поужинать, принятое перед Киндбергом, мы сможем немножко поболтать, ночь и пулеметные очереди дождя, куда уж ехать дальше, давай остановимся в Киндберге, приглашаю тебя поужинать, ой, конечно, спасибо, как здорово, ты пообсохнешь, лучше всего остаться здесь до утра, дождик, злись, как хочешь, нас ты не замочишь, ой, конечно, сказала Лина, и тогда стоянка, гулкие готические галереи, ведущие к конторе, как тепло в этом отеле, какое везенье, последняя капелька стекает с челки, рюкзак на плече, девочка-медвежонок, герл-скаут с добрым дядей, я сейчас возьму комнаты, чтобы ты немножко обсушилась перед ужином. И зуд, почти спазма там, внизу, Лина смотрит на него всей челкой, комнаты, какая ерунда, бери одну. И он не глядит на нее, но этот приятнонеприятный зуд, значит, то самое, значит, вот что тебя ждет, значит, медвежонок, суп, камин, значит, еще одна, везет же тебе, старик, ведь она прехорошенькая. Но потом, наблюдая, как она вытаскивает из рюкзака сухие джинсы и черный свитер, поворачивается спиной, болтает о пустяках, какой камин, как от него пахнет, какой душистый огонь, разыскивая для нее аспирин в глубине чемодана среди витаминов, и дезодорантов, и лосьонов после бритья, и докуда ты думаешь добраться, не знаю, у меня есть письмо к компании хиппи в Копенгагене, рисунки, которые мне дала Сесилия в Сантьяго, она сказала, что это отличные ребята, атласные ширмы, и Лина развешивает мокрую одежду, без церемоний вытряхивает содержимое рюкзака на позолоченный столик времен Франца-Иосифа с арабесками, Джеймс Болдуин, бумажные салфетки, пуговицы, темные очки, картонные коробочки, Пабло Неруда, женские пакетики, карта Германии, какая я голодная, Марсело, мне нравится твое имя, оно хорошо звучит, я голодная, тогда идем ужинать, в конце концов, под душем ты уже побывала, потом наведешь порядок в своем рюкзаке, Лина резко поднимает голову и смотрит на него: Я никогда не навожу порядка, к чему, рюкзак – он, как я сама, как это путешествие, как политика, все вперемешку и без разницы. Соплячка, думает Марсело, спазма, почти зуд (дать ей аспирин перед кофе, так подействует быстрее), но ей мешали эти словесные преграды, эти ты такая молодая и как ты ездишь вот так, одна, посреди супа она рассмеялась: молодежь, окаменелости, ходячие трупы, знаешь, как в этом фильме Ромеро. И гуляш, и потихоньку от тепла, от того, что девочка-медвежонок опять такая довольная, от вина зуд в животе уступает место какой-то радости, ощущению покоя, пусть говорит глупости, пусть продолжает объяснять свой взгляд на мир, который, пожалуй, был когда-то и его взглядом, но теперь к чему это вспоминать, пусть смотрит на него из своего театрика под челочкой, вдруг серьезная, даже озабоченная, и потом тут же Шепп и слова: как хорошо сидеть вот так, сухой, внутри уютного пузыря, а вот один раз в Авиньоне я пять часов ждала попутку, ветер был такой, что рвал крыши с домов, я видела, как птица разбилась о ствол дерева, знаешь, она упала, как платок; перец, пожалуйста.
Значит (пустое блюдо уже унесли), ты думаешь этак следовать до Дании, но у тебя есть хотя бы немножко денег, а? Конечно, я буду ехать дальше, ты не ешь салат? тогда дай его мне, я все еще не наелась, она складывает листья вилкой и жует не спеша, мурлыча тему Шеппа, и время от времени маленький серебристый пузырек лопается на влажных губах, красивый, четко очерченный рот кончается как раз там, где надо, эти рисунки времен Возрождения, осенняя Флоренция с Марлене, эти рты, которые любили рисовать гениальные мужеложцы, рты секретно сластолюбивые, своевольные и так далее, тебе уже ударил в голову рислинг семьдесят четвертого года, пока ты слушал ее слова, пробивающиеся сквозь жевание и мурлыкание, не знаю, как мне удалось кончить философский в Сантьяго, мне хотелось бы столько прочесть, как раз теперь время начинать читать. Да уж, разумеется, бедная девочка-медвежонок, столько радости от салата и от планов проглотить за шесть месяцев всего Спинозу вперемешку с Алленом Гинзбергом и конечно же Шеппом, много еще общих мест прозвучит до появления кофе (не забыть дать ей аспирин, мне не хватало только, чтобы она расчихалась, соплячка с мокрыми волосами, все лицо – одна прилипшая челка, дождь щупает ее на краю дороги), но параллельно между Шеппом и последними глотками гуляша все понемногу словно бы начало медленно кружиться, меняться, все те же фразы, Спиноза, Копенгаген и в то же время все иначе. Лина напротив него ломает хлеб, пьет вино, смотрит такая довольная, далеко и близко одновременно, меняясь с кружением ночи, хотя далеко и близко – это не объяснение, тут что-то другое, какой-то показ, Лина показывает ему что-то иное, не Саму себя, но что же тогда, позвольте спросить.
И две тонюсенькие пластинки швейцарского сыра, почему ты не ешь, Марсело, он чудесный, ты ничего не ел, вот глупый, такой важный господин, как ты, ты ведь важный господин, да? сидишь себе куришь, брови хмуришь и ничего не ешь, знаешь, может, еще немножко вина, хочешь, а? потому что под этот сыр, ты понимаешь, надо же его запить, пусть утрясется, ну давай поешь капельку; еще хлеба, надо же, сколько хлеба я ем, мне всегда предсказывали, что я растолстею, да-да, то, что слышишь, у меня уже есть животик, хоть и незаметный, есть, честное слово, Шепп.
Бесполезно ждать, чтобы она заговорила о чем-нибудь осмысленном, да и к чему (ты ведь важный господин, да?), девочка-медвежонок перед великолепием десерта, она глядит ошеломленно и в то же время прикидывающе на тележку на колесиках, заставленную пирожными, компотами, взбитыми сливками, да, животик, ей предсказывали, что она растолстеет, именно так, вот это, где побольше крема, и почему тебе не нравится Копенгаген, Марсело, но Марсело не говорил, что ему не нравится Копенгаген, только немножко глупо странствовать вот так, под проливным дождем, неделю за неделей, с рюкзаком за спиной, чтобы, скорее всего, обнаружить, что хиппи бродят уже по Калифорнии, но разве ты не понимаешь, как это неважно, я же сказала, что не знаю их, я везу им рисунки, которые дали мне Сесилия и Маркое в Сантьяго, и пластинку «Mothers of Invention»[6]6
«Матери выдумки» (англ.) – название женского поп-ансамбля
[Закрыть], здесь нет проигрывателя? а то я бы тебе ее поставила. Наверное, уже слишком поздно, и не забудь, это Киндберг, если бы еще цыганские скрипки, но эти матери, только подумай, и Лина смеется, слизывая крем, со своим животиком под черным свитером, оба они смеются, представив себе вой этих матерей посреди Киндберга, и какое лицо будет у хозяина гостиницы, и это тепло, которое уже давно сменило зуд в животе, он спрашивает себя, не будет ли она капризничать, не ляжет ли в конце концов посреди постели легендарные меч, пусть даже подушка, и каждый по свою сторону, моральная преграда, современный меч, Шепп, ну вот, ты уже чихаешь, прими аспирин, вон несут кофе, я попрошу чуточку коньяку, он активизирует салициловую кислоту, это я знаю из надежных источников. И ведь вправду он не сказал, что ему не нравится Копенгаген, но девочка-медвежонок как будто поняла тон его голоса яснее, чем слова, как он сам с той учительницей, которую он был влюблен в двенадцать лет, что значили слова по сравнению с тем воркованием, с тем, что рождалось в душ при звуке ее голоса – тоска по теплу, желание, чтобы его укутали и гладили по головке, столько лет спустя психоанализ: печаль, ба, тоска по первичному лону, все в конце концов, начиная с первого «пошли», плавало на поверхности вод, читайте Библию, пятьдесят тысяч песо, чтобы избавиться от головокружений, и теперь эта соплячка, которая словно вытаскивает наружу куски его самого, Шепп, но естественно, если ты глотаешь его всухомятку, он застрянет у тебя в горле, глупышка. И она, с прилежанием помешивая кофе, вдруг поднимает на него серьезные глаза и смотрит с новым уважением, ну, если она начнет над ним смеяться, она поплатится вдвойне, да нет же, правда, Марсело, мне нравится, когда ты становишься вот таким добрым доктором, папочкой, не сердись, я всегда говорю, чего не надо, не сердись, да я и не сержусь, дурашка, нет, ты немножко рассердился, когда я назвала тебя доктором папочкой, это не в том смысле, но вправду ты выглядишь таким добрым, когда говоришь об аспирине, и, видишь, ты позаботился о том, чтобы его разыскать и принести, я уже и забыла, Шепп, а он мне так нужен, ты чуточку смешной, когда глядишь на меня, как доктор, не сердись, Марсело, какой вкусный этот коньяк вместе с кофе, как от него будет спаться, представляешь, и конечно же, с семи утра на шоссе, три легковых и грузовик, все вместе не так уж плохо, если бы только не гроза в конце, но тогда Марсело, и Киндберг, и коньяк, Шепп. И рука остается лежать тихо-тихо, ладонью вверх на скатерти, усыпанной крошками, когда он легонько погладил ее, говоря, что нет, он не сердится, потому что теперь он знал, что это так и есть, что он и вправду растрогал ее этим крохотным проявлением заботливости, таблеткой, которую с подробными инструкциями вытащил из кармана, побольше воды, чтобы она не застряла в горле, кофе и коньяк; и вдруг – друзья, совсем настоящие друзья, и огонь, наверное, еще больше нагрел комнату, а горничная уже откинула простыню углом, как несомненно всегда делают в Киндберге, старинная церемония, приветливое добро пожаловать усталым путникам, глупеньким медвежатам, которые хотят мокнуть до самого Копенгагена и потом, но какая разница, что потом, Марсело, я уже сказала, что не хочу связывать себя, нехочунехочу, Копенгаген – это как мужчина, которого встречаешь и оставляешь (а-а), день, который проходит сам по себе, я не верю в будущее, в моей семье говорят только о будущем, меня уже тошнит от будущего, и его тоже, когда дядя Роберто превратился ласкового тирана, чтобы заботиться о Марселито, оставшемся без отца, а он еще такой маленький, бедняжка, надо думать о завтрашнем дне, сынок, крошечная пенсия дяди Роберто, что нам надо – так это сильное правительство, сегодняшняя молодежь думает только о развлечениях, черт побери, вот в мое время, и девочка-медвежонок оставила лежать руку на скатерти, и почему так по-идиотски щемит сердце, почему вдруг в памяти Буэнос-Айрес тридцатых или сороковых годов, пусть лучше Копенгаген, да, лучше Копенгаген, и хиппи, и дождь на краю дороги, но он никогда не ездил автостопом, практически никогда, раз-другой перед тем, как поступить в университет, а потом у него уже завелись деньжата, хватало на портного, и все-таки он мог бы в тот раз, когда ребята договаривались вместе сесть на парусник, который шел три месяца до Роттердама, груз, остановки, и всего шестьсот песо или около того, немножко помогая команде, сколько удовольствия, ну конечно же едем, кафе «Рубин» на Онсе, конечно же едем, Монито, надо только достать шестьсот монет, а это непросто, жалованье расходится на сигареты, кое-когда на девочек, и вот однажды они перестали встречаться, больше не было разговоров о паруснике, надо думать о завтрашнем дне, сынок, Шепп. Ах, опять; иди, Лина, тебе надо отдохнуть. Слушаюсь, доктор, но только еще минутку, видишь, у меня еще остался коньяк на донышке, он такой теплый, попробуй, вот видишь, какой он теплый. И наверное, он сказал бог знает что и очень громко, уйдя в воспоминания о «Рубине», потому что Лина снова как будто угадала его мысли по голосу, угадала то, что на самом деле говорил его голос, а не то, что было произнесено вслух, вечные идиотские фразы про аспирин и тебе надо отдохнуть или зачем, к примеру, ехать в Копенгаген, когда теперь, пока белая и горячая ручка лежала под его рукой, все могло бы стать Копенгагеном, все могло бы стать парусником, если бы только шестьсот песо, если бы решимость, если бы поэзия. И Лина взглянула на него и потом быстро опустила глаза, как будто все это лежало здесь, на столе, среди крошек, уже мусор времени, как будто он рассказывал ей обо всем этом, вместо того чтобы повторять иди, тебе надо отдохнуть, не решаясь употребить более логичное множественное число, идем, пошли спать, и Лина, прихорашиваясь, вспоминала о каких-то лошадях (а может быть, коровах, он едва услышал конец фразы), о лошадях, что неслись по полю, как будто что-то их внезапно испугало: две белые и одна рыжая, в усадьбе моего дяди, ты не знаешь, каково это – скакать под вечер против ветра, возвращаться поздно, усталой, и, конечно, упреки, прямо как мальчишка, сейчас, погоди, только допью этот глоточек и иду, сейчас, глядя на него всей подрагивающей челкой, словно она мчалась на лошади там, в усадьбе, сопя носом, потому что коньяк такой крепкий, с ее стороны будет глупо прикидываться недотрогой, ведь это она сама в длинном черном коридоре, она сама, хлюпая кедами, такая довольная: две комнаты, какая ерунда, бери одну, конечно, отдавая себе отчет во всех смыслах этой экономии, зная все наперед, а может быть, она и привыкла так, ждет этого на исходе каждого этапа, но если в конце концов все иначе, поскольку не похоже, да, если в конце концов решительно – на диванчик в углу, ну, тогда, конечно, он отправится на диванчик, он же человек галантный, не забудь свой шарф, никогда еще не видела такой широкой лестницы, наверняка это был дворец, здесь жили графы и устраивали балы при свете канделябров и все такое, и двери, погляди только на эту дверь, да ведь это же наша, разрисована оленями и пастушками, прямо фантастика. И огонь, красные саламандры, ускользающие вверх, раскрытая широченная белоснежная постель и шторы, глушащие окна, ах, как хорошо, как чудесно, Марсело, как мы выспимся, погоди только, я покажу тебе пластинку, у нее изумительный конверт, им понравится, она здесь, на дне, вместе с письмами и картами, я не могла ее потерять, Шепп. Завтра покажешь, ты и вправду простудилась, лучше раздевайся поскорее, я потушу свет, так огонь будет ярче, ой, да, Марсело, какие угли, все кошачьи глаза разом, все кошки вместе, ты посмотри на искры, как хорошо в темноте, прямо жалко ложиться, и он вешает пиджак на спинку кресла, приближается к медвежонку, уютно свернувшемуся у камина, снимает туфли, наклоняется, чтобы сесть рядом с ней перед огнем, глядит, как отблески и тени пробегают по ее распущенным волосам, помогает ей снять блузку, отыскивает застежку лифчика, его губы вжались в голое плечо, руки пустились на охоту среди искр, маленькая соплячка, глупенький медвежонок, в какой-то миг они уже стоят обнявшись, голые, перед огнем, целуются, целуются, постель холодная, белая, и вдруг ничего, пламя охватывает их целиком, бежит по коже, губы Лины в его волосах, на его груди, руки скользят по спине, тела подчиняются общему ритму, познают друг друга, и еле слышный стон, прерывистое дыхание, но надо ей сказать, потому что это обязательно надо сказать, прежде чем огонь, прежде чем сон, надо сказать это: Лина, ты ведь не из благодарности, правда? – и руки, бродящие по спине, взлетают, как хлысты, к его лицу, к его горлу, цепляются, давят – гневные, безобидные, нежнейшие и гневные, крохотные и бешено сжимающие руки, почти всхлип, стон протеста и отрицания, и в голосе тоже ярость, как ты можешь, как ты можешь, Марсело, и тогда, ну все, тогда прекрасно, все прекрасно, прости, любимая, прости, мне надо было это сказать, прости, нежное прости меня, губы, новый огонь, розовые по краям ласки, пузырек, дрожащий у губ, фазы взаимного узнавания, молчания, когда все становится кожей или медленным струением волос, взметнувшиеся ресницы, отказ и настояние, бутылка с минеральной водой, которую пьют из горлышка, которая, утоляя общую жажду, переходит из одних губ в другие, ускользая из пальцев, что ощупывают ночной столик, зажигают свет, и этот жест прикрыть абажур трусиками, чем попало, и в золотом свете приняться разглядывать Лину, повернувшуюся спиной, девочку-медвежонка на боку, медвежонка лицом вниз, тонкую кожу Лины, а она просит сигарету, садится, откидывается на подушки, ты костлявый и такой волосатый, Шепп, погоди, я немножко тебя прикрою, если найду одеяло, вон оно, в ногах, кажется, края чуть обгорели, Шепп.
Потом медленное и низкое пламя в камине, в их телах, оно затухает, золотится, вода уже выпита, сигареты, университетские лекции – такая мерзость, мне было так скучно, лучшему я научилась в кафе, читала перед киносеансами, разговаривала с Сесилией и с Пиручо, а он слушает, «Рубин», так похоже на «Рубин» двадцать лет назад, Арльт, и Рильке, и Элиот, и Борхес, только вот Лина смогла, она села на свой парусник, отправившись в путь автостопом, она делает свои дневные переходы в «рено» и «фольксвагенах», девочка-медвежонок среди сухих листьев, капли дождя на челочке, но почему опять и опять этот парусник, этот «Рубин», она ничего о них не знает, она тогда еще даже не родилась на свет, маленькая сопливая чилийская девочка, бродяжка, Копенгаген, почему с самого начала, с супа и белого вина, сама того не зная, она бросала и бросала ему в лицо столько всего прошлого и потерянного, столько забытого и похороненного, столько напоминаний о паруснике за шестьсот песо, Лина, что полусонно глядит на него, соскальзывая все ниже на подушки, вздыхает, как довольный зверек, протягивает руки к его лицу, ты мне нравишься, костлявый, ты уже прочел все книги, Шепп, я хочу сказать, что с тобой хорошо, ты уже вернулся, у тебя такие большие и сильные руки и столько всего позади, но ты не старый. Значит, девочка-медвежонок увидела, что он жив несмотря на, живее, чем ребята ее возраста, трупы из фильма, как его там, Ромеро, под челочкой крохотный театрик теперь влажно соскальзывал в сон, глядя на него из-под опущенных век, еще раз нежно овладеть ею, чувствуя ее и одновременно прощаясь с нею, слушать ее полупротестующее бурчание, я хочу спать, Марсело, нет, так не надо, надо, любимая, надо, ее тело легонькое и твердое, напряженные ягодицы, взрыв, сразу же удвоенный, возвращенный, это не Марлене в Брюсселе, не женщины такие, как он, неторопливые, уверенные, которые прочли все книги, она – девочка-медвежонок, у нее своя манера принимать его силу и отвечать на нее, но потом, все еще на краю ветра, пронизанного дождем и криками, в свою очередь соскальзывая в полусон, вдруг понять, что это тоже парусник и Копенгаген, его лицо, уткнувшееся в грудь Лины, было лицом из «Рубина», из первых отроческих ночей с Мабель или с Нелидой, в квартире, одолженной Монито, бешеные эластичные вспышки и почти сразу же: давай прошвырнемся по центру, дай мне конфеты, вот будет, если мама узнает. Значит, даже вот так, даже в любви не исчезает это зеркало, смотрящее назад, старей портрет самого себя в молодости, который Лина ставит перед его глазами, лаская его, и Шепп, и давай спать, и, пожалуйста, еще глоток воды; это словно вдруг стать ею, смотреть на все ее глазами, невыносимо, нелепо, необратимо, и наконец сон среди последних ласковых слов и всех волос медвежонка, закутавших его лицо, как будто что-то в ней знало, как будто хотело все стереть, чтобы он снова проснулся Марсело, как он проснулся в девять утра, и Лина, сидя на диванчике, причесывалась и напевала, уже одетая для новой дороги, для нового дождя. Они почти не разговаривали, быстрый завтрак, сияет солнце, за много километров от Киндберга они остановились, чтобы еще раз выпить кофе, Лина – четыре куска сахара, ее лицо словно умытое, отсутствующее, выражение какого-то абстрактного счастья, и тогда – знаешь, не сердись, скажи, что не рассердишься, ну конечно нет, скажи мне все, если тебе что-нибудь надо,– и остановка как раз на краю общего места, потому что слова были уже наготове, как деньги в его бумажнике, ожидая, что их используют, вот-вот они вылетят, – когда рука Лины робко легла в его руку, челочка упала на глаза, и наконец вопрос: нельзя ли ей проехать с ним еще немножко, пусть им и не по пути, все равно, еще немножко проехать с ним, потому что ей так хорошо, чтобы все еще чуточку не кончалось, такое солнце, мы поспим где-нибудь в лесу, я покажу тебе пластинку и рисунки, только до вечера, если хочешь, и почувствовать, что да, что, конечно же, он хочет, что нет никаких причин, отчего бы ему не хотеть, и медленно отнять руку и сказать, что нет, лучше не надо, знаешь, здесь большой перекресток, ты легко найдешь машину, и девочка-медвежонок вся сжалась, словно ее нежданно ударили, стала далекая и наклонила лицо, грызя сахар, глядя, как он расплачивается и встает, приносит ей рюкзак, целует в голову, поворачивается спиной, исчезает, резко переключая скорости, пятьдесят, восемьдесят, сто десять, путь открыт для агентов по продаже сборных конструкций, путь без Копенгагена, полный только прогнивших парусников, что громоздятся в кюветах, все лучше и лучше оплачиваемых должностей, приглушенного буэнос-айресского говора в «Рубине», тени одинокого платана на повороте дороги, ствола, в который он врезается на скорости сто шестьдесят, уткнув лицо в руль, как Лина, когда она опустила голову, потому что именно так, опустив голову, грызут сахар девочки-медвежата.








