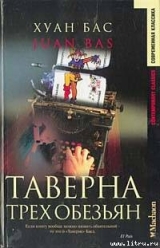
Текст книги "Таверна трех обезьян"
Автор книги: Хуан Бас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Наконец, медсестра Элис Рампино. Очень молодая, всего двадцати двух лет от роду, необыкновенная красавица: знойная красота роскошного тела. Одна из тех женщин, кто даже помимо своей воли источает флюиды чувственности. Элис была застенчивой и скромной девушкой из итальянской католической семьи; постоянное пребывание в тесном соседстве с пятью мужчинами, наверное, огорчало ее больше, нежели само бедственное положение, грозившее голодной смертью. Жестоким испытанием для нее стала необходимость отправлять свои естественные потребности – благо рацион был весьма скудным – на корме, закутавшись по мере возможности в просторную куртку, которую одолжил девушке Гарри Кловиц. Либейнон и Бутс, испражнявшиеся за борт на виду у всех, а иногда и Марион Прайс, словно праздновали торжество плоти, бесстыдно глазея на нее.
Элис относилась с опаской ко всем без исключения. И хотя она не скрывала неприязни к Бутсу и Либейнону, вместе с тем не баловала вниманием и других своих спутников.
Гарри Кловицу пришла в голову удачная мысль: в свободные от гребли часы немного развеять скуку с помощью французской колоды из аварийного запаса. Все члены команды проголосовали за покер, кроме девушки, которая не умела играть и не желала учиться.
Играли в обычный покер втемную с одним сносом. Ставки, естественно, были воображаемыми – на что хватало фантазии. Тысячи долларов, машины, недвижимость, трепетные кинозвезды, а также жены и невесты становились призрачными трофеями вымышленных розыгрышей.
Томас и я неторопливо дошли до реки Нервион, до подвесного моста. Мучительные воспоминания о прошлом с каждым мгновением овладевали моим другом все сильнее, и он уже почти не замечал милые сердцу пейзажи, которые не видел много лет. Мы подождали, пока кабина фуникулера пристанет к нашему берегу, и переправились на другую сторону, в Португалете.
На шестой день продукты закончились, паника усилилась. Погода держалась хорошая, океан оставался спокойным, шесть акул были на посту. Потерпевшие кораблекрушение решили больше не грести, чтобы сберечь силы перед лицом неминуемого голода.
Напряжение между ними только усилилось, хотя до открытой вражды дело пока не доходило; атмосфера сгустилась, как перед бурей, готовой разразиться в любую минуту. Они по-прежнему играли в покер, но брались за карты с каждым разом все неохотнее, едва ли не заставляя себя следовать заведенному порядку, обязывавшему всех участвовать в коллективных мероприятиях.
Еще через три дня скверные последствия голодовки начали проявляться в полной мере, усугубив и без того нелегкие отношения. Люди почти не разговаривали, долгие дни тянулись час за часом в полном молчании.
Бутс не замедлил продемонстрировать свою животную сущность: он без конца твердил Элис, что если уж им всем суждено умереть, почему бы напоследок не позабавиться, попробовав такую сочную телку, по крайней мере ему, коли у других нет аппетита. Девушка воспринимала его разглагольствования всерьез и содрогалась от ужаса.
Однажды Бутс и Либейнон зашли слишком далеко и грянула буря. Полуденное солнце припекало вовсю, тонкая рубашка Элис, пропитавшись потом, облепила роскошные формы девушки, обрисовав ее полные груди. Бутс и Либейнон уселись перед нею и принялись мастурбировать, словно обезумевшие павианы, с неистовством, внушавшим страх. Урибе и Кловиц возмутились и попытались их остановить. Свободной рукой Бутс наставил на них пистолет и не опускал ствол даже когда он сам, а затем его прихвостень, извергли семя на спину девушки, которая свернулась клубочком на носу шлюпки и рыдала, прикрыв голову руками.
Начиная с этого момента оружие всегда было наготове. Ночью Бутс и Либейнон спали по очереди, сменяя друг друга, чтобы постоянно держать своих спутников под прицелом.
Утром Бутс объявил, что пить воду разрешено только ему, его приятелю и девушке. Урибе и Кловиц попробовали вразумить его. Бутс ткнул дулом в лоб Томаса и взвел курок… В следующий миг он провернул пистолет, ухватил его за дуло и рукоятью нанес Урибе удар в челюсть, раскрошив зуб… Но Бутс не собирался убивать испанца; он придумал забаву получше. Он заставил Мариона, Гари и Томаса собраться вместе на корме и сидеть тихо. Затем он потребовал, чтобы Элис встала в полный рост на носу, на виду у всех, и не торопясь сняла с себя одежду, если желает сохранить жизнь своим друзьям.
Ее воля к сопротивлению была сломлена, она заплакала и медленно неловко разделась. Бутс отдал пистолет Либейнону и изнасиловал малышку там же, на носу, набросившись на нее, точно дикий зверь. На пенисе, извлеченном из тела девушки, была кровь: Элис оказалась девственницей.
Либейнон взял ее сзади, поставив на колени; отдохнув, оба негодяя занялись ею одновременно. Насилуя ее в рот, Бутс с вызовом глядел на Томаса, нацелив на него пистолет.
До захода солнца Бутс и Либейнон еще раз развлеклись с Элис, уже без спешки, испробовав на практике кое-какие свои сексуальные фантазии.
В ту ночь, подкарауливая мерзавцев, Томас Урибе ни на секунду не сомкнул глаз, хотя и притворялся спящим. Четыре дня строгого поста в сочетании с усталостью от половых излишеств не могли пройти бесследно. Так и вышло.
С первыми проблесками рассвета Либейнон, несший дежурство в то время, как Бутс храпел рядом, начал клевать носом; дремота сморила его. Дважды голова его падала на грудь, но он еще находил силы стряхнуть сон. На третий раз он крепко заснул: момент настал. Однако Гарри Кловиц, расположившийся на ночлег гораздо ближе к Либейнону, опередил Томаса. Он молниеносно вскочил, в тот же миг раздался звонкий металлический щелчок выкидного ножа, которого до тех пор никто не видел. Калифорниец вонзил длинное лезвие в глотку Либейнону и еще раз ударил в грудь, а тем временем Урибе завладел пистолетом. Либейнон отошел в небытие во сне. Бутс, пробудившись, обнаружил, что дуло пистолета сорок пятого калибра, уперлось ему в переносицу. Но тут произошло нечто совершенно невероятное: безвольный помощник кока Марион Прайс кинулся к трупу, схватил солдатскую каску Либейнона – воды в ней уже не осталось – и подставил наподобие миски под алую струю, фонтаном бившую из перерезанного горла. Он лишь на мгновение прервал процесс, с жадностью отхлебнув горячей крови, а затем продолжил наполнять емкость. Все, включая Бутса, окаменели от ужаса. Из оцепенения их вывел истерический вопль Элис Рампино, отчаянно требовавшей пистолет, чтобы застрелить Бутса… Мужчины об этом уже не думали.
Томас залпом осушил бокал вина. Мы заказали по бокалу белого в трактире на улице Коскохалес, что в квартале Португалете. Было заметно – последняя часть истории, начиная с этого места, от волнения дается ему с трудом.
Вторым живой крови напился Бутс, никто иной. А затем, корчась от отвращения и захлебываясь от жадности – Кловиц и Урибе. Элис отказалась наотрез. Она уже немного успокоилась – пытаясь выцарапать глаза Бутсу, она изрядно исполосовала ему лицо; к слову, никто особенно и не старался ей помешать. Девушка только выпила немного воды, которую, с мучительными судорогами, немедленно исторгла из себя.
Бутс вел себя по-прежнему нагло, хотя роли поменялись, и теперь дуло пистолета было направлено на него, а руки ему крепко связали ремнем Либейнона. Он высказал вслух то, что вертелось на уме у всех остальных: если они хотят выжить, то нашли единственное средство. И добавил со свойственным ему жестоким чувством юмора, что, в конечном счете, Либейнон – превосходный кусок мяса, мясо из Оклахомы,
Никто не отважился принять окончательное решение, никто не произнес ни слова… Пока Марион не положил конец сомнениям, взявшись за дело. Он заточил на одной го металлических уключин штык Либейнона – других режущих орудий, кроме штыка и выкидного ножа Кловица, на борту не имелось – и принялся расчленять тело. Элис перебралась на нос и закуталась в куртку с головой. Вскоре Кловиц, вооружившись остро отточенным ножом, пришел на помощь Мариону, следуя его указаниям… Внутренности и голова покойника вызвали понятное возбуждение в стае акул.
Они разломали одно из весел и собирались развести костер на корме, но риск спалить всю лодку был слишком велик. Приходилось довольствоваться сырым мясом. В первый день только Бутс и Марион смогли питаться таким образом: они отрезали крошечные кусочки и глотали их, не прожевывая. На следующий день Кловиц и Урибе разделили с ними адскую трапезу.
Томас попытался уговорить девушку поесть, но Элис впала в полное оцепенение и, похоже, предпочитала умереть с голоду. Уже в течение шести дней она только пила воду, и ее общая физическая слабость внушала тревогу.
Невзирая на героические усилия спасти мясо от солнца – они сложили куски под брезент, который непрерывно смачивали морской водой – летняя жара сделала свое дело: на третий день оно протухло и стало несъедобным.
На двадцатые сутки бедствия погода испортилась. Более двадцати четырех часов сражались несчастные с разбушевавшейся стихией под проливным дождем, имея в своем распоряжении только три весла. Несколько раз огромные валы едва не потопили суденышко. Одна из высоких волн, внезапно обрушившись на правый борт шлюпки, смыла с палубы Гарри Кловица, который наловчился править веслом наподобие руля. Ревущее вспененное море поглотило его в один миг… После этого Томас особенно остро ощутил свое одиночество и безнадежность их положения.
После бури на небе вновь засияло солнце, и на поверхности океана воцарилось редкостное ленивое спокойствие: не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, и жара сделалась удушающей. К счастью, акул было, как и раньше, только шесть: Томас немало подивился самой парадоксальности идеи пересчитать их.
По прошествии нескольких дней голод снова заявил о себе, пожалуй, даже с большей силой, чем раньше. Он заставил забыть об отвращении, они тешились воспоминанием о том, как насыщались плотью Либейнона, и тогда голод становился особенно нестерпимым.
Четверо выживших подошли к решению проблемы без сантиментов: в действительности, трое, ибо Элис большую часть времени лежала, равнодушная ко всему. Марион спокойно предложил Томасу, который теперь стал главным, убить Бутса, и это было справедливо. Старший сержант беспокойно зашевелился в своем углу – после бури его опять связали – но ничего не сказал: вероятно, ему подобный исход также представлялся самым логичным.
Предложение вывело из забытья Элис, приподнявшись немного, девушка поддержала его слабым голосом, полным ненависти. Томас колебался. Не в первый раз и, наверное, не в последний ему приходилось хладнокровно лишать человека жизни. Но одно дело – на войне, и совершенно другое то, что они собирались сделать: убить себе подобного, чтобы съесть. Что может быть ужаснее? С другой стороны, сам Бутс убил бы их, не задумываясь, и он обращался с ними, как враг, злейший враг.
Голод разрешил сомнения, и Томас велел Бутсу готовиться к смерти. Несмотря на прошедшие годы, он все еще с содроганием вспоминал мрачные, торжествующие улыбки Мариона и Элис. Выслушав приговор, Бутс ответил свирепой улыбкой. Он попросил Урибе, чтобы ему дали умереть стоя и глядя на море: он не желал получить пулю, словно загнанная в угол крыса. Он встал у борта лицом к океану. Но как только Томас прицелился, Бутс издал душераздирающий вопль, выкрикнул ругательство и одним прыжком перемахнул за борт. Он остался верен себе до конца. Он всплыл единственный раз, отчаянно колотя по воде одной рукой, поскольку второй уже не было. Самая крупная из шести акул раскрыла чудовищную пасть, целиком заглотив голову жертвы, и нырнула.
У городской ратуши мы взяли такси, чтобы доехать до Сантурсе, где намеревались пообедать. Предместье находилось не более, чем в двух километрах от Португалете, но мы уже оттоптали себе ноги. Весь недолгий путь мой друг молчал, погрузившись в свои мысли.
Несчастные кое-как продержались еще сутки, но такое существование превращалось в сплошную муку: с момента катастрофы прошло двадцать четыре дня. Томас носил пистолет за поясом, поставив его на предохранитель, но со взведенным курком и досланным патроном: он ни на грош не доверял чернокожему.
Элис могла скоро умереть, если немедленно не поест. Урибе без труда читал сокровенные мысли Мариона: пришел черед девушки. Но такое решение, естественным образом вытекавшее из предсмертного состояния медсестры, явилось непосильным бременем для Томаса.
Он предложил разыграть в покер, кому из троих придется пожертвовать собой ради остальных. Пистолет за поясом не допускал возражений.
Они усадили Элис, прислонив ее спиной к борту, чтобы она могла следить за партией. Девушка не знала правил игры, поэтому Томас собирался сдать каждому по пять карт в открытую, проигрывал тот, кто получал самую слабую комбинацию. Он оставил в колоде всего двадцать карт – тузы, короли, дамы, валеты и десятки.
Мой друг признался мне, что никогда в жизни он не испытывал такой тревоги и напряжения, чем тогда, в тот самый миг, когда по одной сдавал карты на три руки, выкладывая их на расстеленный брезент. Справа от него находилась Элис, слева Марион.
Томас перетасовал колоду и начал сдачу: туза – Элис, короля – Мариону, другого короля – себе. Вторая карта: десятку – Элис, еще десятку – Мариону, даму – себе. Третья карта: туза – Элис: пара тузов, валета – Мариону, дамусебе: пара дам. Четвертая карта: десятку – Элис: две пары, туза – Мариону: хорошие шансы образовать стрит, короля – себе: две пары, уступающие по достоинству двум парам Элис…
Сдача пятой карты стоила Томасу немалых усилий, у него затряслись руки, он боялся выронить колоду… Элис получила валета, оставшись с двумя парами тузов и десяток. Пятая карта Мариону…
Если выпадет дама – он выиграл, если любая другая – проиграл: пришла дама, достроив стрит. В проигрыше останется теперь или Элис, или он сам… Кровь застучала в висках, когда он взглянул на свою последнюю карту: третий король – фулл. Элис проиграла… Девушка тоненько заскулила, когда ей это растолковали… Томас вынул оружие и снял его с предохранителя, мечтая покончить со всем этим кошмаром как можно скорее.
Возможно, причиной стал огонек гнусного торжества, загоревшийся в глазах Мариона, а, может, подсознательно он принял такое решение еще в начале игры: он отвел дуло от поникшей девичьей го-" ловки и послал пулю в лоб помощника по камбузу.
В последовавшие за тем дни Томас сумел настоять, чтобы Элис подкрепила силы кровью, разбавленной водой, но было поздно – истощение достигло необратимой стадии.
Девушка скончалась 3 августа 1943 года, на двадцать седьмые сутки с момента кораблекрушения. Перед смертью она попросила Томаса поцеловать ее в губы и перекрестила его.
Спустя неделю Томаса подобрал гидроплан британского военно-морского флота. Его нашли в шлюпке в полном одиночестве, и ни малейшего намека на то, что с ним был кто-то еще в течение долгого плавания. Спасителей удивило, что он не походил на изголодавшегося человека, но они не стали донимать его расспросами, полагая, что на земле все скоро разъяснится.
В Лондоне сержант Томас Урибе предстал перед военным судом американской морской пехоты. Он твердо стоял на своем: тридцать четыре дня он в одиночку боролся за выживание, питаясь исключительно продуктами из аварийного запаса и мясом парочки дельфинов, которых ему удалось подстрелить из пистолета. Алиби выглядело правдоподобно еще и благодаря тому, что акулы исчезли, едва показался гидроплан, как будто их и не было.
Теперь, в январе 1976 года, когда бренные останки моего друга Томаса Урибе покоятся в земле, я вспоминаю умиротворенное выражение, разгладившее его черты, когда он облегчил душу, поведав свою леденящую кровь историю хоть кому-то. Кстати, в конце у меня возникли кое-какие вопросы, но я интуитивно чувствовал, что ему не захочется отвечать на них. Еще я вспоминаю, что в «Каса Лукас» – хорошем рыбном ресторане на улице Капитана Мендисабаля, куда мы зашли пообедать – меня смутило, что он заказал мясо; вернее, меня насторожило то, в каком виде он его заказал: Томас попросил принести толстую отбивную, хорошо разогретую, но совершенно сырую внутри.
Ромео и ковбои
Нет, это была явно глупая затея, и еще глупее то, что я так дешево купился. Я имею в виду не только злополучный выбор именно той части страны-снявши голову, по волосам не плачут, как просто и ясно говаривал Джек-Пот, главный казначей труппы, когда ему приходилось выуживать медяки из загашника, Я апеллирую к более раннему и судьбоносному решению приехать сюда, на этот огромный континент, населенный дикарями и самыми низкопробными мошенниками, которых роднило общее происхождение: обездоленные оборванцы и висельники со всех уголков света.
В Лондоне мы тоже терпели нужду, я не отрицаю; откровенно говоря, дела шли из рук вон плохо, но мы были дома, и бедность являлась, как бы лучше выразиться, привычной, знакомой, пожалуй, даже уютной.
Так вот, я проклинаю от всего сердца день, когда Корнелий Эразм Торндайк, наш «ненаглядный» режиссер, собрал в полном составе «Постоянную Труппу Театра Духа Шекспира из Стратфорда-на-Эйвоне» в «Бешеной зеленой собаке», том самом вонючем кабаке, где нас еще поили в кредит… иногда, а точнее, в те моменты, когда хозяина, Перри Грушу, валила с ног можжевеловая водка из собственных запасов, и за стойкой распоряжалась его жена, Глупышка Агнес, чьи плотские желания частенько удовлетворял Джимми Моденкрасс, наш второй герой-любовник; кстати я, Персиваль Бэкфайр, выступаю, вернее, выступал в амплуа первого… Пока красавчик Джимми ублажал трактирщицу – а Джимми Моденкрасс, по слухам, был удальцом – мы изрядно нагрузились и разомлели, прикончив в мгновение ока несколько бутылок рома «Веселый моряк», а потому нам вовсе не показалось нелепым совершено безрассудное в сущности предложение свихнувшегося Корнелия: всем театром переехать в края, которые он считал землей обетованной, где текут молочные реки, и подарить наше бессмертное искусство душам, свободным от предрассудков – гражданам Соединенных Штатов Америки… Если жив он, пусть Бог воздаст ему по заслугам и покарает более сурово, чем даже в день светопредставления.
Одиннадцатого марта 1878 года, когда истек срок оскорбительного карантина, которому подверглась целиком вся труппа, мы ступили, наконец, на «землю свободы». Теперь мы могли отправиться в турне, которое дало бы нам средний, зато стабильный доход, представляя «Гамлета» и «Короля Лира» или шотландскую пьесу (по общему мнению, произносить вслух название сей пьесы не следовало, ибо это сулило ужаснейшие бедствия; нам и так предстояло множество раз мямлить его) на сцене второразрядных театров в Вашингтоне, Бостоне, Балтиморе или Филадельфии, в городах, где, по утверждению людей сведущих, просвещение принесло первые скудные плоды, и невежество уже не было столь удручающим, как дремучее варварство, царившее на территории, составлявшей две трети, если не более, Соединенных Штатов. Но нет, Корнелий Эразм Торндайк горел желанием двинуться прямо на восток и с помощью вдохновенных проповедей убеждал нас направить стопы наши именно в этом направлении. Он вещал:
– Нет сомнений, что там обитают души невинные, которых не коснулось тлетворное веяние цивилизации… люди простые, которых повергнет в восторженный трепет наше воплощение на сцене бессмертного искусства… в миг духовного катарсиса они зарыдают, ибо светоч совершенной поэзии великого Билла просветлит их разум, пробудив в них любовь и тягу к красоте, – тут Корнелий эффектным движением сорвал с себя шляпу, метнул в стену пустую бутылку, которую держал в другой руке, и возвысил голос. – Наконец, друзья мои, это идеальная публика для «Духа Шекспира из Стратфорда», созданная словно в ответ на наши молитвы. Ее святое предназначение увенчать нас немеркнущей славой, которую мы столь давно и заслуженно ждем.
Как самые настоящие бараны, мы поверили ему и даже рукоплескали.
Целый несчастный год мы скитались, словно горстка неприкаянных, по Богом забытым местам с названиями, от одного воспоминания о которых мои златые кудри встают дыбом: Надгробный камень – поименован так в знак особого уважения к памяти доктора Холлидея, просвещенного господина со слабым здоровьем и обширными замыслами; Бобовый Привал, Старая Погибель и Свежая Могила, Перекресток Головорезов, Пороховая Бочка, Большая Бойня, Малая Резня, Подмога… Нет сил перечислять все грязные, убогие городишки, разбросанные по диким просторам Аризоны и Новой Мексики, куда нас завела мания величия жалкого слепца Корнелия Э. Торндайка.
В этом варварском захолустье мы претерпевали неисчислимые бедствия. На нас сыпались разнообразные оскорбления, не говоря уж о более гнусных и опасных для жизни выходках, объектом которых мы стали: мы освоили танцевальные па в ритме Кольта – самого Корнелия настигла карающая длань Господа, ибо он во время одной такой пляски лишился большого пальца на левой ноге. Нас побивали камнями, угрожали линчевать, вываливали в смоле и перьях. Следует ли добавить к этому списку попытки осуществить над нами насилие, порой успешные, как, например, похищение (правда, весьма непродолжительное), совершенное бандой апачей, упившихся до умопомрачения мескалевой водки; из рук дикарей нас спас – откровенный эвфемизм, поскольку болезнь оказалась ничуть не страшнее лекарства от нее – кавалерийский взвод федеральной армии, отличавшийся исключительной жестокостью; солдаты преследовали несчастных индейцев так долго, что те успели превратиться чуть ли не в трезвенников.
Было совершенно ясно: средним американцам из дремучей глубинки театр пришелся не по вкусу; они его просто не понимали. Им стоило огромного труда уловить разницу между вымыслом и реальностью, и несуразность действия раздражала их и настраивала враждебно против, гм… выразительных средств, то есть нас, актеров.
При сложившихся обстоятельствах любой другой человек, капельку поумнее, чем ваш покорный слуга, давно сообразил бы, что пора уносить ноги как можно дальше от этого континента, но вопреки здравому смыслу мы тянули с решением и продолжали катиться вниз, пока не оказались на самом дне пропасти: роковой стала для нас суббота, а точнее – 3 мая 1879 года.
В тот день мы прибыли в нашей ярко размалеванной двухколесной повозке (Корнелий упорно отказывался ее перекрасить, хотя крикливый ядовито-розовый цвет неизменно служил источником громких перебранок, поскольку на нас обрушивались потоки издевательств и грубых шуток, едва мы въезжали в очередную деревушку) в Хот Спринте, скотоводческий поселок в Новой Мексике, все население которого не достигало и трех сотен «жителей»… надо же как-то называть недоразвитые существа, которые следили за нашей двуколкой своими крошечными глазками. Сельцо считалось едва ли не столичным городом, насчитывая при этом не более двух десятков деревянных домов, вытянувшихся в два ряда вдоль единственной улицы. Хот Спринте обогащался главным образом за счет бесперебойной торговли горячительными напитками. Три притона – салуны «Пивная кружка», «Стеклорез» и «Ледоруб» – взяли на себя нелегкий труд утолять ненасытную жажду ковбоев с соседних ранчо. Вот в такую адскую клоаку мы угодили, и, как назло, это случилось в субботу, когда у ковбоев выходной.
Корнелий договорился с хозяином «Пивной кружки», наименее смрадного из заведений и к тому же единственного, где имелась маленькая сцена, на которой задирали ноги три голодные шлюхи, о том, что мы сыграем спектакль в тот же вечер. В «Пивной кружке» нас гостеприимно впустили в убогое подсобное помещение и облагодетельствовали тремя кувшинчиками пива «Морская черепаха»; Корнелий получил бутылку бурбона «Гремучая змея». За вход, как обычно, плату не брали, но Джек-Пот, наверное, дважды пустил бы шляпу по кругу: в начале представления, что давало наилучшие сборы, так как невежественный сброд еще не знал, какое зрелище его ждет, и вносил определенную сумму в качестве вотума слепого доверия, а затем в конце выступления.
Для дебюта в этом городишке, где никто слыхом не слыхивал, что такое есть театр, мы выбрали трагедию «Ромео и Джульета».
Признаться, мы обращались с произведениями Шекспира без малейшего уважения к авторскому тексту. Что касается «Ромео и Джульеты», помимо значительных сокращений, мы выбросили некоторых действующих лиц, добавили пикантную сцену и еще одну дуэль.
Корнелий полагал, что пьеса о великой страсти влюбленных из Вероны, малость приукрашенная действием, будет как нельзя лучше соответствовать зачаточному уровню развития мозгов пастухов рогатого скота. Грубая ошибка.
Ваш покорный слуга исполнял роль благородного Ромео, а роль Джульеты играла моя Александрийская роза, хрупкая Констанс Шарк, моя суженая; наша безоблачная идиллия длилась с той поры, как мы покинули милые сердцу берега Англии.
Начало спектакля прошло относительно неплохо, иными словами, мы с грехом пополам декламировали стихи, сгрудившись в грязном закутке, громко именуемом сценой. Немного мешала только непрерывная стрельба в потолок, а еще иногда нас забрасывали объедками. Наконец, мы добрались до третьего акта – совершенно неоправданное, с точки зрения логики, разделение, но, как я уже упоминал, драматургический гений Корнелия превратил некогда стройную композицию пьесы в нечто громоздкое и бесформенное… Итак, в первой сцене третьего акта Тибальд и Меркуцио сходились в поединке на шпагах.
Пожалуй, нам просто не повезло, что в тот злосчастный вечер роковым образом совпали два важных обстоятельства. Во-первых, в том заведении отсутствовали представительницы прекрасного пола. Кроме Констанс, которую я оплакиваю и поныне, в притоне не было ни одной женщины: зачуханные танцовщицы с выгодой использовали тот промежуток времени, пока длилось представление, обслуживая клиентов в каморках на втором этаже. Основная часть публики состояла приблизительно из трех десятков негодяев, относившихся ко всему на свете с тупым равнодушием. Во-вторых., некстати оказался визит семерки подвыпивших ковбоев с ранчо Пахарито.
Буйные молодчики явились, накачавшись до бровей спиртным, одержимые желанием повеселиться на всю катушку, и сверх того, у каждого на поясе болталось по револьверу. Они приняли фехтование Тибальда и Меркуцио – их играли безвременно почившие Тобби Пропащий и Уилбур Секач – за настоящую дуэль и моментально разделились на два лагеря, побившись об заклад на участь того или иного соперника. Смертельный удар, который Тобби-Тибальд нанес, слегка кольнув острием шпаги в подбитый тряпками камзол Уилбура-Меркуцио явно показался совершенно неубедительным тем, кто ставил на второго бойца, и разгорелась ссора. За криками и бранью последовали толчки, удары, полетели бутылки, а затем началась жаркая перестрелка, наполнившая салун дымом и ставшая причиной страшной сумятицы и горестных утрат.
Тибальд и Меркуцио неосмотрительно спустились со сцены, дабы попытаться объяснить, что все это лишь вымышленный мир поэтической фантазии, и первыми схватили свинец. Два ковбоя с ранчо Пахарито полегли, подставившись под огонь своих же товарищей, еще трое или четверо батраков получили ранения различной тяжести, и… Эта ужасная картина встает перед глазами, словно наяву, и я не в силах удержать горючих слез: Констанс, нежный цветок Сохо, была убита выстрелом в голову, пуля попала точно между ее дивных глаз цвета волн темно-синего Северного моря… У меня не было времени ни оплакать возлюбленную, ни даже прижать к груди ее безжизненную головку. Двое из тех жестоких убийц воспользовались царившей в салуне суматохой и, одержимые похотью, разгоряченные воспламеняющей смесью алкоголя и насилия, мигом подхватили вашего покорного слугу и понесли. Словно волки, поразбойничавшие в овчарне, они вытащили меня из «Пивной кружки» и швырнули с прискорбной небрежностью поперек спины рыжей лошади, которая тотчас сорвалась с места в карьер, повинуясь всаднику – одному из тех сомнительных типов. Прежде чем пришпорить скакуна, грубый ковбой рукой, которой не держал повод, потрепал меня за яйца, а зачем, – из эротических или враждебных побуждений – я не берусь судить.
Со временем я пришел к выводу, что эти скоты не были содомитами в полном смысле: не увидев ни одной юбки после того, как сдуру прикончили единственную женщину, находившуюся в поле зрения – бедняжка моя, прости меня за грубость, если слышишь сейчас с небес – они по достоинству оценили мой благородный облик белокурого атлета и решили довольствоваться лучшим из того, что есть.
Мы неслись галопом, причем меня растрясло, словно мешок костей, а желудок взбунтовался, чему немало поспособствовал тяжелый ужин из бобовой похлебки с салом, обильно сдобренный пивом, которым нас угостил хмурый хозяин салуна. На рассвете мы примчались на ранчо. Едва сняв меня с лошади, всадник – позднее я узнал, что его звать Сухой Фестус – прижался своими липкими губами к моему чувственному рту, и меня вывернуло наизнанку; столь бурная реакция сразу поумерила его пыл.
Местность, где мы находились, производила гнетущее впечатление: унылая голая степь, где не было ничего, кроме загона с сотнями голов скота (животные словно инстинктивно почуяли страсть, витавшую в воздухе, и мычали в ночи протяжно и обреченно) и лачуга, которая служила ночлегом моим радушным хозяевам. Каждый из пятерых недоумков, уцелевших в перестрелке, желал заполучить меня в личную собственность и вкушать со мной плотские радости безраздельно. А посему они вновь схватилсь за револьверы, порываясь изрешетить друг друга. Однако барабаны были пусты, а поклонники моих прелестей слишком пьяны, чтобы перезарядить оружие в темноте. И они договорились разыграть меня в покер.
Они обмотали лассо мой мужественный торс и поволокли в свою хибарку. Но прежде, чем переступить порог, я успел различить в отдалении смутный силуэт главной усадьбы имения, где обитал бессердечный владелец ранчо Пахарито Джон Фэтфингер, он же Большой Джон, он же Толстый Палец, первопроходец, сколотивший состояние собственными руками. В комнатах на втором этаже все еще горел свет. Ковбои отпустили парочку острот на этот счет: мол, Мария Кончита, его жена-мексиканка, которую втихомолку прозвали «Женщина-вулкан», не наигралась пока толстым пальцем Большого Джона.
Как только меня завели в лачугу, Пустомеля Билл, второй из моих похитителей, чтобы никто не нарушил нашего уединения, снаружи загородил вход коровой, что было, конечно, самым простым решением, однако, оставляло его самого вне игры. Поэтому, поставив у порога живую баррикаду, он попытался влезть в хибару через узкое оконце, что оказалось далеко не легкой задачей. Его приятели не поспешили вызволить его из затруднительного положения, напротив, воспользовались его беспомощностью, чтобы вывести из игры, и врезали от души рукоятками револьверов по затылку. Они явно перестарались: Пустомеля Билл так и не пришел в себя, так и висел вниз головой в оконном проеме, пока его останки, вернее, то, что от них оставили стервятники, не были преданы христианскому погребению несколько дней спустя.








