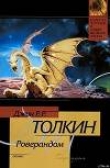Текст книги "Джон Р. Р. Толкин. Биография"
Автор книги: Хамфри Карпентер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В один прекрасный день, ближе к концу осеннего триместра 1909 года, они с Эдит сговорились отправиться тайком от всех на велосипедную прогулку за город. «Нам казалось, что мы все задумали чрезвычайно хитро, – писал он. – Эдит уехала на велосипеде раньше меня, сказав, что отправляется в гости к своей кузине, Дженни Гроув. Немного погодя выехал я, «потренироваться на школьной спортплощадке». Мы встретились в условленном месте и покатили в холмы Лики». Они провели день в холмах, а потом спустились попить чаю в деревню Реднэл. Их напоили чаем в том самом доме, где Рональд жил несколько месяцев назад, готовясь к экзамену на стипендию. Потом они поехали домой и вернулись на Дачис–Роуд порознь, чтобы не вызывать подозрений. Но они не приняли в расчет длинных языков. Женщина, поившая их чаем, рассказала миссис Черч, экономке дома Молельни, что заезжал в гости мастер [«Мастер» – вежливое обращение, которое присоединяется к имени мальчика.] Рональд и с ним незнакомая девушка. Миссис Черч случайно упомянула об этом при кухарке Молельни. А кухарка, бывшая заядлой сплетницей, пересказала это отцу Френсису.
Опекун Рональда относился к мальчику как отец. Можно себе представить, что он испытал, узнав, что питомец, для которого он не жалел ни любви, ни заботы, ни средств, вместо того чтобы сосредоточиться на учебе, жизненно важной для его судьбы, завел (как быстро показало проведенное расследование) тайный роман с девицей на три года старше его, живущей в том же доме. Отец Френсис вызвал Рональда в Молельню, сказал юноше, что до глубины души потрясен его поведением, и потребовал положить конец интрижке. Затем он переселил Рональда с Хилари на другую квартиру, подальше от девушки.
Может показаться странным, что Рональд не решился просто–напросто ослушаться отца Френсиса и открыто продолжать роман. Но тогда были Другие времена. Приличия требовали, чтобы молодые люди повиновались своим родителям или наставникам; к тому же Рональд очень любил отца Френсиса и зависел от него в денежном отношении. И наконец, Рональд по натуре не был бунтовщиком. Если принять все это во внимание, вполне понятно, почему он покорился.
В разгар скандала из–за Эдит Рональду пришлось ехать в Оксфорд, сдавать экзамен на стипендию. Если бы не смятение чувств, он бы, наверное, куда больше наслаждался своими первыми впечатлениями от Оксфорда. Из окон Корпус–Кристи–Колледжа, где остановился Рональд, открывался вид на такие изумительные башни и парапеты, что по сравнению с этим его родная школа казалась не более чем жалкой тенью. Оксфорд был нов для него во всех отношениях: предки Рональда никогда не учились в университетах. Сейчас у него появился шанс прославить Толкинов и Саффилдов, отплатить отцу Френсису за доброту и щедрость и доказать, что любовь к Эдит не помешала ему в занятиях. Но это было нелегко. После экзаменов он тщетно искал свое имя в списках стипендиатов. Он не прошел. Рональд уныло повернулся спиной к Мертон–Стрит и Ориэл–Сквер и отправился на вокзал, думая, что, наверно, больше он сюда никогда не вернется.
Но на самом деле в его неудаче не было ничего удивительного и ничего непоправимого. Добиться стипендии в Оксфорде всегда было чрезвычайно трудно, а ведь Рональд сделал лишь первую попытку. Он мог попробовать снова сдать экзамен в следующем декабре. Однако, если бы он и тогда не получил стипендии, шансов попасть в Оксфорд у него не оставалось: плата за обучение на общих основаниях его опекуну была не по карману. Очевидно, ему следовало заниматься усерднее.
«В депрессии и мрачен, как всегда, – писал он в дневнике первого января нового, 1910 года. – Помоги мне, боже! Чувствую себя слабым и усталым». Рональд впервые начал вести дневник – или, по крайней мере, этот дневник был первым, который дошел до нас. Теперь, как и позднее, он поверял дневнику в основном свои горести и печали. Когда уныние рассеялось, Рональд перестал вести дневник.
Теперь перед Рональдом стояла дилемма. Их с Хилари переселили на новую квартиру, но отсюда было не так уж далеко до дома миссис Фолкнер, где по–прежнему жила Эдит. Отец Френсис потребовал прекратить роман, но он не запрещал Рональду видеться с Эдит. Рональду ужасно не хотелось обманывать своего опекуна, но все же они с Эдит решили продолжать тайно встречаться. Они провели день вместе, выехав на поезде за город и обсудив свои планы. Они зашли к ювелиру, где Эдит купила Рональду ручку на его восемнадцатый день рождения, а он купил ей наручные часы ценой в десять фунтов шесть пенсов на ее двадцать первый день рождения, который они отпраздновали назавтра в чайной. Эдит решила принять приглашение пожить в Челтнеме у пожилого адвоката и его жены, которая очень хорошо относилась к девушке. Когда она сказала об этом Рональду, тот записал в дневнике: «Слава богу!» Это казалось наилучшим выходом.
Но их снова видели вместе. На этот раз отец Френсис недвусмысленно дал понять, что запрещает Рональду видеться с Эдит и даже писать ей. Ему дозволили повидаться с нею только один раз: попрощаться перед отъездом в Челтнем. После этого они не должны были общаться до тех пор, пока Рональду не исполнится двадцать один год, – тогда опекун переставал отвечать за него. Это означало трехлетнюю разлуку. Рональд записал в дневнике: «Три года – это ужасно!»
Более своевольный юноша отказался бы повиноваться; даже Рональд, столь преданный отцу Френсису, с трудом заставил себя смириться с приказом опекуна. 16 февраля он записал в дневнике: «Вчера вечером молился о том, чтобы встретиться с Э. случайно. Молитва моя услышана. Встретил ее в 12.55 у «Принца Уэльского». Сказал, что не могу ей писать, и договорился, что через две недели, в четверг, приду ее проводить. Я повеселел, но до следующей встречи, когда я смогу увидеть ее еще хотя бы раз, чтобы подбодрить ее, так далеко!» 21 февраля: «Увидел издалека маленькую фигурку, бредущую по лужам в макинтоше и твидовой шляпе, и не устоял: перешел через улицу и сказал, что я ее люблю и чтобы держалась бодрее. Это меня немного утешило ненадолго. Молился и много думал». И 23 февраля: «Встретил ее идущей из собора, куда она ходила помолиться за меня».
Несмотря на то что все эти встречи были случайными, последствия были ужасны. 26 февраля Рональд «получил жуткое письмо от о. Ф. Он пишет, что меня опять видели с той девушкой, говорит, что я веду себя плохо и глупо. Обещает не дать мне поступить в университет, если я не перестану. Это значит, что я не могу видеться с Э. И даже писать. Помоги мне, боже! В обед видел Э., но разговаривать не стал. Я всем обязан о. Ф. и должен повиноваться ему». Когда Эдит узнала, что произошло, она написала Рональду: «Для нас наступили самые тяжкие времена».
В среду, 2 марта, Эдит покинула дом на Дачис–Роуд и отправилась в Челтнем. Несмотря на запрет опекуна, Рональд молился о том, чтобы хотя бы взглянуть на нее в последний раз. Когда ей пришло время уезжать, он отправился бродить по улицам, поначалу тщетно. Но наконец «на Френсис–Роуд она проехала мимо меня на велосипеде по пороге на станцию. Теперь я ее больше не увижу, наверно, целых три года».
Глава 4
«ЧК, БО И Т. Д.»
Отец Френсис был не особенно умен – иначе бы он понял, что, разлучая молодых людей, превращает обыкновенный подростковый роман в трагическую любовь. Сам Рональд писал тридцать лет спустя: «Быть может, ничто иное не укрепило бы мою волю настолько, чтобы этот роман стал для меня любовью на всю жизнь (пусть даже эта влюбленность с самого начала была совершенно искренней)».
В первые несколько месяцев после отъезда Эдит Рональд был угнетен и подавлен. От отца Френсиса сочувствия ждать не приходилось: тот все еще не простил своему воспитаннику обмана. На Пасху Рональд попросил у опекуна разрешения написать Эдит – и тот позволил, хотя и весьма неохотно. Рональд послал письмо; Эдит ему ответила. Она сообщала, что ей очень хорошо на новом месте и что «эти ужасные времена на Дачис–Роуд кажутся теперь только сном».
На самом деле жизнь в Челтнеме действительно пришлась ей по вкусу. Эдит жила в доме С. X. Джессопа и его супруги, которых она звала «дядей» и «тетей», хотя они не приходились ей родней. «Дядя» временами бывал сварлив, но «тетя» все искупала своей добротой: гости к ним почти не заглядывали, если не считать местного викария и пожилых друзей Джессопов, но Эдит могла общаться со своей школьной подругой Молли Филд, чья семья жила неподалеку. Эдит каждый день упражнялась в игре на фортепьяно, брала уроки игры на органе и уже начала играть на службах в приходской англиканской церкви, которую регулярно посещала. Она участвовала в церковных делах, помогала в клубе мальчиков, ездила на пикники с хором. Она вступила в «Лигу подснежника» [Политическая организация консерваторов; выступает в защиту англиканской церкви и монархии.], стала бывать на партийных собраниях консерваторов. Короче, Эдит жила своей собственной жизнью, и ей было очень нелегко отказаться от нее, когда пришло время.
Ну а для Рональда центром жизни сделалась теперь школа. Отношения с отцом Френсисом по–прежнему оставались напряженными, и Молельня уже не могла занимать прежнего места в сердце юноши. Но в школе короля Эдуарда нашлась и дружба, и теплая компания. Школа короля Эдуарда не была пансионом (все ученики были приходящими), а потому там не водилось ни «шлюшек», ни «элиты», столь возмущавших К. С. Льюиса в его закрытой школе и описанных им позднее в автобиографии «Настигнут радостью» [По–русски опубликована в собрании сочинений Льюиса в 8 томах, том 7]. Конечно, младшие мальчики благоговели перед старшими, но благоговение это внушалось возрастом и успехами, а не принадлежностью к некой высшей касте; что же до гомосексуализма, Толкин утверждал, что в девятнадцать лет он и слова–то такого не знал. Но как бы то ни было, теперь он с головой окунулся в чисто мужской мир. В том возрасте, когда многие молодые люди как раз начинают открывать для себя все очарование женского общества, он, напротив, старался забыть о нем и не думать о любви. Все удовольствия и открытия ближайших трех лет – а эти годы были чрезвычайно важны для его развития, не менее важны, чем годы, проведенные с матерью, – ему предстояло делить не с Эдит, а с людьми своего пола, так что он невольно привык ассоциировать большую часть радостей жизни с мужской компанией.
Чрезвычайно значимую роль в школе короля Эдуарда играла библиотека. Официально ею заведовал один из учителей, на деле же там распоряжались несколько старших учеников, носивших титул «библиотекаря». В 1911 году библиотекарями были Рональд Толкин, Кристофер Уайзмен, Р. Кв. Джилсон (сын директора) и еще три–четыре человека. Эта небольшая тесная группка организовала неофициальное объединение, называвшееся «Чайным Клубом». Вот что рассказывал о его возникновении Уайзмен шестьдесят четыре года спустя:
«Все началось во время летнего триместра и требовало немалой храбрости. Экзамены тянулись полтора месяца, и, ежели ты не сдавал экзамена, делать было особенно нечего. И мы повадились пить чай в школьной библиотеке. Народ вносил субсидии». Помнится, кто–то притащил банку Рыбных консервов, а есть их никто не стал. Мы сунули ее на полку, на какие–то книжки, и там забыли. Нашли уже много времени спустя, по запаху. Чай кипятили на спиртовке, но вот с заваркой была проблема: куда девать спитой чай? Но «Чайный Клуб» часто засиживался до конца занятий, когда по школе начинали ходить уборщики со своими тряпками, ведрами и метелками. Они посыпали все опилками и подметали. Так вот, мы подбрасывали заварку им в опилки. Поначалу мы пили чай в закутке в библиотеке. А потом, поскольку дело было летом, мы выбрались из школы и стали пить чай в универсаме Бэрроу на Корпорейшн–Стрит. Там в чайной было что–то вроде отдельного кабинета, где стоял стол на шестерых и две длинные скамьи; очень уединенное место, оно было известно под названием «Вагончик». Эта чайная стала нашим излюбленным приютом, и мы сменили название на «Барровианское общество» из–за того, что собирались у Бэрроу. Потом я стал редактором «Школьной хроники», и мне нужно было напечатать список учеников, которые чем–то отличились; и напротив фамилий тех, кто состоял в нашем обществе, я поставил звездочку и внизу вписал примечание: «Состоят также в членах ЧК, БО и т. д.» Вся школа неделю гадала, кто такие эти ЧК и БО!»
Состав этого любопытного неофициального общества несколько менялся, но вскоре образовалось постоянное ядро, состоявшее из Толкина, Уайзмена и Роберта Квилтера Джилсона. «Р. Кв.» унаследовал от своего папы выразительное лицо и живой ум; но, возможно, в качестве реакции на отцовский изобретательский энтузиазм, он свои усилия обратил в область рисунка и дизайна, в чем и выказывал немалые способности. Говорил он негромко, но остроумно, любил живопись эпохи Возрождения и восемнадцатого века. Здесь его пристрастия и умения расходились с пристрастиями двоих остальных. Уайзмен неплохо разбирался в естественных науках и музыке; он сделался отличным математиком и композитором–любителем. Джон Рональд, как называли Толкина, интересовался германскими языками и филологией и был полностью поглощен северной литературой. Общим для трех юных энтузиастов было превосходное знание латинской и греческой литературы; а из равновесия между сходными и различными вкусами, общими и необщими познаниями родилась дружба.
Вклад Толкина в дело ЧКБО, как они в конце концов стали себя называть, отражал широкий круг литературы, которую он успел переварить. Он развлекал друзей декламациями из «Беовульфа», «Перла» и «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря», пересказывал жуткие эпизоды из «Саги о Вельсунгах», мимоходом издеваясь над Вагнером, к чьей интерпретации мифов Толкин всегда относился пренебрежительно. Эти ученые выступления ни в коей мере не казались странными или необычными его друзьям: как выразился Уайзмен, «в ЧКБО их считали лишним доказательством того факта, что ЧКБО само по себе явление странное и необычное». Возможно, что и так; хотя подобные кружки были весьма распространены (и распространены до сих пор) среди образованных подростков, проходящих стадию восторженного приобщения к интеллектуальным открытиям. Позднее к кружку добавился четвертый член: Джеффри Бейч Смит, на год моложе Джилсона и на три года моложе Толкина. Смит не был «классиком», в отличие от прочих он принадлежал к современной ветви школы. Жил он с братом и овдовевшей матерью в Уэст–Бромидже и отличался, по выражению его приятелей, истинно мидлендским юмором. В ЧКБО его приняли отчасти именно за этот юмор, отчасти же за познания, которые в школе короля Эдуарда встречались нечасто: Смит хорошо разбирался в английской литературе, в особенности в поэзии. Он и сам писал стихи, и даже неплохие. Под влиянием «ДБС» ЧКБО начало открывать для себя значение поэзии – хотя Толкин проникся поэзией несколько раньше.
В школе короля Эдуарда только двое наставников всерьез пытались преподавать английскую литературу. Один был Джордж Бруэртон, а второй – Р. У. Рейнолдс. «Дики» Рейнолдс, некогда работавший критиком в лондонском журнале, пытался внушить своим питомцам некоторое представление о вкусе и стиле. С Рональдом Толкином он не особенно преуспел: тот упорно предпочитал Мильтону и Китсу латинскую и греческую поэзию. Но, однако, должно быть, уроки Рейнолдса все же косвенно повлияли на Толкина, потому что в восемнадцать лет Толкин предпринял первые робкие попытки писать стихи. Написал он немного, и стихи эти были не блестящие: обычные юношеские опусы, ничем не лучше тех, что сочиняли многие его ровесники в то время. Единственный – даже не проблеск необычного, а только лишь намек на него – проявился в июле 1910–го, в стихотворении, где описывается лес. Стихотворение озаглавлено «Солнечный лес», и там есть такие строки:
Придите ко мне, легкокрылые эльфы,
Виденьям подобны и отблескам ясным,
Из света сотканные, чуждые горю,
Порхайте над буро–зеленым покровом.
Придите! Танцуйте, о духи лесные!
Придите! И спойте, пока не исчезли!
[Здесь и далее стихи в переводе С. Лихачевой, если не указано]
Лесные духи, пляшущие на лесном ковре, – довольно странная тема для восемнадцатилетнего юнца, страстного игрока в регби, поклонника Гренделя и дракона Фафнира. С чего бы Толкину вздумалось о них писать?
Возможно, отчасти это связано с Дж. М. Барри [Джеймс Мэттью Барри (1860—1937) – шотландский драмматург и романист, автор сказки–притчи о Питере Пэне, вошедшей в золотой фонд» детской литературы, а также ряда пьес с элементом Фантастики]. В апреле 1910–го Толкин посмотрел в бирмингемском театре «Питера Пэна» и записал в дневнике: «Это неописуемо, но я этого не забуду, пока жив. Жаль, что Э. со мной не было». Но возможно, еще большую роль тут сыграл католический поэт–мистик Френсис Томпсон. К концу своей школьной карьеры Толкин успел познакомиться со стихами Томпсона, а позднее сделался едва ли не специалистом по его творчеству. «Солнечный лес» сильно напоминает один из эпизодов в первой части «Песен сестры» Томпсона, где поэт видит на лесной прогалине сперва одного эльфа, а потом целую стайку лесных духов; но стоит ему шевельнуться, и они исчезают. Возможно, именно Томпсон пробудил в Толкине интерес к подобным темам. Но, каково бы ни было происхождение этого интереса, танцующие эльфы не раз встречаются в ранних стихотворениях Толкина.
Однако главной его заботой в течение 1910 года была подготовка в повторному экзамену на оксфордскую стипендию. Толкин старался уделять занятиям как можно больше времени, но вокруг было слишком много отвлекающих факторов, не в последнюю очередь – регби. Нередко он допоздна задерживался на грязной спортплощадке на Истерн–Роуд, откуда нужно было довольно далеко ехать домой, зачастую уже в темноте, подвесив позади к велосипеду мерцающую масляную лампочку. Иногда не обходилось без травм: в одном матче Рональду сломали нос, и он так никогда и не приобрел первоначальную форму; в другой раз Рональд прикусил себе язык, и, хотя рана зажила нормально, позднее именно ей он приписывал нечеткость своей дикции (хотя на самом деле он был известен невнятностью речи еще до того, как прикусил себе язык; его плохая артикуляция была вызвана скорее тем, что он хотел сказать сразу слишком многое, чем какими–либо физиологическими причинами. Стихи он мог читать – и читал – очень выразительно). Кроме того, немало сил он тратил на языки, как реальные, так и вымышленные. Во время весеннего триместра 1910 года он прочитал первому классу лекцию с внушительным названием: «Современные языки Европы: происхождение и возможные пути развития». Лекция растянулась на три часовых занятия, и то учителю пришлось остановить Толкина прежде, чем он успел добраться до «возможных путей развития». Довольно много времени уделял он и дискуссионному клубу. В школе существовал обычай вести дебаты исключительно на–латыни, но для Толкина это было проще простого: в одном дебате, в роли греческого посла к сенату, он вообще всю свою речь произнес по–гречески. В другой раз он ошарашил своих соучеников, когда, в роли варварского посланника, бегло заговорил по–готски; в третьем случае он перешел на древнеанглийский. Все это отнимало уйму времени, так что нельзя было сказать, что он непрерывно готовился к экзамену. Однако же, отправляясь в Оксфорд в декабре 1910–го, Толкин был куда более уверен в своих силах, чем в прошлый раз.
И на этот раз удача ему улыбнулась. 17 декабря 1910 года Толкин узнал, что ему дали открытую классическую стипендию в Эксетер–Колледже [Один из старейших колледжей Оксфордского университета]. Результат был не столь впечатляющим: получить стипендию высшего разряда ему не удалось, а эта открытая стипендия, рангом чуть ниже, составляла всего лишь шестьдесят фунтов в год. Однако и это было достижением не из последних – а благодаря выходной стипендии, полученной в школе короля Эдуарда, и дополнительным средствам, выделенным отцом Френсисом, Рональд мог позволить себе отправиться в Оксфорд.
Теперь, когда ближайшее будущее Толкина было обеспечено, ему больше не приходилось дни напролет корпеть над книгами. Но и на протяжении последних триместров в школе короля Эдуарда ему нашлось чем заняться. Он стал префектом [Староста класса], секретарем дискуссионного клуба и секретарем спортивной команды. Он прочел в школьном литературном кружке доклад об исландских сагах, проиллюстрировав его отрывками на языке оригинала. Примерно в это же время он открыл для себя «Калевалу» или «Страну героев», основное собрание финской мифологии. Вскоре после этого он с похвалой отзывался об «этом странном народе, этих новых богах, этом племени бесхитростных, низколобых и хулиганистых героев» и прибавлял, что «чем больше я читал, тем больше чувствовал себя дома в этом мире и наслаждался им». Он познакомился с «Калевалой» в переводе В. X. Кирби, изданном в учебной серии «Эвримен», и теперь решился при первом же удобном случае добыть себе издание в оригинале.
Летний триместр 1911 года был для него последним в школе короля Эдуарда. Триместр, как обычно, завершился представлением греческой пьесы с хорами, положенными на мелодии из мюзик–холла. На этот раз избрали «Мир» Аристофана. Толкин играл Гермеса. Потом спели государственный гимн на греческом (это была еще одна школьная традиция), и занавес школьной карьеры Толкина опустился. «Заждавшиеся родственники отправили школьного привратника меня разыскивать, – вспоминал Толкин много лет спустя. – Он доложил им, что я вынужден задержаться. «В данный момент он находится в центре внимания», – сообщил привратник. Весьма тактично с его стороны. На самом деле я только что закончил играть в греческой пьесе и еще не успел расстаться с гиматием и сандалиями. И отплясывал нечто, что казалось мне успешной имитацией бешеного вакхического танца». И вдруг все закончилось. Толкин любил школу, и теперь ему не хотелось расставаться с ней. «Я чувствовал себя как птенец, выброшенный из гнезда», – говорил он.
Во время летних каникул он побывал в Швейцарии. Его с братом Хилари включили в группу, собранную семьей Брукс–Смитов. Хилари работал у них на ферме в Сассексе – он рано ушел из школы и посвятил себя сельскому хозяйству. Туристов было человек десять: супруги Брукс–Смит, их дети, Рональд и Хилари Толкин и их тетя Джейн, к тому времени овдовевшая, а также парочка незамужних школьных учительниц, подруг миссис Брукс–Смит. Они приехали в Интерлакен и отправились в горы пешком. Пятьдесят шесть лет спустя Рональд вспоминал об их приключениях:
«Мы шли пешком, с тяжелыми рюкзаками, по большей части горными тропами, практически всю Дорогу от Интерлакена до Лаутербруннена, оттуда в Мюррен, и закончили поход в глубине долины Лаутербрунненталь, среди ледниковых морен. Мы, мужчины, ночевали в суровых условиях, зачастую на сеновале или в хлеву, поскольку шли мы по карте и не заказывали мест в гостиницах. С утра мы довольствовались скудным завтраком, а обедали на природе. Потом мы, помнится, отправились на восток, через два хребта Шайдегге в Гриндельвальд, оставив Айгер и Мюнх по правую руку, и наконец добрались до Майрингена. Мне было ужасно жаль расставаться с видом на Юнгфрау и Зильберхорн, отчетливо вырисовывающийся на фоне синего неба.
Мы пришли в Бриг пешком. В памяти не сохранилось ничего, кроме шума: множество трамваев, которые гремели и визжали чуть ли не двадцать часов в сутки. Проведя там ночь, мы взобрались на несколько тысяч футов наверх, в «деревню» у подножия ледника Алеч, и провели несколько ночей в гостинице–шале, под крышей и в постелях – или, точнее, под постелями: «постелью», bett, у них назывался бесформенный мешок, в который надо было кутаться.
Однажды мы отправились в длинный поход с проводниками на ледник Алеч, и там я едва не погиб. У нас были проводники, но лето выдалось жаркое, а они то ли не приняли этого в расчет, то ли им было все равно, то ли мы поздно вышли… Как бы то ни было, в полдень мы шли гуськом по узкой тропинке, справа от которой был снежный склон, тянувшийся до самого горизонта, а слева – обрыв и пропасть. В то лето растаяло много снега, и обнажились камни и валуны, которые, по–видимому, обычно занесены. День был жаркий, снег продолжал таять, и мы с тревогой увидели, как некоторые камни, величиной от апельсина до футбольного мяча, а кое–какие и покрупнее, начинают катиться вниз по склону, набирая скорость. Они пересекали нашу тропу и обрушивались в пропасть. Поначалу они двигались медленно, а потом обычно катились по прямой, но тропа была неровная, так что приходилось еще и смотреть под ноги. Я помню, как шедшая передо мной туристка (немолодая учительница) внезапно вскрикнула и метнулась вперед, и через мгновение между нами, буквально в футе от меня, просвистел здоровенный камень. Колени у меня довольно немужественно затряслись.
Потом мы отправились в Вале, но тут мои воспоминания менее отчетливы. Однако я помню, как мы, грязные и оборванные, приплелись в Церматт и как французские bourgeoises dames [Дамы из буржуазии (франц.)] разглядывали нас в лорнеты. Мы взобрались с проводниками в хижину Альпийского клуба, обвязавшись веревками (а не то я бы свалился в расселину в леднике). Я помню ослепительную белизну заснеженных склонов, отделявших нас от черного пика Маттерхорна в нескольких милях оттуда».
Перед возвращением в Англию Толкин купил несколько художественных открыток. Среди них была репродукция картины немецкого художника И. Мадденера. Она называется «Der Berggeist», «Горный дух». На ней изображен старик, сидящий на скале под сосной. У него белая борода, на нем круглая широкополая шляпа и длинный плащ. Он разговаривает с белым олененком, который обнюхивает его протянутые ладони; лицо у него насмешливое, но добродушное. Вдали виднеются горные вершины. Толкин бережно хранил эту открытку. Много лет спустя он написал на листке бумаги, в который она была завернута: «Прототип Гэндальфа». Путешественники вернулись в Англию в начале сентября. Очутившись в Бирмингеме, Толкин принялся собирать вещи. В середине октября его прежний школьный учитель, Дики Рейнольде, у которого была машина, любезно предложил подвезти его до Оксфорда. И Толкин прибыл в Оксфорд к началу своего первого триместра в университете.